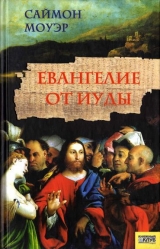
Текст книги "Евангелие от Иуды"
Автор книги: Саймон Моуэр
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
– Почему цветы должны вызывать у меня отвращение?
– Разве у тебя нет аллергии на подобные вещи в твоем мире самоотречения? – Мэделин чуть скривилась. Ее лицо отражалось в окне; он видел и само лицо, и нечеткое, молочное отражение. – Извини. Я сама напросилась в гости, а теперь еще и грублю. Начнем с того, что я вообще не уверена, стоило ли мне приходить сюда. Я хочу поговорить о Джеке, о нашем с ним браке, но я сомневаюсь, что ты подходящий собеседник. Мне нужен приходский священник. У приходского священника, скорее всего, не будет схожего личного опыта, но он уже выслушивал подобные проблемы тысячу раз. В этом ведь и состоит задумка, правильно? Тогда как ты… – Лео позволил ей выговориться. Слова лились сплошным потоком, балансируя между дружеской беседой и исповедью. – Ты когда-нибудь думал о женитьбе? Это хамство с моей стороны – спрашивать об этом… Может, ты не интересуешься… ну, женщинами. Я перепутала время. Может, ты не интересовалсяими. Мы ведь об этом уже говорили, помнишь? Ее, кажется, звали Элиза? В любом случае, я сую нос не в свое дело. Но я интересоваласьмужчинами, что, по-моему, вполне очевидно. Интересовалась одниммужчиной, как и подобает приличной девушке-католичке. Конечно, у меня было несколько любовников до Джека. Но сейчас я утратила к своему мужу всякий интерес.
В процессе беседы Мэделин как будто преодолевала бездну, и когда она повернулась, чтобы взглянуть на Лео, ее улыбка была направлена вглубьнего. Раньше с ним не случалось ничего подобного. Она была первой.
– Как ты думаешь, что мне делать? – спросила Мэделин, и Ньюман понял, что он практически не слушал ее. А если и слушал, то не понимал, как будто она говорила на иностранном языке, и, слыша каждое слово по отдельности, он все-таки упускал суть. Ведь целое всегда превосходит сумму составляющих.
– Делать?…
– Да, делать.Ты меня не слушал, правда? – Она вдруг ухмыльнулась, довольная, что смогла разоблачить его. – М-да, замечательный ты исповедник. Или это слишком скучная тема для разговора?
– Разумеется, я тебя слушал. Твой брак исчерпал себя. Но разве этого не следовало ожидать? Все с этим сталкиваются и борются, как умеют.
– А как насчет твоего брака? Со Святой Матерью Церковью. Он себя не исчерпал?
– Мы о ком говорим – о тебе или обо мне?
– Прости. Я не должна вмешиваться. Обо мне… Мы говорили обо мне. Проблема в том, что мне не с кем поговорить, кроме тебя. Ты это понимаешь, Лео?
– Кроме меня?…
– Понимаешь ли, твоя роль в моей жизни сильно изменилась…
Тревога. Тревога – это утонченный страх, тонкая патина страха на поверхности каждого поступка.
– Изменилась? Боюсь, я не понимаю…
– Ты был священником, а стал… другом. Прости, наверное, это не следует разграничивать. Я не исповедуюсь тебе, Лео. Я просто женщина, которая ведет доверительную беседу с другом.
И он подумал: женщина, 'issâ,поскольку она произошла от мужчины, 'is.К женщинам в Библии отношение неоднозначное, начиная, конечно, с Евы. Змеи, извиваясь, проскальзывают в женскую логику, протягивая плод запретного знания, знания, которое таится там, под складками материи, между крепкими, немужскими бедрами. Сложный вопрос – женщины. Достаточно вспомнить ее тезку – Марию Магдалину, женщину, из которой изгнали семерых бесов.
– Но отец Лео теперь стал просто Лео, – говорила Mэделин, – с которым я могу поговорить не как с духовником, а как с обычным и, надеюсь, способным к состраданию человеком. И еще я надеюсь, что не навязываюсь ему. – Лео пролепетал что-то в ответ, но она будто не заметила – лишь безучастно ему улыбнулась и призналась, что ее брак терпит настоящий кризис. – Ах, Лео, серьезный кризис. Вера, любовь и все прочее… Я снова излагаю невнятно? Перед тобой стоит абсолютно беспомощный человек. – Она засмеялась. На первый взгляд, это был ее обычный, открытый смех, с резким, пряным привкусом самоиронии. Простой приятель никогда бы не распознал в глубине этого смеха никакого отчаяния или огорчения. Но в нем было и отчаяние, и огорчение. И Лео откуда-то это было известно, и столь интимная подробность беспокоила его. – Я утратила веру, Лео. Вера исчезла, пропала, фьють! – и нет, растаяла облачком пыли. Ты можешь вернуть ее своими тонкими иезуитскими аргументами? Я больше не люблю Бога, потому что перестала верить в его существование; я больше не люблю Джека, который, мне кажется, давно уже разлюбил меня, потому что в некотором смысле я перестала верить и в его существование. Наверно, я говорю, как глупенькая девочка-подросток?
– Отчасти.
– Но есть одно отличие. Я могу действовать. У подростков подобные настроения обычно проходят без следа. Но я могу действовать.
– И что же ты можешь сделать?
Мэделин покачала головой.
– Еще не знаю. Но возможность действия, она рядом. Я ее чувствую. Понимаешь, тебе ведь дается только один шанс не так ли? Я знаю, ты не настолько глуп, чтобы зачитывать мне набившие оскомину истины: ну, там, небесный чертог, береги себя к Судному дню… У человека моего возраста остается только один шанс. И я обязана им воспользоваться, так ведь?
– Обязана? Кому?
– Самой себе. Никого ведь больше нет.
– Я думал, есть еще кое-кто. Например, дети.
Она на некоторое время глубоко задумалась.
– Ты помнишь Сан-Крисогоно?
– А что именно? – Тревога росла, принимая все более отчетливые формы, превращаясь в обыкновенный страх Паника вставала комом в горле.
– Наш поход туда?
– Конечно. – Ощущение ее тела, сжатого в объятиях, ее хрупкого тела, ее плеч, накрытых его руками, ее головы, склоненной прямо возле его лица, ее волос, запаха ее волос… Сосредоточенность человека, окунувшегося в кромешный мрак, когда она стала для него единственным живым существом в мире – вернее, не она сама, а ее прикосновение, ее тактильное присутствие, которым ограничился весь мир. Паника…
– Сейчас я точно в таком же положении, Лео. Во тьме. Мне не видно ни зги. – И Мэделин вдруг расплакалась. Казалось, ничто не предвещало этих слез, этого естественного проявления всех тех малопонятных эмоций, что скрывались за внешним спокойствием. Лео встал, подошел к ней и положил руку ей на плечо – неуклюже, будто утешал друга, внезапно давшего волю постыдной слабости; она тоже подняла руку и сжала его ладонь, принялась ее гладить и повторять: взрослые просто так не плачут, в отличие от детей, правда же?…
Истерия. Конечно, его об этом предупреждали. Истерия, от hystera,что значит «матка». Насколько он понимал, это отличало именно женщин. Иезавель, Сусанна – эти имена являются мужчинам, давшим обет безбрачия, в страшных снах. Саломея отбрасывает полог и вращает бедрами, пока Ирод призывает рубить головы с плеч. Далила гладит голо уСамсона и тянется к ножницам, продолжая источать ль вые, соблазнительные речи. Юдифь поднимает саблю…
– Я в порядке, – через некоторое время сказала Mэделин. – Боже, как же мне неловко. Со мной все в порядке. – Она покачала головой, стряхивая слезы с ресниц, нашла платок и промокнула лицо. – Макияж не потек? Паршиво я, наверное, сейчас выгляжу… Я беспардонно навязываюсь тебе. – Она улыбнулась, и улыбка ее отразилась даже в набрякших, покрасневших глазах, затем спросила, можно ли воспользоваться ванной. А ему пришло в голову, что едва ли женщину, которая в схожих обстоятельствах употребляет слово «беспардонно», можно назвать истеричной.
Лео подождал, пока она умоется, а когда она вернулась, ее прежнее равновесие было восстановлено. Говорила она уже тихо, будничным тоном:
– А теперь я намерена сказать то, о чем не посмела сказать в той поганой церкви.
– Поганой? – подал голос – возможно, в последний раз – строгий священник.
– Да, они все– поганые. [51]51
Английское слово bloodyможет означать как «кровавый», гак и «поганый, чертов, дрянной» (корректный синоним бранного fucking)
[Закрыть]Вся религия обагрена кровью – взгляни на распятие, на Сердце Господне, на Искупительную Кровь, на все что угодно. Вся религия утопает в крови. «Обширные кроваво-красные моря». – Мэделин утратила свою эфемерную красоту и теперь имела вид решительный, но унылый; губы ее сжались в своеобразную улыбку, невеселую улыбку, словно в лицо ей дул ветер, или хлестал дождь, или лупили еще какие-нибудь стихийные бедствия. – Я буду говорить, и из простого человеческого сочувствия ты меня выслушаешь – если не найдешь иной причины. – И он понял, что имеется в виду, еще до того как она заговорила. Ведь это было, на самом деле, столь очевидно…
– Я влюбилась в тебя, – сказала Мэделин. – Истерика прошла. Я никогда в жизни не говорила столь серьезно. Я знаю, что это безнадежно. Я знаю, Лео. Я знаю.Но так уж получилось. – Осторожно, словно балансируя на краю пропасти, она показала ему свои ладони – в доказательство, что она потеряла всякую надежду и опору и теперь готова шагнуть в бездну. Лицо ее побледнело. Веснушки на носу темнели, как клейма. Он видел морщинки вокруг ее глаз, сухие мазки бровей, неровную текстуру кожи, линии, прочерченные временем на ее лице.
Лео подошел к ней и, протянув руку, коснулся ее щеки В физическом плане ничего больше не произошло – простое прикосновение к щеке, однако он таким образом совершил то, в чем отказывал себе так долго, отказывал почти тридцать лег.он вступил в телесный контакт. Да, были рукопожатия иногда можно даже обняться и поцеловаться. Но никогда не станешь касаться чьей-то щеки. Интимная связь, плотский акт, ощущение чужой плоти, покрытой легким пушком, неожиданно, поразительно мягкой плоти. Он коснулся ее щеки и она издала еле слышный неразборчивый звук, словно мышь или другой мелкий зверек, возможно, кем-то раненный. Издав этот звук, Мэделин приблизилась к нему, и они обнялись, совсем как во тьме церкви Сан-Крисогоно. Склонив голову, она прижалась к его груди. Но на сей раз горел свет, и нежность между ними была очевидна, и ему не оставалось ничего иного, кроме как опустить подбородок и неловко – опыт, как приобретать опыт в подобных вопросах? – прижаться к ее волосам, к шелковому пушку на загривке…
Запах ее присутствия – странный, чужеродный запах – переполнял Лео. Он казался самым важным, более важным, чем любые церковные празднества, более насущным, чем любое рациональное зерно, – ее запах, немного животный и немного цветочный, теплый аромат ее кожи и волос, смешанный с густым фруктовым духом; иррациональное изгоняло доводы рассудка… Лео вновь почувствовал нечто вроде паники, некое возбуждение, зачастую возникающее вследствие испуга, некую ужасную рассеянность, свойственную, скорее, сумасшедшим; он также почувствовал неизбежное обвинения в ереси.
– Лео, – пробормотала Мэделин, по-прежнему прижимаясь к его груди, – что мы будем делать? Что же нам c тобой делать?…
Малярия – 1943
Она рассказывает Лео о своем детстве, о том, как она жила в моравском городе Махрене близ Бухлова. Она боком сидит на краю кровати, опершись на подушку; она обнимает ребенка за плечи, поигрывая прядью его волос Мальчик слушает ее, широко раскрыв глаза, как будто она рассказывает сказки, предания глубокой старины, и в лесах на взгорье Хриба (она запросто произносит корявое славянское название) действительно есть волки, дикие вепри и гномы Еще там, среди деревьев, высятся огромные черные замки. Она описывает сказочный мир, утраченный мир, что продолжает жить лишь в воспоминаниях и на кинокадрах, мир лошадей и экипажей, света ламп, мир долгих зимних вечеров, когда целые деревни были изолированы друг от друга и от города снежными заносами; она рассказывает сыну о доме, где она родилась и жила до замужества: «Мы называли его Zamek.Говорят, сам генерал-фельдмаршал Кутузов останавливался там накануне битвы при Аустерлице. О, это было великолепное жилище! А какие там были сады! Сады с павлинами, питомником, в котором выращивали деревья, фуксарием – любимым детищем папы. Он всегда говорил, что каждый человек должен найти себе занятие по душе, и выращивание фуксий стало его основным хобби. А мы прятались в питомнике, мы с твоим дядей. И нас искали по нескольку часов, да так и не находили…» Волна слов спадает, и место детских фантазий занимает память взрослого человека.
«А в 1926 году я познакомилась с твоим отцом. Мы были в Мариенбаде. Мы раньше ездили в Мариенбад на воды по четыре раза в год. Папа говорил, что предпочитает этот курорт Карлсбаду, потому что там тише и просторней. Карлсбад-в-канаве, вот как мы его называли. Комнаты мы снимали в Веймаре, куда ходили абсолютно все, и там-то я и встретила твоего отца…»
Все меняется. Мы стареем. Центр жизни – а именно, детство – рассыпается на части.
«Это было летом. Он получил отпуск в Министерстве иностранных дели остановился у своих друзей, живших неподалеку. Понимаешь, тогда границы не имели значения. Их можно было пересекать когда угодно, и, переезжая из Баварии в Австрию, а оттуда – в Богемию, ты будто бы оставался в одной и той же стране. И я спустилась по широкой лестнице, я была такой молодой и красивой – всего шестнадцать лет! – а там был он, курил с компанией друзей, и он просто обернулся и взглянул…»
Утраченный мир. Центр не выдерживает нагрузки, Mitteleuropa [52]52
Mitteleuropa (пол., нем.) – Средняя [Срединная] Европа (термин геополитики; предложен Ф. Науманном; пространство, промежуточное между Россией и Атлантическим побережьем Европы; традиционно рассматривается как зона преимущественно германского влияния).
[Закрыть]рассыпается на части.
«…наши прогулки по Колоннаде, когда мы пили воду и смеялись над ее ужасным вкусом – ржавчина, она отдавала ржавчиной или кровью, как бывает, если порежешься и присосешься губами к ране, – концерты и танцы в казино, прогулки по лесу – нас сопровождала моя тетка, дуэнья – о, какие же это были деньки, Лео!.. Всегда светило солнце, яркое солнышко. Он посвятил мне стихи, ты об этом знал? Стихи о моем пребывании в Мариенбаде. Они назывались «Гретхен в Мариенбаде». Представляешь, каково это, когда тебе посвящают стихи?»
Так говорила фрау Хюбер своему ребенку. Zamekпревратился в государственный музей с билетной кассой в сторожке у ворот; в фуксарии открыли магазин. В промежутке же случилось то, что случилось со всей центральной Европой: конец света.
– В то время все казалось совершенно безопасным. Вот что странно! Все казалось безопасным. Хотя это было самое опасное место в мире.
– Mutti, – спрашивает ребенок, не по годам развитый ребенок, чьи слова старше, чем он сам. – А что произойдет теперь?
– Что произойдет?…
– Здесь тоже начнется война?
Она смеется. Фрау Хюбер смеется. Ибо в этом городе жизнь настолько же безопасна, как и на всем континенте, погруженном во мрак; этот город служит убежищем от бомб и автоматов, этот город защищает щуплый мужчина с лицом отшельника, бегло говорящий по-немецки, – Папа Римский Евгенио Пачелли. [53]53
Пий Двенадцатый (1876–1958). (Примеч. ред.)
[Закрыть]
– Конечно же, здесь война не начнется. – Но она смеется, потому что не верит в это.
Тревожная ночь, ночь пронзительных сирен и резких щелчков зенитных орудий, ночь в сопровождении нескончаемого гула бомбардировщиков, невидимых в ночи над городом. Жаркая ночь полыхающих в небе огней (вероятно, прямо над Виллой), освещающих темные улицы, церкви и дворцы подобно летним молниям. Душная, знойная ночь, в течение которой семья Хюберов проводит несколько часов в бомбоубежище под Виллой вместе с другими работниками посольства, терзаясь лишь двумя вопросами: когда и куда упадут снаряды? Зенитки беспорядочно гремят где-то в отдалении. «Этим итальянцам не хватит духу, чтобы воевать», – говорит кто-то. Происходящее кажется Лео приключением, взрослым – легким неудобством. «Это блеф, – уверяет третий секретарь, ранее работавший в Вашингтоне. – Они ни за что не станут бомбить город: католическое лобби слишком сильно, чтобы Рузвельт отважился на это».
Рапорт герра Хюбера, поданный на следующее утро, в некотором роде подтверждает сказанное.
– Бомбы не нанесли никакого ущерба, – объявляет он, входя в квартиру из своего кабинета. Его жена и сын как раз завтракают. – В общем-то, никаких бомб и не было. Фотографировали город с воздуха. Американцы. Их, похоже, интересует железнодорожный вокзал.
Она пугает, эта холодная, аналитическая война, во время которой невидимые самолеты летают в ночи и фотографируют все, что им вздумается.
– Зачем им эти фотографии? Как фотографии могут им помочь?
– Будут использовать их в качестве путеводителя, когда начнут бомбить город.
– Бомбить Рим? Но как они могут бомбить Рим?Франческо сказал…
– Этот парень понятия не имеет о том, что говорит.
Утренняя суматоха: сообщения, отъезды, уклончивые рапорты, затем опровергнутые слухи. Поступают противоречивые сообщения о ситуации на Сицилии, циркулируют сплетни о письме, отправленном Папой Римским президенту США, появляются сведения о связях членов итальянского правительства с союзниками Антанты. Среди всего этого одна из секретарш принимает по телефону будничное сообщение – сущий пустяк, прорвавшийся сквозь тревожные вести: учитель Лео заболел и не сможет сегодня прийти.
– Он ранен? – спрашивает фрау Хюбер. Бомбы, пуска и несуществующие, терзают коллективный разум города.
– Просто заболел, gnädige Frau, [54]54
Gnädige Frau (нем.) –милостивая госпожа. (Примеч. ред.)
[Закрыть]– отвечает секретарша. – Говорит, лихорадка.
– Он сам вам это сказал?
– Судяпо голосу, ему и впрямь нездоровится.
Когда она набирает номер, трубку никто не берет. Ей интересно, где стоит этот телефонный аппарат, в какой квартире, за какими закрытыми дверьми и где находится тот, кто его игнорирует.
– Прогуливает, – таков вердикт герра Хюбера. – Я никогда ему не доверял, с самого начала. Вчера ночью его напутал рейд, и сегодня он решил прикинуться больным. Как вы это называете? Филонить? – «Бы» значит «англичане». Это шпилька, тонкая провокация, обвинение: ты одной ногой во вражеском лагере.
– Лучше сказать, «манкировать», – поправляет она.
– Ах да. Конечно. Манкировать. Морской термин. [55]55
В оригинальном тексте используется английский фразеологизм swing the lead– «прогуливать», в буквальном переводе – «бросать лот, измерять глубину лотом».
[Закрыть]У вас море в крови. А мы– люди сухопутные. – Ему нравится подтрунивать над ней. Однако издевки эти – абсурд, поскольку всю свою жизнь она прожила в самом сердце Европы, в месте, равноудаленном от Атлантики и Урала, от Балтии и Средиземноморья. Море она помнит только по детским поездкам на Лазурный берег и единственному визиту в дом бабушки с дедушкой возле Брайтона. – В любом случае, раз уж синьора Вольтерры нет, ты самаможешь позаниматься с Лео, правда ведь? В конце концов, педагогические таланты тоже у тебя в крови.
Эту издевку она игнорирует, но подчиняется, усаживая сына за работу, несмотря на возражения с его стороны. Утро неспешно продолжается, телефоны звонят, люди приводят и уходят, Лео жалуется. Позже она отправляется в зал Виллы и немного играет там на пианино, в одиночестве сидя в комнате, где окна наполовину зашторены от солнца – солнца, колотящего об асфальт, как молот о медь; сверчки пронзительно стрекочут в кронах деревьев, и настырный этот звук напоминает вопли новорожденных. Вскоре после обеда, скудного и невкусного, фрау Хюбер вызывает автомобиль.
Посольская машина, выделяющаяся дипломатическими номерами, уносит ее прочь от Виллы по улице Мерулана к вершине холма Эсквилин, где под палящим солнцем стоит укрепленная мешками с песком базилика Сайта Марии Маджоре. Прохожие провожают машину взглядами, и выражения их лиц могут с равным успехом означать отвращение или простое равнодушие. Итальянцы давно привыкли не обращать внимания на чужаков. Вскоре водителю приходится остановиться, чтобы спросить дорогу. Он родом из Альта Адидже, немецкоязычного городка в Южном Тироле, и города он не знает, равно как и многих реалий итальянской жизни.
– Не доверяйте этим людям, – советует он фрау Хюбер, но неясно, имеет ли он в виду их указания или порядочность вообще. Однако улицу, на которой живет Франческо, они находят без труда: это длинная узкая дорога, сбегающая с холма Эсквилин, вымощенная базальтом, ложбина между двумя рядами зданий с ржаво-красными, полуразрушенными фасадами, похожими на краснолицых стариков, что сидят перед винным магазином прямо напротив парковки. Сама улица засыпана бумагой, листы бумаги лежат в пыли: некоторые измялись, несколько разорвано, большинство же – целы, белеют под солнечными лучами – это словно снегопад посреди лета, вроде того легендарного снегопада, что укрыл холм в четвертом веке, дабы обозначить место, где должна быть построена церковь во славу Девы Марии. Один из мужчин читает вслух своим приятелям; фрау Хюбер берет листок и смотрит на него. Страница усеяна выспренними, агрессивными словами и безобразными угрозами:
«…Война у ворот вашей страны. Народ Италии способен сделать так, чтобы вновь воцарился мир. У вас есть выбор. Если вы хотите войны, мы будем воевать. Африка – наша. Наши военные суда могут обстрелять итальянские прибрежные города. Самолеты затмят солнце Италии. Наши солдатыв любой момент могут сойти на берег…»
Листовка подписана Верховным командованием Антанты.
Фрау Хюбер кладет бумажку в сумку и поворачивается к двери № 26, массивной двери наподобие входа в церковь. Ведет эта дверь в мраморный холл, темный после слепящего солнца улицы, темный и холодный по сравнению с жарой снаружи, темный, как исповедальня. По ту сторону решетки сидит портье (а он соответствует секретной атмосфере исповедальни? Навряд ли: говорят, все портье – фашистские шпионы), который провожает ее на верхний этаж – по лестнице, лифт не работает («Синьора, а чего вы хотели? Война, перебои с электричеством и так далее…»). «Угрожают разбомбить город, но я сомневаюсь. А вы, синьора? Тут же Его Святейшество и все такое… Они этого не сделают, правда? Они же не варвары».
– Неужели?
Она медленно поднимается по ступеням, из подвальной прохлады первого этажа – ближе к крыше, к теплу. Наконец, взопрев и выдохшись, она останавливается у квартиры D, piano 6,и стучит с надеждой – надеждой на что? Почему она вообще на что-то надеется? – что ей ответит голос Франческо. Но изнутри не доносится ни звука, равно как и снаружи, с улицы. Лишь неподвижный, беззвучный зной римского полудня.
– Франческо? Франческо!
Она толкает дверь, и та легко поддается. По-прежнему тишина. Она секунду колеблется, вглядываясь в полумрак квартиры. Видно лишь квадратный метр пола, угол стола и край запертой двери.
– Франческо?
И тут раздается приглушенный, нечленораздельный звук, словно кто-то силится говорить с кляпом во рту.
– Франческо?
Она переступает через порог и входит в небольшую прихожую. Справа через полуоткрытую дверь видна кухня (грязные тарелки в сушилке, кастрюли на плите, пустая бутылка на столе). Слева – открытый шкаф с двумя метлами и водонагревателем внутри.
– Франческо?
Звук, если это можно так назвать, доносится из-за закрытой двери прямо напротив. Она подкрадывается к двери на цыпочках и прислушивается.
– Франческо?
В ответ – лишь приглушенный стон, точно в ночном кошмаре. Фрау Хюбер нащупывает ручку двери, поворачивает ее, и дверь, распахнувшись, являет ее взору темную комнату с ковром на полу, кроватью у дальней стены, умывальником, шкафом с выдвижными ящиками, распятием на стене (в этом городе распятий) и человеческой фигурой на кровати. Человек обернут во влажную простыню, буквально вверчен в нее; кажется, что он вот-вот испарится в удушливой жаре.
– Чекко? – В ее голосе слышатся панические нотки, а также легкий гнев – за мужнино слово «манкирует».
Стоя у кровати, фрау Хюбер ощущает идущий от Франческо жар, лихорадочный жар, всепоглощающий жар летнего дня. Его лицо блестит от пота, рот точно заиндевел слюной, волосы намокли и слиплись. На серой подушке виднеются пятна пота. Он неуверенно шевелится, словно пытаясь от чего-то избавиться, глаза смотрят вверх – возможно, в потолок возможно, на нее, ~ но едва ли что-то видят. Она кладет ладонь ему на лоб и ощущает болезненное жжение лихорадки, а он что-то бессвязно бормочет, как будто все же способен почувствовать ее прикосновение. Она получает из его бормотания немного больше информации, чем он сам в него вкладывает. «Воды, тебе нужно воды». Кувшину умывальника пуст. Она несет кувшин на кухню и открывает кран. Действительно, чего ожидать в хаосе этого города, посреди лета и в разгар войны? Но с тех пор как римляне построили у подножий холмов акведуки, в Риме существует одна постоянная величина – вода, прозрачная, неизменно холодная вода.
Вернувшись в спальню, фрау Хюбер наполняет водой стакан, присаживается на корточки и поднимает его голову, чтобы он мог пить. Запах его тела доносится до нее, гнилостный и кислый запах. «Вода, Франческо. Вода». Вода стекает по его губам к небритому подбородку, струится по изгибу шеи на грязную подушку. Она опускает его голову, словно голову трупа, и оглядывается по сторонам. Мочалка. Она хватает мочалку с умывальника, наливает воду в таз и несет это все к кровати, после чего ставит таз на пол, опускает мочалку в таз и подносит ее к его губам, ко лбу, к щекам. Фрау Хюбер омывает его лицо и шею прохладной водой. Франческо, постанывая, вертится, будто ищет свет и не находит его.
Еще воды. Губка набухает от влаги, будто живое существо у нее в руке. Фрау Хюбер стягивает простыню и промакивает его плечи, грудь и руки. Еще воды. Его загорелая кожа краснеет, соски в колечках волос тверды и темны, как чернослив. Она вытирает его тело нежно, смывая лихорадку прочь. Ее рука кругами движется по его груди, вокруг сосков, по выступам ребер. Еще воды. Вода слегка нагрелась, и фрау Хюбер уносит тазик, чтобы обновить ее. Вернувшись с полным тазиком, она снова ставит его у кровати, становится на колени и опускает простыню до пояса. Торс юноши блестит в душной полумгле комнаты, блестит янтарным блеском загара и лихорадочной краснотой, эта горячая, пьянящая смесь… Фрау Хюбер осторожно дует на его влажную кожу, делает вдох и снова дует. Он стонет, поворачивает голову и, кажется, на одну секунду фокусирует на ней взгляд, пока она в очередной раз опускает губку в таз и вновь принимается за омовение: сначала лицо и грудь, потом – плоский живот, вокруг маленького узелка пуповины, вдоль тонкой полоски волос, исчезающей под простыней.
– Чекко? – зовет она, и он, будто превозмогая боль, поворачивается к ней.
Стоя перед ним на коленях, фрау Хюбер берется за край простыни и сдергивает ее. Замирает на мгновение, глядя на него, на его стройные голые ноги, узкие бедра, черную гущу волос и сморщенный пенис с ярко-красной головкой. Она делает глубокий вдох, как будто вот-вот начнет играть и сидит у клавиатуры, собираясь с духом и сложив руки на коленях, точно ждет поступления той толики недостающей энергии, что позволит ей это сделать. А потом она протягивает руку и бережно касается маленького, съежившегося фаллоса кончиками пальцев, как касается клавиш пианино в пассаже адажио – поглаживает, и настолько мягко, что кажется, будто музыка исходит из некоего другого источника.
Он легко вздрагивает от ее прикосновения. Она испуганно одергивает руку. Сердце ее колотится так громко, что звук отдается эхом в комнате, будто в полости барабана. Она становится на колени у кровати и смотрит, как юноша извивается, стонет и наконец вроде бы затихает. Тогда она вновь берет губку и начинает протирать его грудь, его бедра с внутренней и внешней сторон, его поджарое, сильное тело, бесчувственное в пылу лихорадки.








