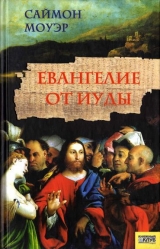
Текст книги "Евангелие от Иуды"
Автор книги: Саймон Моуэр
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Мэделин целомудренно поцеловала его в щеку.
– Пойду искупаюсь.
Он смотрел, как нелепо она скатывается с постели и топает вразвалочку в сторону двери. Ее бледные, неказистые ягодицы с темной разделительной полосой; ее полная талия и обвисшие ляжки; ее неповторимые движения, которые в тот миг вызывали в нем лишь отвращение.
– Прости, – крикнул он ей вдогонку.
Она обернулась и взглянула на него, лежащего на кровати.
– Забудь. Господи, не переживай ты так! Меньше всего на свете мне нужны твои извинения. – В ее голосе послышались гневные нотки.
– А что же тебе нужно!
Мэделин невесело рассмеялась.
– А Бог его знает. Наверное, мне нужен ты. Тебя это пугает, не правда ли? – Она развернулась и скрылась в ванной, не дожидаясь ответа.
9
На следующее утро зазвонил телефон. Лекции в институте начинались только в одиннадцать, и пока что Лео сидел дома без дела – разве что почитывал статью, которую нужно было рецензировать для вестника «Папирусология сегодня»; он находил утешение в рутине. Телефон издал свойственный ему беспардонный звук, который не терпит отказа, и Лео решил, что это она. Он снял трубку.
– Мэделин?
На том конце провода молчали.
– Это отец Лео Ньюман? – Кристальная ясность интонации, интонации Оксфорда и Кембриджа, интонации непреклонной иерархии. – Я говорю с отцом Лео Ньюманом?
Он ощутил легкое паническое покалывание в районе диафрагмы и закрыл глаза.
– Да, это Лео Ньюман.
– Епископ Квентин хочет поговорить с вами, отец.
От этого голоса Лео бросило в холодный пот – этим удушливо жарким утром. Трубку передали другому человеку, который заговорил уже с интонацией Мэйнута, [79]79
Мэйнут – город в Ирландии. (Примеч. ред.)
[Закрыть]заговорил весело, деловито и пугающе.
– Лео, дорогой, как вы поживаете? – Они еле нашли его. Они не знали, где он живет. Они беспокоились, волновались, тревожились о своем коллеге, ушедшем на вольные хлеба, беспокоились об одной заблудшей овце больше, чем об остальных девяноста девяти в отаре. – Думаю, нам стоит встретиться и поболтать, Лео, – сказал епископ. – Обсудить кое-что. Я полагаю, это твой долг – как передо мной, так и перед самим собой.
– Я жду звонка из Иерусалима. Не думаю, что мне удастся вырваться.
– А я думаю, что ты обязан это сделать.
В тот же день, пополудни, Мэделин пришла к нему в гости. Утром она звонила, чтобы договориться о времени.
– Джек прилетает сегодня вечером, – сказала она. – Мы можем немного побыть вдвоем.
Но когда она оказалась в квартире, то вела себя суетливо и рассеянно: ее планы были расстроены, Джек возвращался раньше Мэделин позвонила в офис, чтобы проверить информацию, выяснилось, что ее мужу удалось сесть на более ранний рейс, поэтому она не могла оставаться здесь надолго.
– Ах, милый, ты не одинок, и нас обжуливает рок… – казала она, сняв пальто и поставив полную покупок сумку.
– «Обманывает». И нас обманывает рок… [80]80
Ах, милый, ты не одинок, и нас обманывает рок… – строки из стихотворения Роберта Бернса «То a Mouse» (в русском переводе С. Я. Маршака – «Полевой мыши, гнездо которой разорено моим плугом»). В английском языке строчка оригинала: «The best laid schemes о' mice an' men…» – стала крылатой и означает то, что даже самые тщательно продуманные планы могут в любой момент разрушиться из-за вмешательства внешних обстоятельств. Заглавие романа Дж. Стейнбека «Of Mice and Men» также, разумеется, взято из данного стихотворения
[Закрыть]
– Педант. Мне придется что-нибудь придумать, если я опоздаю. Дескать, забыла что-то купить… Вот, держи подарок.
Она развернула один из свертков у него на глазах. Внутри оказался чай различных сортов: «Сушонг», «Зеленый порох» и прочие нелепицы.
Мэделин подошла к Лео, обняла и прижалась к его груди.
– Я прощена? – спросила она. Они словно вновь оказались в тесной исповедальне, где она просила отпущения грехов своих.
– А за что мне тебя прощать?
– Вчера я обошлась с тобой жестоко.
– Да ну?
– Это же был первый раз. А в первый раз бывает сложно…
– Неужели? Ты говоришь так, как будто немало повидала на своем веку. – Интересно, подумал Лео, а она хорошо разбирается во всем этом: во внезапных телефонных звонках, в тайных свиданиях, подарках? Досконально ли ей известна эта сторона жизни?
Мэделин застыла, прижавшись к нему, и не смела шелохнуться.
– Ну, несколько раз было. Это тебя шокирует?
– Меня практически ничто не может шокировать, – ответил Лео. – Священники известны своей устойчивостью к шоку. А как поведет себя Джек, если узнает о нас?
– Джек? – Ее как будто удивило это имя. Она подняла глаза, и ее слегка нахмуренный лоб с россыпью бледных веснушек оказался в считанных дюймах от его лица. – Рано или поздно он непременно узнает, ты так не считаешь? Мы же не можем обманывать его вечно. Люди чувствуют подобные вещи. Они догадываются о подобных вещах…
– Правда?
– О да. Святая правда.
– А потом?
Мэделин пожала плечами, высвобождаясь из его объятий, отошла к столу и принялась наводить там порядок, а именно – расставлять принесенные ею же предметы.
– Наверное, проявит чудеса понимания. Ты же знаешь, какой он понимающий. Это отвратительное слово, но Джек и впрямь ужасно милый.Или, можно сказать, порядочный. Очень порядочный, очень культурный, очень британский. Если бы он узнал, то принялся бы, скорее всего, утешать меня.
Глагол «познать», этот странный библейский эвфемизм. Лео познал Мэделин, познал ее запах и вкус, познал, какое несовершенное нагромождение плоти и волос представляло собой ее тело, однако – удивительный факт! – он в то же время осознавал, что отныне не знает таящуюся в этом теле личность. Интимное физическое знание каким-то образом уничтожило то понимание ее натуры, которым он располагал раньше. Что ему было известно о ее супружеской жизни? Что он знало тайной жизни этих двоих, о той эмоциональной жизни которая управляет браком, о либидо, которое управляет женщиной? Что скрывалось за внешним фасадом? Лео заметил, что акцент Мэделин становится отчетливей, когда она говорит о муже, как будто, вознося ему хвалу, она одновременно отстраняется от его предполагаемой «английскости», его порядочности. К экзотическому аромату чая примешивался пикантный запашок лицемерия.
– Сегодня утром мне звонил Кэлдер, – сказал Лео, намереваясь перейти на более безопасную территорию.
– Кэлдер?
– Те люди в Иерусалиме, они хотят, чтобы я вернулся. Пока что я попросил об отсрочке, но рано или поздно мне придется поехать туда.
– Придется?
– Папирус. Если я хочу быть причастным…
– А ты хочешь?
– Конечно, хочу.
– Значит, ты бросишь меня.
– Не говори глупостей.
Она рассмеялась, пытаясь развеять страх и обратить все в шутку.
– Мне пора уходить. Я позвоню тебе, как только смогу.
Главную новость он держал про запас и выложил только тогда, когда она уже уходила.
– А еще меня вызывают в Лондон, – сказал он. – Завтра. Мэделин остановилась.
– Вызывают?
– Мой епископ зовет меня туда.
– Но они же не могут знать о наших отношениях.
– Мне кажется, они чувствуют, что я сбился с пути истинного.
– И пытаются вернуть тебя…
– Вроде того. Тут также замешан и свиток. Возможно им уже об этом известно.
– Почему бы им не оставить тебя в покое? – В ее глазах заблестели слезы. Ее душевное равновесие явно было нарушено. – Почему они не позволяют тебе сделать свой выбор?
– Они тоже обладают некоторыми правами, тебе не кажется?
– Господи, а это что значит?
– Ничего. Это входит в их обязанности, вот и все. Нельзя винить их за это.
– А меня, значит, винить можно?
– Я никого не виню. Я знал, что рано или поздно это случится, и теперь готов это принять.
– Что ты им скажешь? Что ты скажешь им о нас, если точнее?
– Я не знаю, что я им скажу,
– Когда ты улетаешь?
– Я ведь уже сказал: завтра. В одиннадцать.
– Завтра! Где ты будешь жить?
– У иезуитов на Фарм-стрит. Они благосклонны к отступникам.
– А ты – отступник?
Лео беспомощно замотал головой.
– Не знаю, Мэделин. Я попросту не знаю…
Она задумчиво смотрела на него, нахмурив лоб и покусывая нижнюю губу. Он и сам кусал эту губу и знал вкус ее безапелляционности.
– Лео, – спросила Мэделин, – а ты по-прежнему веришь? – Вопрос был довольно неожиданным – точнее говоря, вопрос шокировал. Их отношения зиждились на шатком фундаменте иллюзии и шутки, а не на содержательных дискуссиях о вопросах веры.
– Верю ли я?…
– В Бога, в Иисуса Христа, во все то, с чем ты до сих пор связан. Ты знаешь, что я имею в виду. Тот свиток. Я. Это не заставило тебя усомниться?
Он пожал плечами.
– Вера не может испариться просто так.
– Да? А со мной произошло именно это. Она испарилась, как вода из высохшего водоема, не оставив после себя ничего кроме грязного дна, и нескольких мутных лужиц, и прелого запаха предрассудков. Помнишь, как я пришла к тебе на исповедь? Так вот, это был последний миг моей веры. Думаю, озеро тогда уже напоминало, скорее, небольшой прудик, но не успело еще деградировать до лужи.
– Значит, я отверг тебя в годину тяжких испытаний?
– Вовсе нет. Благодаря тебе я смогла поверить в нечто новое. А на мой вопрос ты так и не ответил.
– Быть может, потому, что я не знаю ответа.
– Иными словами, не можешь отличить пруд от лужи? – Мэделин засмеялась, но это был ее особый смех – невеселый, прогорклый. – Так больше не может продолжаться, – сказала она. – И ты это знаешь.
– А какой у нас есть выбор?
– О, выбор у нас есть, и еще какой! Ты отрекаешься от сана, я бросаю Джека.
– Ты бы не смогла…
– Конечно, смогла бы. Боюсь, это ты не смог бы.
Лео проигнорировал колкость.
– А как же дети?
– С детьми я могла бы видеться во время каникул. Я все равно вижу их, в основном, во время каникул.
– Как ты можешь так говорить?!
– Это проще простого, Лео, – ответила Мэделин, и акцент ее, прежде едва заметный, усилился из-за прилива эмоций. – Дети – на втором плане. Звучит чудовищно? Но это так. Во главе угла всегда остаешься ты сам, ты и только ты. Вот что означает любовь.
– А я думал, любовь означает самоотречение и самопожертвование.
– Это лишний раз доказывает, в чем состоит твое заблуждение, мой бедный, одураченный глупыш. Любовь – это самое эгоистичное чувство на свете. Вот почему Церковь до сих пор настаивает на целибате. – Она улыбнулась ему и печально покачала головой. – Ты ведь сам не хочешь этого, Лео. Ты не хочешь двигаться дальше.
Лео тяжело вздохнул. Его изумляло, насколько это сложно и каких физических усилий это требует. Он как будто враз утратил всю свою уверенность. Тяжело дыша, он смотрел на нее, а она смотрела на него. И тогда он ощутил, что в некотором смысле новый способ познания этой женщины – как бы абсурдно сие ни звучало – отдалил ее от него, сделал ее менее понятной и родной. Мэделин перестала быть другом соратницей, человеком, с которым он мог поделиться своим восторгом. Она была неизведанной территорией, на которую он вторгся, островом тщеславия и треволнений. У Лео не было никаких ориентиров или отправных точек, ничто не могло послужить ему путеводной нитью в этой чащобе похоти и отвращения. Он понял двуликую природу любви. Он любил Мэделин – и в то же время ненавидел.
– А мы не могли бы сделать шаг назад? – задал Лео нелепый вопрос. – Мы не могли бы вернуться к прежним отношениям?
Но возвращение не представлялось возможным, и ничего исправить было нельзя. Он знал это и без нее. Нельзя очистить память, нельзя распутать хитросплетения жизненного опыта. Нельзя воскресить мертвого припарками. Он отлично это знал – даже тогда, когда она жестоко осмеяла его предложение.
– А ты бы этого хотел?
– Дело не в том, чего бы я хотел, – сказал Лео.
– А в чем же тогда дело?
– В том, кем я являюсь.Возможно, я инвалид. Да, наверное в этом дело. Искалечен долгими годами воздержания. Наверное, какая-то часть меня атрофировалась. С любовью к одному конкретному человеку справиться гораздо сложнее, чем с любовью ко всему человечеству как таковому.
– Но я не думаю, что ты действительнолюбишь все человечество. Я думаю, ты, скорее, презираешь людей. Я думаю, что за все эти годы ты привык любить одного только Лео Ньюмана, вот в чем беда. И попытка полюбить Мэделин Брюэр для тебя чревата стрессом. – Ее взгляд был ясен и остр, а улыбка повисла на лице так нелепо, что, казалось, могла в любую минуту упасть на пол. – Лео Ньюман, – сказала она, – любишь ли ты меня так, как я люблю тебя? – Ее слова разносились удивительным эхом, словно настоящая ритуальная мантра. Словно Мэделин цитировала строки малопонятной литургии, суть которой была ей недоступна.
– Я не знаю. Я не знаю,как ты меня любишь. Насмешки вроде этой когда-то интриговали его.
– Так было испокон веков. Из-за этого в отношениях между мужчиной и женщиной всегда возникали проблемы. Никто не знает этого и никогда не узнает. Ты просто бредешь себе вдаль, исполненный надежды, и время от времени возникает мимолетная иллюзия, будто ты знаешь,будто вы любите друг друга одинаково и в равной степени. – Мэделин подошла к Лео и, обвив его плечи руками, привстала на цыпочки, чтобы поцеловать в губы – очень нежно и осторожно. – Я могу отвезти тебя завтра, если хочешь.
– Отвезти меня?…
– Да, отвезти тебя. В аэропорт. Неужели я не могу отвезти тебя в аэропорт?
– Можешь, – ответил он. – Да, думаю, можешь.
– Я приеду завтра утром, пораньше.
Она снова поцеловала его. Лео ощутил влажность ее губ, и горечь ее слюны, и откровенную нежность ее языка у себя во рту. А потом она ушла, и ему оставалось лишь слушать цокот ее каблучков по лестнице.
10
Когда она приехала на следующее утро, он едва успел одеться. О ее приходе возвестил лишь скрежет ключа в замке, как будто Мэделин тоже являлась равноправной хозяйкой квартиры. Банальное приветствие. Поцелуй в щеку.
– Ты так рано…
Она пожала плечами.
– Я думала, что приеду как раз вовремя. Приговоренный к смерти должен вставать чуть свет.
– А я – приговоренный?
– Ну, грядет ведь встреча со Священной Инквизицией, не так ли?
– Инквизиция – по крайней мере, то, что от нее осталось, – находится здесь, в Риме. А я просто побеседую со своим епископом.
– Но это же только начало? Начало длительного и сложного процесса. Аутодафе, так ведь это называется?
Мэделин открыла окно и выбралась на балкон. Оказавшись в поле зрения Лео, она точно так же глубоко вдохнула, издала точно такой же восторженный звук, как и в тот раз, когда они впервые узрели этот вид вместе – всего несколько недель назад в привычном исчислении, но это была вечность, световой год, бесконечность в ином измерении. Она стояла у парапета спиной к нему, как пассажир у корабельных перил, что созерцает бурлящий, мятущийся океан. Легкий бриз хватал ее за волосы и играл ими, так что ей пришлось удерживать пряди рукой. Лео разглядел толстые канаты сухожилий под жемчужной кожей ее руки, разглядел тонкие линии вен – голубые, как дым.
– Отсюда можно смотреть сквозь фонарь на соборе Святого Петра, – сказала Мэделин. – Ты не замечал? Можно рассмотреть небо сквозь фонарь.
– Только когда садится солнце. Опускаясь, оно просвечивает сквозь фонарь. Такое наблюдается только пару дней в году.
– Может, это что-нибудь да значит?
– Что? Ради всего святого, что это можетзначить?
Она, не двигаясь с места, любовалась открывавшимся видом. Возможно, она пыталась представить этот закат за фонарем, когда осколки света очерчивали изящный силуэт, и на эти считанные мгновения камень будто бы пожирало пламя. Затем Мэделин развернулась и оказалась прямо напротив Лео, отделенная от него лишь узкой терракотовой полоской балкона. – У нас уйма времени, – сказала она. – Я специально приехала так рано, неужели ты не понимаешь?
– Специально?
– Не будь таким наивным, – сказала Мэделин и отошла в сторону. А Лео остался, где стоял, окольцованный всем городом. Облака каскадом струились по весеннему небу, скворцы выписывали дивные, спиралевидные арабески в синеве, купола и башни вращались, словно элементы некоего гигантского механизма, детали машины, шестерни и колесики средневекового аппарата. Лео замер. Он слышал приближение звуков нового дня, скрип и лязг этой машины, рев транспорта, людской гомон, чей-то голос на противоположной стороне улицы, слышал, как захлопываются двери. А Мэделин ждала его в комнате.
Когда они приехали в аэропорт, небо уже покрылось ошметками облаков, а на асфальте жирно блестели дождевые капли. На дорогу она почти не смотрела, без умолку тараторя о своих семейных делах и каких-то общеизвестных банальностях, как будто между ними ничего не было, как будто они не познали вместе горечь и сладость запретного плода с дрова познания добра и зла, как будто они никогда не вкушали от ускользающего, одномоментного экстаза. «Джек снов полетит в Лондон на следующей неделе, – болтовня такого рода. – А девочки приедут на каникулы только после этого Сначала на несколько дней поедут к бабушке с дедушкой Это в графстве Суррей. Родители Джека, разумеется».
Но в безликих тенях многоэтажного гаража ее настроение переменилось. Мэделин повернулась к Лео, взяла его за руку Выглядела она глубоко потрясенной и растерянной, словно жертва землетрясения, которая теперь ковыряется в обломках своей разрушенной жизни.
– Я люблю тебя, Лео, – прошептала она, и пальцы ее вцепились в его кисть, будто в той заключалась сама жизнь. Они были ближе, чем в любой исповедальне, забаррикадировавшись от назойливого мира, возведя защитный бастион из собственных мыслей. Мимо проходили пассажиры. В полумраке мелькали автомобили.
– А теперь ты меня любишь? Любишь?
– Конечно, люблю. Разве не видишь?
– Нет, не любишь. Ты даже не понимаешь. Я люблютебя.
– Конечно, я понимаю.
– Нет, – прошептала она. – Ты ведешь себя так же, как в исповедальне. Ты представления не имеешь… Но я так больше не могу. Ты ничего не говоришь. Ты такой замкнутый. Такой холодный. – Она хихикнула. Это был странный, неуверенный звук, словно внутри у нее что-то надломилось.
– Прости…
Мэделин покачала головой, не веря его словам.
– Не извиняйся. Ради Бога, только не извиняйся.
Они вышли из машины. Молча пошли вдоль плексигласовых туннелей, мимо рекламных щитов с дорогой обувью и флаконами духов самых причудливых, невероятных форм. Мэделин встречала будущее лицом к лицу, будто снежную бурю. Эта отвага ее почти уродовала; ее острые, броские черты лица обезображивала стихия. Лео хотелось бы знать, что она чувствует, какие подводные течения омывают ее решительную сосредоточенность. Прежде ему неведом был этот парадокс – чувство отстраненности, которое влечет за собой близость, подозрение, что наслаждение, разделенное близкими людьми, имело разное значение для этих людей, а в одинаковые слова они вкладывают разный смысл.
Они забрали билет в кассе и несколько минут бесцельно слонялись в толпе. Зал ожидания был таким же просторным и безразличным, как вокзал.
– Ты ведь даже испытываешь облегчение оттого, что должен уехать, правда?
– Не глупи. Это всего на два дня. Даже меньше. Меньше, чем на два дня.
– А что будет, когда ты вернешься?
– Посмотрим.
Она кивнула, словно и сама уже знала ответ. У гейта Мэделин взяла его за руку и привстала на цыпочки, чтобы целомудренно чмокнуть в щеку. Каждый поступок, каждое движение, казалось, наделено ритуальной значимостью, которую Лео даже не мог вообразить. Он отпустил ее руки и, развернувшись, прошел через гейт к паспортному контролю. В аэропорту были введены повышенные меры безопасности. Его спросили, сам ли он собирал свою сумку. Да, сам. Кто-нибудь касался его сумки после того, как он ее закрыл? Нет, никто. Находилась ли сумка длительное время вне поля зрения? Не мог бы он ее открыть?…
Мэделин дала ему фотографию. В то утро она принесла ее с собой в квартиру, и Лео пришлось открыть чемодан, чтобы упаковать этот сувенир. Теперь фотография лежала среди его рубашек и трусов, как напоминание о данном слове; строгий, сдержанный портрет в серебряной рамке. Лео на мгновение обернулся и увидел это же лицо по ту сторону стеклянной перегородки, за рентгеновским аппаратом в другом берегу Стикса. Она помахала ему рукой, словно прощалась с обреченной душой. Потом охранник знаком велел ему проходить дальше, и Лео очутился в зале для отбывающих пассажиров, откуда Мэделин уже не было видно.
На борту самолета, летящего в Лондон, он был серым пятном среди туристов, одинокой серой фигурой в пестроте окружающего мира. Подумать только, он сидел там, зажатый с одной стороны вежливым, улыбчивым японцем, а с другой – американцем средних лет в расстегнутой рубахе и кроссовках «Найк». «Я из Рома, – повторял американец всем встречным. – Можете себе вообразить? Объясняю: из Рома, что в штате Джорджия. Не из того Рима, который в Италии». Представьте себе Лео: он улыбается, соглашается со всем, что тараторит его попутчик, и пытается пропускать его слова мимо ушей. Это поворотная точка его жизни – и даже больше: скорее, настоящий перекресток с множеством вариантов. В Иерусалиме уже распечатывают свиток; в Риме (который в Италии, а не в Джорджии) Мэделин ждет его возвращения; в Лондоне епископ ждет его прибытия. Лео сидит, словно меж двух огней, между священным и нечестивым, между дьяволом и бездной, между прошлым и настоящим. И выглядит он расслабленным и спокойным; можно сказать, держит себя в руках. Внутри него бушует ураган, паника обуяет его; лицо же остается терпеливым лицом церковника. Мысленно Лео сочиняет коротенькую молитву, совсем как дитя, желая проверить, слышит ли кто-нибудь его зов, губы же его, как ни в чем не бывало, расплываются в улыбке в ответ на слова о Роме, штат Джорджия, округ Флойд. Вам не доводилось там бывать, пастор? В мечтах он видит обнаженную Мэделин, распростершуюся перед ним; вслух же он рассыпается в благодарностях перед стюардессой и берет предложенный ею номер «Тайме
Таймс». В глубине души Лео задается вопросом, который терзал его всю жизнь, но над которым он, тем не менее, редко по-настоящему задумывался: существует ли нечто, трансцендентное либо имманентное (его устроило бы и то, и другое), что можно назвать Богом (Dio, Аллахом, Яхве, если уж на то пошло), и, если это нечто существует, не плевать ли ему (Ему?) на духовную и физическую жизнь этой пылинки, летящей туристическим классом в лондонский аэропорт Хитроу? Лео читает свой требник – возможно, в последний раз. Его вопрос остается без ответа, но тело его (какой стыд: ему приходится вертеться в кресле, чтобы не выдать себя) уверенно отвечает на настойчивые грезы о Мэделин, которая существует на отдельном, но неотъемлемом участке его разума и успела уже раздвинуть ноги. Это зрелище шокирует его в воспоминаниях, как некогда шокировало в жаркой, зловонной реальности, ибо Лео даже представить себе не мог, что зрелище окажется именно таким – подобным открытой ране, стигме на теле женщины, ране В окантовке спутавшихся волос. «Священники известны своей устойчивостью к шоку», – однажды сказал он ей. Это была неправда.
Газету, полученную еще на борту, Лео открыл только в электричке по пути из аэропорта. Пролистал ее в поисках чего-нибудь интересного, что могло бы его отвлечь. Обычные статьи, обычные рассказы о затянувшихся попытках мирного урегулирования на Ближнем Востоке, обычные наводнения, обычные политические скандалы. И на одной из страниц приложения обнаружился первый намек на иной тип бедствия, иную катастрофу:
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЕ ИСТОРИЮ РАСПЯТИЯ
Информации было мало. За словами этими слышался голос Гольдштауба, и его преувеличения смешивались с его же увертками. «Пока продолжается кропотливая работа над расшифровкой свитка, – гласили последние строки статьи, – церковные источники не проявляют особого интереса к утверждениям, которые могут противоречить каноническим Евангелиям».
По всей вероятности, Евангелие от Иуды стало достоянием общественности. Именно так выразился бы Гольдштауб.
Беседа Лео с епископом на первый взгляд казалась учтивой и сдержанной, но подводные течения омывали ее сарказмом и страхом.
– Ты уже читал статью во вчерашнем «Тайме
Таймс»? – спросил епископ.
– Читал. На Фарм-стрит только и разговоров что об этой статье.
– Они называют его «Евангелие от Иуды». Ты ведь имеешь отношение к этой истории?
– Я ездил туда, чтобы взглянуть на свиток, – признался Лео.
– И что ты думаешь по этому поводу?
– Он относится к очень раннему периоду – возможно, к первому веку.
– Ну, вообще-то, как и все Евангелия… Почему мы должны верить этому Евангелию больше? Евангелию от Иуды. Я спрашиваю у тебя: эти притязания – справедливы?
Лео пожал плечами.
– Выглядит довольно убедительно. Епископ покачал головой.
– Дела обстоят не лучшим образом и без священников, ставящих под сомнение всю историю христианства. Знаешь, чтоя думаю? Что шумиха вскоре утихнет, а ты будешь выглядеть полным кретином.
Обвинение покоробило Лео.
– Это одна из самых важных находок за всю историю изучения Нового Завета. Чем бы свиток ни оказался в конечном итоге, даже если это – пропаганда первого века, это все равно сенсация.
– А если нет?
– То есть?
Епископ внезапно дал волю гневу – и, вместе с тем, явному испугу.
– О Господи, Лео! Если это действительно относится к первому веку, но является тем, чем притворяется – личным свидетельством, описанием жизни Иисуса устами современника, вычеркнутого из евангельской традиции. Что тогда?
– Тогда Церкви придется объяснить очень многое.
Епископ покачал головой.
– Не следует изучать Веру столь подробно, Лео. Дело не в том, что Вера – ложна, даже, если угодно, в фактическом смысле. Однако научными методами ее гармонию не проверить. Галлюцинация одного человека – преображение другого. Кто наделен правом определять, какое свидетельство истинно? – Он натужно улыбнулся. Епископ был человек веселый, общительный, пользующийся популярностью у журналистов, которые всегда могли рассчитывать на добрую порцию здравого смысла. – И кто поверит в твою версию?
– Что вы имеете в виду?
– О тебе говорят, ты это знаешь? Помимо истории с Иудой. И разговоры эти непременно повлияют на степень доверия к тебе.
– Говорят, значит?…
– Ты ведь переехал из здания Института, не так ли?
– А это противоречит церковным канонам?
– Конечно же, нет. Не заводись понапрасну. Но люди говорят о своеобразной дружбе. А своеобразная дружба – это очень опасно, Лео. Ты это знаешь. Пара англичан. Дипломат и его жена.
Разумеется, Лео этого ожидал, но лицо его все равно покраснело.
– О Господи!
– Должен сказать тебе, слава этой парочки летит впереди них.
– Слава этой парочки?Брюэры – уважаемая чета. Миссис Брюэр – католичка.
– Как я понимаю, была католичкой. Я не вижу в этом ничего дурного. Половина моего прихода разуверилась в католицизме. Но мне известно, что, когда они жили в Вашингтоне, она была вовлечена в…
– Вам должно быть стыдно! – Ярость. Скорее, эмоционального, чем умственного происхождения: ярость наподобие опухоли под диафрагмой, опухоли, которая пускает метастазы по всему телу.
– Разумеется, это лишь слухи. Но все же. В Министерстве иностранных дел были личности…
– Как вы можете ввязываться в подобную мерзость?
– …которые были заинтересованы в переведении ее мужа…
– Я люблю ее, – сказал Лео. Он произнес это спокойно, но ярость клокотала прямо под тонким слоем спокойствия. – Вы говорите о женщине, которую я люблю.
Епископ замолчал. Из соседней комнаты доносился цокот клавиатуры.
– Лео, я настоятельно рекомендую тебе хорошенько отдохнуть, – наконец вымолвил он. – Ради сохранения твоего душевного равновесия. Возможно, трапписты [81]81
Трапписты – католический монашеский орден (ответвление цистерцианского ордена), отличающийся строгим уставом. (Примеч. ред.)
[Закрыть]… – Нет.
– Или бенедиктинцы, [82]82
Бенедиктинцы – члены католического монашеского ордена. (Примеч. ред.)
[Закрыть]если ты предпочитаешь менее требовательное окружение. Тебе необходимо место, где не будет споров и дебатов, а будет лишь незыблемая уверенность в Господней правде. Тебе нужно время для раздумий. Если хочешь, я свяжусь со своим старым приятелем из Субиако…
– Нет.
Епископ беспомощно развел руками. Он обвел взглядом свою унылую холостяцкую комнату, как будто надеялся обнаружить там нечто утешительное.
– Ну, по крайней мере, не мальчики-хористы. Этого я бы не вынес.
Разговор продолжился, и двое мужчин сцепились из-за любви и веры, как два пса из-за одной кости. Речь шла об отстранении от должности, о секуляризации [83]83
Секуляризация (от позднелатинского saccularis– мирской, светский) – переход лица из духовного состояния в светское с разрешения церкви. (Примеч. ред.)
[Закрыть]и отступничестве.
– Быть может, нам стоит вместе помолиться, – наконец предложил епископ. Казалось, молитва – это признак отчаяния, последняя соломинка для утопающих.
Из квартиры епископа Лео отправился в собор. Он проходил мимо объявлений, призывающих пожертвовать деньги на уход за помещением, мимо расписания служб, мимо афиш концертов духовной музыки, мимо этажерки с книгами и буклетами, мимо термометра, показывавшего успехи в сборе средств. В фиолетовый полумрак здания Лео погрузился, ощущая легкий запах фимиама, мистический и таинственный. В соборе были люди: несколько туристов слонялись туда-сюда, но, в основном, это были прихожане – те сидели на лавках или молились, встав на колени, отдавая себя в распоряжение изломанной, пронзенной фигуре, что висела над ними. Кто-то заиграл на органе. Звук взмыл к темному углублению свода, будто проникая сквозь костяк здания и заставляя собор исторгнуть негодующий вопль. Лео чувствовал, что многому приходит конец: его вере, его призванию, его несвободе. Сила молитвы была исчерпана. И сейчас он стоял в конце центрального нефа, глядя на гигантскую фигуру распятого Христа, и сейчас он был Иудой. Лео знал боль предательства, знал, насколько она необходима и неизбежна. Предательство уходило корнями в веру, оно было ее принудительным продолжением. Предательство уходило корнями в веру, в убеждения, черпало оттуда уверенность в своей правоте.
На улице лил дождь. Лео пересек небольшую площадь перед собором и вдруг ощутил весь ужас внезапной свободы. Сквозь пелену дождя пронеслось такси. Он поднял руку, и, как ни странно, машина остановилась. Водитель одним молниеносным движением включил счетчик.
– Куда едем, папаша? Вернее, отец,не так ли? Куда, отец? Быстренько смотаемся на небеса и обратно?
– Фарм-стрит, – сказал Лео. – Иезуитская община.
– Иезуиты, значит? Ну, это рукой подать…








