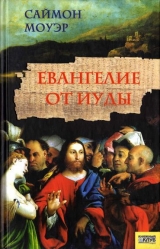
Текст книги "Евангелие от Иуды"
Автор книги: Саймон Моуэр
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Дворец Цезарей – 1943
– Я тебе кое-что покажу, если ты согласишься пойти со мной.
– Кое-что? А что именно? – Деланное недоверие. Сдавленный смешок. Густой развратный смешок.
– Сюрприз. Но сначала ты должна согласиться.
– Как я могу согласиться, если я не знаю, на что соглашаюсь?
– Придется рискнуть. – Франческо смеется над ней, дразнит, улыбается ей иронично и двусмысленно, будто искушая отказом.
– Хорошо. Я согласна.
На следующий день он ждет в своей «альфа-ромео» у сторожки привратника, в самом начале подъезда к дому. Открыв дверь со стороны пассажира, он кивает ей в знак приветствия, пока она забирается внутрь. Оба чувствуют на себе безразличный взгляд привратника.
– Куда мы едем?
– Это секрет. – Машина с ревом уносится от ворот и сворачивает к Святой Марии Маджоре, затем налево, по улице Национале, к той дороге, которую недавно проложил Муссолини, дабы уничтожить останки Первой Римской империи (той, которая действительно имела силу). Называется она Дорога Форумов Империи. Частных транспортных средств там немного. Катят переполненные автобусы, трамваи, позвякивая, вразвалочку едут по рельсам, стайки велосипедов кружат, точно скворцы, но легковых автомобилей очень мало. Расфуфыренные пассажиры провожают взглядами отважную маленькую машину, за рулем которой сидит красивый мужчина, а рядом с ним – блондинка, придерживающая соломенную шляпу, но позволяющая шелковому шарфу реять на ветру. «Tedeschi», – делают вывод они. Некоторые даже произносят это слово вслух. Немцы. «Puttana tedescal»– выкрикивает парень на велосипеде, когда машина проносится мимо и стремительно огибает Колизей, построенный императором Титом по возвращении с Еврейской войны, а ныне ставший самым крупным и шикарным островом безопасности в мире. Слово «puttana»имеет древнюю этимологию. Корни его восходят к латинскому putidus,что значит «гнилой», «разлагающийся». Puttana– это проститутка.
Машинка проезжает под Аркой Константина, мчит по улице Сан-Грегорио и тормозит у ворот где-то на середине дороги. За воротами виден поросший травой склон с зонтичными соснами. Коричневая кирпичная кладка выглядывает из-за вершины холма.
– Палатин, – говорит Франческо, протягивая ей руку, когда она сходит на тротуар. – Я покажу тебе Палатинский холм, которого ты прежде не видела.
Парк закрыт для посетителей: об этом предупреждает объявление. Но Франческо лишь ухмыляется.
– Всегда следует водить знакомство с нужными людьми, – объясняет он. – В Италии это служит залогом власти и высокого положения в обществе. – С сияющим видом он выуживает из кармана ключ. – Это, mia сага. [75]75
Mia cara (um.) – моя дорогая. (Примеч. ред.)
[Закрыть]Гретхен, наш пропуск в рай. – Он отпирает ворота и распахивает створки, пропуская даму вперед. После заходит сам и закрывает ворота на замок. Палатинский холм принадлежит им безраздельно.
Фигуры людей на фоне классического пейзажа: они бродят под портиками, забираются в туннели и выходят наружу, ведомые внезапным светом в конце, переступают через упавшие колонны, играют в прятки, как дети, среди мраморных обломков, позируют за безглавыми статуями, чтобы настоящая, человеческая голова, с черепом и всеми прилегающими тканями, заняла место исчезнувшего мраморного императора или украденной мародерами мраморной императрицы. Их смех рикошетом отлетает от кирпичных стен и в виде издевательского эха возвращается к ним…
– Скажи, каково это… – просит он, когда они задумчиво рассматривают статую Венеры, по колено утопающую в траве. Венера точно подзывает их своей культей. Лицо ее частично уничтоженное временем, по-прежнему хранит черты удивительного целомудрия. Бедра ее плотно сжаты скрывая безволосые гениталии, чтобы никто из смотрящих не смог ничего увидеть.
– Каково это – что?
– Быть женщиной.
Она смеется.
– Как может женщина объяснить это мужчине?
– Скажи, что ты чувствуешь, когда занимаешься любовью.
– Не глупи.
– Или когда рожаешь ребенка.
– Боль я чувствую. Что за идиотские вопросы!
– Я хочу понять тебя.
– Мужчины не могут понять женщин.
– Итальянские мужчины – могут. Немецкие, наверно, нет, а итальянцы – могут.
– Немецкие мужчины ничем не отличаются от итальянских.
– Очень даже отличаются. Немецкие убивают детей.
– Неправда! – Она повышает голос. Призрачная, искалеченная Венера уже не занимает ее. Вдруг ее лицо багровеет от злобы, а нос – тот самый не вполне классический нос – еще больше заостряется и белеет в напряжении. – Ты говоришь омерзительные вещи!
Он с ухмылкой следит за ее реакцией.
– Но это же правда. Они убивают еврейских детей.
– Ложь! Я не позволю тебе говорить подобные гадости! – На мгновение она допускает крамольную мысль о своем муже. Вспыхнувший было спор утихает, но хорошее настроение разрушено, подобно стадиону вокруг них. Она разворачивается и торопливо уходит прочь. Впереди виднеется дыра в стене, рядом – туннель. Он следует за ней во мрак, и на белый свет они тоже выходят вместе.
– Гретхен! – зовет ее он. – Гретхен!..
Она стоит посреди поляны, на клочке пыльной травы, смотрит вверх, затем – по сторонам. Кирпичные стены высятся подобно стенам тюремным, до самого неба, залитого ярким светом, до самых облаков, мчащих вдаль, к этим пуссеновским небесам в белых, пепельных и ультрамариновых хлопьях.
– Где мы? – ее вопрос отскакивает от стен. – Где мы? Где мы? – Бесчувственная эхолалия камня, ибо они прекрасно знают, где находятся в этот день в Риме, в 1943 году, пока дует tramontana, [76]76
Tramontana (um.) – северный ветер.
[Закрыть]a облака плывут по небу: они находятся в перистиле Дворца Августа. Они бродят по лабиринту, поднимаются по лестницам, которые могли быть построены для Августа Цезаря, входят в заполоненные тенями комнаты, где мог обедать Домициан, где мог играть на скрипке Нерон, где Тит мог возлежать с Вероникой, а после возвращаются в гигантский перистиль.
– А что если…
– Что?
Он снова приободрился и восстановил утраченный азарт.
– Что, если бы ты была императрицей…
– А ты?
– Твоим рабом.
Он смеется и вдруг берет ее за руку.
– Франческо!
– Но если предположить?
– Отпусти меня.
Для них двоих воцаряется тишина; запущенные цветочные клумбы вдавлены ниже уровня плато, словно в глубину времен.
– Скажи, – требует он и поворачивает ее в сторону, лицом к колоннам, что окружают их плотной тенью.
– Отпусти! – Она больше не смеется.
– Говори! Если бы я был твоим рабом…
Как она ни вырывается, они все же погружаются в тени колоннады. Кирпичный свод высится над ними, спертый воздух веков окружает их, двухтысячелетняя пыль лежит у них под ногами.
– Ты знаешь, где мы? Мы находимся в нимфеуме, [77]77
Нимфеум – то же, что зимний сад.
[Закрыть]месте где нимфы играли долгими летними месяцами. А ты – моя нимфа. – Она пытается вырваться, но он лишь усмехается в ответ. – Давай же, говори. Если бы ты была нимфой, а я – твоим рабом… – Остановившись у стены, он привлекает ее к себе, чтобы их тела прижимались от пояса и ниже.
– Франческо! – В ее голосе слышится паника, пускай скрытая; паника пленницы, паника беспомощной заложницы, паника испуганной жертвы.
– Ты притронулась ко мне, – внезапно говорит он. – Когда я был болен и ты меня навещала, ты притронулась ко мне.
Она замирает, неподвижная, точно пойманная птица; единственное движение, которое она себе позволяет, – колыхание груди на вдохе. Дыхание ее сдавлено паническим страхом.
– Я омывала тебя. У тебя была лихорадка. Я делала лишь то, что сделала бы медсестра.
– Ты притронулась ко мне. Том.
Она молчит. Она не отрицает.
– Ты притронулась ко мне, – повторяет он и прижимает ее к себе так сильно, что она вскрикивает.
– Прошу тебя! – Она использует английское «please». Повторяет это слово, но по интонации нельзя понять, искренна ли ее мольба, действительно ли она хочет оттолкнуть его или заклинает продолжать. – Прошу тебя, Чекко. Пожалуйста. – Неужели она и впрямь отодвигает лицо, избегая его губ? Или просто позволяет ему исследовать ее щеки, линию челюсти, шею, локоны у висков, глаза? Ситуация допускает двоякое толкование. – Пожалуйста, – вновь молит она. Сопротивляется ли она, когда он задирает ей юбку, стягивает шелковые чулки и бесстыжие белые подвязки? – Пожалуйста… – опять произносит она. Но руки ее не способны его оттолкнуть, если даже и пытаются. Он стискивает ее, сжимает ее ягодицы руками, припирает к стене, игнорируя вялый протестующий шепот, сдавливает бедра, пока она якобы отбивается от него… Поначалу акт исполнен атлетической грации, которую можно наблюдать у пары танцоров, исполняющих сложный, напряженный современный танец, но под конец зрелище становится весьма смехотворным: его штаны спущены до лодыжек, ее юбка задрана до талии, ее ноги обхватывают его бедра, а трусики разорваны. Все начиналось с волнообразных, изящных движений, с драматического напряжения, а закончилось криками, мычанием и безобразной борьбой двух тел. Гретхен постоянно взывает к своему Богу, и воззвания ее барабанной дробью разносятся по тесному пространству зимнего сада: «О Боже, о Боже, о Боже!» – звук уходит в никуда, поглощенный древней кирпичной кладкой.
Интересно, как часто это случалось здесь, в этих комнатах и коридорах? Сколько здесь было нанесено ударов, сколько прозвучало выкриков, сколько страсти вырвалось наружу?
Кончив, он медленно опускает ее, словно она стала для него непосильной ношей. Она отворачивается, чтобы их взгляды не пересеклись, и тихонько плачет в кружевной платочек, рассеянно натягивая одежду и пытаясь привести себя в порядок.
– Что мы наделали, Чекко? – шепчет она, и употребление множественного числа логично для них обоих. Мы. – О Боже, что же мы наделали?…
Если она надеется услышать утешительный ответ, то напрасно.
– Мы оба хотели этого, вот и все.
– А если кто-то нас видел?
Он, улыбнувшись, касается ее щеки.
– Тут никого нет. Для посетителей вход закрыт. Дворец Цезарей принадлежит только нам.
Неодобрительно качая головой, она приглаживает волосы, отчего короткий рукав платья задирается, позволяя ему увидеть кудряшки в ее подмышечной впадине.
– И что теперь будет?…
Герр Хюбер и его жена сидят в кабинете друг напротив друга. Герр Хюбер – сильный мужчина. Он, похоже, обладает властью над своей супругой, которую сейчас от него отделяет лишь ковер. Это персидский шелковый ковер, на нем вытканы экзотические волнистые узоры, в которых можно разглядеть нечто чувственное и органичное: скорченные конечности и сплетения сухожилий. Лицо, на самом деле лицом не являющееся, смотрит сквозь листву, точно Бахус в саду.
– Где ты была? – резко спрашивает герр Хюбер. Голоса он не повышает. Его голос холоден и остр, как нож. – Куда ты ездила с этим… учителем!
«Альфа-ромео» стоит снаружи, у парадного входа в ослу. Хозяина нигде не видно.
– Франческо возил меня на Палатинский холм. Мы осматривали императорские дворцы.
– Его работа – возить в подобные места Лео, а не тебя.
– Не вижу причин, почему он не может возить туда нас обоих.
– Потому что ты не должна появляться на людях с посторонним мужчиной!
– Я появляюсь на улицах с кем хочу.
– Ты ведешь себя, как маленькая глупая девочка, которая потеряла голову от обычного жиголо.
– Что? –На ее лице аршинными буквами написано возмущение. Как может этот мужчина, который старше ее на двенадцать лет, быть таким бесчувственным, таким нахальным? – Как ты смеешьставить под сомнение мою честь?. – О, хороший ответ. Красноречивый, чуть архаичный, дабы напомнить о временах прекрасных дам, рыцарей и поединков. Тем паче с подобающим выражением лица: глаза вытаращены от негодования, лицо исполнено возмущения и яростно пылает. Ее губы, на которых нередко играет милейшая улыбка, губы, которые так часто произносят слова восхищения и нежности, кривятся от злобы, как будто их вырезали внизу лица тупым инструментом. – Ради всего святого, в чем ты меня обвиняешь?!
– В том, как он на тебя смотрит.
Смещение акцентов не проходит незамеченным. Дело в нем,а не в ней.Однако черты лица ее нисколько не смягчаются.
– Что ты имеешь в виду? Как ты можешь винить меняза то, как онна меня смотрит?
– Он смотрит на тебя так, как будто…
– Да?
Герр Хюбер с неохотой формулирует мысль:
– Как будто он тебя хочет.
Выражение ее лица меняется постепенно, словно одного неверного движения достаточно, чтобы все мероприятие потерпело крах и обнажило свою уязвимую изнанку. Улыбка рождается из гневного оскала, точно бабочка из заурядной, сухой куколки.
– Он хочетменя?
– Он испытывает к тебе физическое влечение. У него грязные помыслы. Я это вижу.
Она смеется, и притом абсолютно непринужденно.
– Ганси, ты ведь считаешь, что они все меня хотят, не так ли? Твои коллеги, например. Неужели тебе не приходит в голову, что они раздевают меня взглядами, когда смотрят как я играю? Неужели ты этого не понимаешь? Почему же Чекко должен от них отличаться?
– Значит, Чекко?…
– Ой, замолчи. – Теперь она говорит шутливым, добродушным тоном, подтрунивает над ним, как он всегда подтрунивал над ней – с самых первых свиданий в оздоровительных садах Мариенбада. Тогда ей было всего шестнадцать, ему – почти тридцать; он ухаживал за какой-то симпатичной вдовой, а вместо этого завел роман с молоденькой девушкой, которая могла вынудить его исполнить любой ее каприз. – Тебе просто нельзя ревновать, Ганси, неужели ты сам этого не понимаешь? Ревность затуманивает твой разум. Они всеменя хотят, они все желают со мной встречаться… но можешь это делать только ты. Ты женился на красивой женщине, вот и все. – Она чуть наклоняет голову, чтобы направить на него тот взгляд, которым она очаровывала его с самого первого дня знакомства: взгляд влекущий, взгляд оскорбленной невинности, немного легкомысленный взгляд. – А теперь, если ты будешь вести себя очень хорошо – только в этом случае, – я позволю тебе поцеловать меня… там.
Два человека на узкой кровати, окутанные полумраком, блестящие от пота – извивающееся переплетение конечностей, живое и светлое, тела-близнецы, удушенные змием созидания; битва этих тел наконец завершена, но победителя в ней нет – лишь двое побежденных, лежащих рядом, подобно уставшим пловцам. Разделенное ими семя сверкает, как жемчуг, на ее волосах и его животе. Теперь они держатся друг за друга лишь пальцами на скомканной подушке.
Ее груди тяжело шлепают об его грудь, когда она к нему поворачивается.
– Я должна идти. Он будет спрашивать, где я была.
– Мы могли бы уехать в Швейцарию.
– Не говори глупостей.
– Мы могли бы быть там уже послезавтра. У одного моего друга есть квартира в Женеве. Я мог бы достать ключ.
– Ты думаешь, я в это поверю? Да и в любом случае, на что мы будем жить?
– Ты могла бы играть.
– На улице?
– Могла бы преподавать.
– А каков будет твой вклад? – Она встает с кровати и идет к умывальнику в углу комнаты. Он наблюдает, как она плещет воду под мышки и моет у себя между ног, наблюдает за движением ее грузных ягодиц, удивляется неправдоподобной неуклюжести ее бедер. – Что мне теперь делать с волосами? – спрашивает она, вытираясь его полотенцем.
– Я мог бы писать мемуары. «Женщины, которых я знал». Ты могла бы помочь мне с техническими деталями.
– Ты несешь полную чушь. – Она натягивает трусики и тончайшую комбинацию в пятнах пота: и то, и другое – подарки, привезенные мужем из Парижа. Глядя в тусклое зеркало, она пытается поправить прическу: расчесывается, убирает пряди с лица, вставляет в волосы шпильки.
– Я люблю тебя, – говорит он.
У нее во рту шпильки.
– Черт, – бормочет она, не в силах совладать с волосами. Она смотрится в зеркало и клянет свои непослушные волосы с оттенком некоторой деловитости. Она чувствует себя вполне естественно, как будто все это было элементом повседневности, даже, в известном смысле, сделкой. Глядя в зеркало и видя там свое безучастное отражение, она задумывается об источнике угрызений совести. – Ты любишь только самого себя, – говорит она ему.
Гретхен в церкви – в немецкой церкви Святой Марии дель Анима, Владычицы душ наших. Мрамор сверкает, лакированное дерево блестит, свечи горят во тьме, как маленькие язычки, язычки Троицы, язычки огня, злые длинные язычки сплетников. Сверху щерится богато, но безвкусно украшенный золоченый свод. Там же, в полумраке, прилеплен двуглавый орел Священной Римской империи.
Гретхен не молится. Она даже не стоит на коленях – просто сидит на задней скамье, вдыхая пропахший фимиамом воздух, и смотрит. На ней неброская одежда серого цвета. Ее волосы – восхитительные золотистые волосы – скромно прикрыты вуалью (черные кружева с золотой окантовкой, своего рода драгоценность). Она смотрит на алтарь вдалеке, на лампадку, горящую рубином в глухой бархатной черноте, на истерзанного Христа. Она смотрит, и глаза ее блестят в приглушенном свете, глаза ее наполняются слезами, заволакиваются ими. Этого вполне достаточно.
– Где ты был? – Ее голос в телефонной трубке, тихий и встревоженный.
– Ты знаешь, где я был. В Иерусалиме.
– Но зачем? К чему эта таинственность. – Свиток. Нашли свиток.
– Так всегда – свиток. Свиток, папирус. Господи, ты не можешь хоть ненадолго отвлечься от этого?
– Это потрясающе. – Слово кажется неуместным и чересчур высокопарным. Свиток – это ведь всего лишь обтрепанный лоскут, кусочек рыхлой сердцевины, исписанный корявыми буквами.
– Потрясающе? Лео, ты понятия не имеешь о настоящих потрясениях. Мы можем увидеться?
Он видел перед собой бездну, он чувствовал, как земля уходит у него из-под ног, точно осыпь на кратере вулкана. Вулкан неуверенно вздрогнул и загромыхал в отдалении.
– Увидеться?
– О Боже мой! Слушай, я не доставлю тебе никаких хлопот, поверь. Но я должна увидеть тебя.
И в некотором смысле, с трудом поддающемся словесному выражению, он тоже должен был ее увидеть. Когда стоишь у края пропасти, рядом с тобой должен быть другой человек. Поэтому они договорились встретиться на нейтральной территории, у неприметного бара на средневековой улочке в центре города, как раз напротив Палаццо Таверна (XIV век). Лео пришел первым и селза столик на открытой площадке, взяв себе бокал пива и журнал. За небольшой баррикадой из лавровых кустиков в горшках – того ароматного лавра, который англичане называют «bay», языческого лавра, что венчал головы героев, – он сидел, наблюдал и ждал.
Мимо изредка проходили туристы. Минуты тоже проходили одна за другой. Хозяин кафе – апатичный мужчина средних лет с нарочито богемной внешностью – начал разговор об отпуске с девушкой за барной стойкой. С кем же она уйдет отсюда: с ним или со своим парнем? То, что началось как шутка, превратилось в ожесточенный спор.
А потом появилась Мэделин – яркая точеная фигурка в дальнем конце улочки. Она шла к нему по серой, как оружейная сталь, брусчатке. Лео ожидал разочарования в ней: в ее целеустремленной походке, на секунду дрогнувшей, когда каблук застрял между плитами и она едва не упала; в ее манере поведения, нервных смешках, свидетельствовавших о тревоге и неуверенности в себе; в ее внешности – она была бледна и напряжена, как будто улыбку ей приходилось вымучивать; в том, как она убирала непослушную прядь с глаз, в том, как отчаянно она ему улыбалась. Он хотел бы разочароваться, но не мог. Она его напугала, но все-таки не разочаровала.
– Я опоздала, – сказала Мэделин, усаживаясь за столик. – Села на автобус, а эта хреновина сломалась! И нам всем пришлось выйти и сесть на следующий, который, разумеется, был уже полон под завязку, а потом еще этот цыган, который якобы кото-то там обокрал, и Бог знает, что…
– Что ты закажешь?
– Кофе. Хочу выпить кофе. Или неразбавленного джину. Хочу-то я кофе, но нужен мне джин. – Она засмеялась, покачивая головой и приглаживая волосы рукой – это движение было абсолютно, изумительно женским. – Я закажу кофе. Просто чашечку кофе.
Разглагольствования хозяина кафе прервались ровно на столько, сколько нужно для приготовления кофе, после чего возобновились на повышенных тонах, ведь теперь это было состязание за прекрасную даму. Мэделин сделала крохотный глоточек темной жидкости и осторожно вернула чашку на блюдце.
– Я думала, ты меня бросил, – тихо призналась она. – Я думала, что спугнула тебя и ты меня бросил. Знаешь, я бы даже не стала тебя винить. Прости меня, Лео. Прости меня за все. Ну, я ведь могла бы просто молчать. Я должна была молчать. Я должна была заткнуться и продолжать видеться с тобой как с другом семьи, гидом по святыням и все такое. А вместо этого я по-настоящему исповедалась тебе. Это все моя ирландская кровь. Не могу устоять перед соблазном исповедаться священнику… – Скверное настроение быстро сменилось шутливым, и даже хозяин бара и девушка замолчали и уставились на нее. – Прости, – повторила Мэделин. Карикатура на исповедь, пародия на раскаяние. – Прости, прости, прости. Боже, я же обещала себе, что не буду говорить ничего подобного. Я обещала себе, что буду сдержанной, буду держать а в руках, буду заниматься всей этой мелкой суетой, которая свойственна воспитанным женам дипломатов. А теперь смотри на меня. Я плачу. – И, к собственному удивлению, Лес увидел, что Мэделин действительноплачет, что глаза ее блестят, отчего ей пришлось немедленно отвернуться к лавровым кустам: жалкая попытка утаить слезы. – Черт, черт, черт, – прошептала она лавру в горшках. – Черт, черт, черт.
Он хотел притронуться к ней – вот что было неожиданно, физическая простота этой потребности. Он просто хотел притронуться к ней, даже заерзал на стуле, чтобы их колени соприкоснулись, чтобы они оказались поближе, чтобы его рука, покоившаяся на подлокотнике, могла протянуться к ее руке. Мэделин улыбнулась и сжала его руку в ответ, нелепой крепкой хваткой, словно восстанавливая свое спокойствие из разрозненных компонентов.
– Вот, – сказала она. – Так лучше. Гораздо лучше. Почти как взрослый мужчина. – Ее глаза – обычные органы, обычные хрящевые шарики с дешевой зеркальной бижутерией в центре – внимательно осматривали его. – А теперь рассказывай.
– Рассказывать?…
– Об этом чертовом свитке. Если все дело в этом свитке, расскажи мне о нем поподробнее. Ты сказал, что это потрясающе.
Какая же, право слово, ерунда. Перед лицом этой женщины, за этим столиком, на этой узенькой римской улочке, на перекрестке столетий материальной истории вся эта суета вдруг показалась ему абсурдной.
– Это касается жизни Христа.
Мэделин рассмеялась.
– А я думала, история жизни Христа уже написана.
– Это другое. Автор уверяет, что видел все своими глазами.
– Уверяет?
– Я прочел свиток. По крайней мере, пролог. Этого вполне достаточно.
– Достаточно для чего?
– Для того, чтобы пошатнуть устои. Пошатнуть мою веру – и, возможно, вообще Веру как таковую. – Заглавная буква отдалась звоном в ушах. Вера. Вера – это сущность того, на что надеешься, это подтверждение того, чего не видишь. За лавровой завесой, где сновали туристы, а парочка за барной стойкой бурно обсуждала планы на лето, воцарилась тишина. Леорассматривал кожу Мэделин в россыпи бледных веснушек, этих крохотных, но драгоценных изъянов лица; заглядывал в ее глаза, которые, меняя цвет с зеленого на коричневый, следили за ним с неведомым доселе напряжением, как будто взгляд означал присвоение. А также предложение. И требование кое-чего взамен.
– Это Иуда, – наконец вымолвил Лео. Имя повисло в воздухе между ними с явной угрозой, имя, отягощенное эмоциональным багажом, накопленным за две тысячи лет бесчестья. – Иуда Искариот. В свитке говорится, что автор его – Иуда Искариот. Там упоминается его имя. Отчасти текст написан от первого лица. Автор утверждает, что лично наблюдал распятие. Она нахмурилась.
– Ты серьезно?
– Так утверждает автор.
– Это подлинник?
– Едва ли это можно подделать. Его еще не расшифровали, но… – Он покачал головой. Но что? Его расшифруют. Он его расшифрует. И вся витиеватая, хитроумная христианская доктрина пойдет прахом. В глазах Лео стояли слезы – горькие едкие слезы. – Автор утверждает… – Его голос дрогнул, ибо всякое утверждение было абсурдом, фантастикой. Однако Иуда шептал ему на ухо, и голос его был тих и сдержан, преодолевая столетия веры: «Умер он и не восстал, и я свидетелем разложения его тела…» –Автор утверждает, что он лично видел, как разлагалось тело Христа, что тот не воскрес.
Лео почувствовал прикосновение ее пальцев к тыльной стороне его ладони.
– Бедный Лео, – прошептала Мэделин. Она взяла его руку и прижала к своей щеке, как будто дороже этой руки ничего на свете не было – дороже этой сухой, жилистой кисти, обычного механизма сухожилий, связок и костей – Бедный, беззащитный Лео. – Она поцеловала его ладонь. Он почувствовал, как она прижимается к нему щекой, почувствовал ее телесное присутствие, такое близкое в буквальном смысле, и это показалось ему наиболее чудесным проявлением нежности из всех возможных. – Бедный, бедный Лео наконец-то усвоил единственный урок в своей жизни.
– Какой же?
– А такой, что ничего больше нет. Есть только ты и я, здесь и сейчас. А все прочее – лишь напрасные надежды.
Квартира под самой крышей Дворца Касадеи, Дворца Божьего Дома. Когда они зашли внутрь, она взяла его руку, легко поцеловала в щеку, помогла приготовить чай, который никто, по сути, не хотел пить, и немного поболтала о том о сем – поддержать эту легкомысленную светскую беседу он был не в силах. Могут ли таким образом банальности вторгаться в дела первостепенной важности? Мэделин жаловалась на беспорядок в кухне, на нехватку нормальной бытовой техники и прочее в том же духе. Она собрала волосы, чтобы они не мешали ей работать, а Лео стоял у нее за спиной и созерцал то, чего раньше никогда не видел: потаенную, секретную ложбинку ниже затылка, такую уязвимую между двумя тугими сухожилиями, едва прикрытую тоненькими прядками. Кастрюля с водой закипела, и Мэделин сняла ее с огня.
– Джек вернется только завтра.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Только то, что ты готов услышать. Ну вот. – Она повернулась и вручила ему чашку, словно это-то и было реальностью: этот чай, ее присутствие в его доме, – а все прочее, включая папирусные свитки, веру и супружескую верность, не имело никакого смысла. – Скажи мне, что ты об этом думаешь?
– О чем?
Она взглянула на него из-за кромки своей чашки.
– Не притворяйся глупцом. Об этом,о нас.
Вулкан завибрировал у него под ногами.
– Я в замешательстве. Мне кажется, что все вокруг перестало быть реальным.
Мэделин понимающе кивнула. Возможно, ей, пришедшей из чужого мира сексуальности, это ощущение тоже было знакомо. Возможно, замешательство было одним из симптомов, этапом в истории болезни. Они прихлебывали чай (скорее, для того чтобы удостовериться в его подлинности, чем для удовольствия), а потом, не говоря ни слова, словно все уже давно было отрепетировано, встали из-за стола и пошли в другую комнату – в его спальню, помещение, которое прежде было безжизненным и унылым, как заброшенный чердак.
С улицы доносился шум автомобилей. Две сестры-близняшки с одинаковым именем Мэделин: одна – настоящая, другая – отраженная в зеркале гардероба, – подошли к окну и, наклонившись, закрыли ставни. Внезапно комнату окутал полумрак.
– Ты в порядке? – спросила она, вернувшись к нему. – Лео, все хорошо?
Он ответил утвердительно. Он сказал, что любит ее, что хочет быть здесь, с ней вместе, сказал, что все в порядке. Он говорил это, а она тем временем, улыбаясь, расстегнула пуговицы его рубашки и прижалась лицом к его груди. Он удивился, что его собственное тело, к которому он не привык испытывать ничего, кроме равнодушия, может иметь для нее значение, а она может иметь значение для его тела.
За окном по улице пронесся мотоцикл. Послышались стоны застрявших в пробке машин, рокот автобуса. В полумраке спальни Лео и Мэделин разделись, застенчиво сидя спиной к спине, а потом одновременно повернулись друг к другу, как будто участвовали в некоем устоявшемся ритуале вроде любовной литургии. Сам взгляд в ее сторону казался ересью. Ее грудь была усеяна веснушками. Крупные, грубоватые ее груди были испещрены венами, точно карандашными линиями; на животе виднелись послеродовые растяжки. В одежде она казалась миниатюрной, хрупкой и изящной, словно любовно изготовленный артефакт, предназначенный для восхищения и поклонения; раздевшись же, Мэделин заполнила собой все пространство под скошенной крышей, и плоть ее воссияла в искусственных сумерках. Приблизившись к ней, Лео почувствовал ее запах – запах тела, смешанный с духами, запах воспоминаний и мечты, фантазии и страшного сна, запах его матери, лежавшей рядом, когда он болел, запах маленькой пианистки, цепко державшей его за руку, запах плоти, меха и испражнений, сладкая микстура вожделения и омерзения, смесь всего, о чем он не смел помыслить, а если и смел, то находил тошнотворным. Он слышал ее дыхание, скрежещущее, глухое, в такт сердцебиению; она шептала нелепые, детские словечки, как будто уговаривала разозленного зверя: «Мой лев, мой сильный лев. Я тебя не съем. Не волнуйся. Все будет хорошо». Как будто дыхание ее тела не пугало его, как будто его не ужасала чистота ее кожи и ловкость ее рук. Как будто ее груди, всей своей мягкостью и теплом прижатые к его лицу, не возводили между ними защитную стену теплого материнского запаха.
– Все будет хорошо, – прошептала Мэделин, ложась рядом с ним в жаркой, неподвижной безликости спальни, окруженная гулом уличного транспорта. – Все будет хорошо, все будет хорошо. – Как будто, если просто повторять это заклятие, все действительно могло быть хорошо…
* * *
Она нашла в сумке салфетки и вытерла ими живот. В комнате было жарко и душно. Их хрупкое, мимолетное единение исчезло, и теперь они лежали порознь, липкие от пота и изнывающие от чувства вины. Лео взглянул на ее обнаженное тело подле себя. Мэделин снова стала плотью; на несколько обманчивых секунд она превратилась в нечто иное, нечто неуловимое, неподвластное разуму, а теперь опять стала обычной плотью. Она лежала на спине. Повинуясь силе тяжести, ее груди свисали по бокам. Когда она заговорила, слова ее устремились прямо в потолок:
– Наверное, ты разочарован. Ты ведь разочарован? Спад, разрядка напряжения… Что-то вроде того, да? Подходящие слова…
Сделанного не воротишь, подумал он. Можешь исповедоваться, молить о прощении, каяться в грехах своих, но что сделано, то сделано. Лео вспоминал, как ее маленькие сильные ручки со знанием дела направляли его; как она шептала непристойные проклятия; как усердно, точно многоопытная шлюха, Мэделин двигала бедрами. Все это – необратимо, непоправимо. «Твоя рыба, – прошептала она, хватая его пенис в кулак. – Твоя большая, блестящая рыба». Еще одно словечко из семейного лексикона Брюэров, как пить дать. Несомненно, у Джека есть большая, блестящая рыба. От этой мысли Лео стало страшно и гадко. Рыба, ichthys, pisces, pisser [78]78
Шутливо-вульгарное обозначение пениса (англ.).
[Закрыть]–абсурдная связь слов. Он прожил целую жизнь со словами, с их текстурой, с точностью их значении и важностью смысла.Изувеченная память выдала еще одно словцо – fornication,прелюбодеяние. Сложное слово. Fornix, арка, свод, сводчатый потолок борделя, несомненно, арочный проем между ног, промежность, геральдический крест, на котором нас всех распяли. «Остерегайся блуда, – прошептал ему святой Павел. – Все остальные грехи совершаются за пределами тела, но блудить – значит грешить против собственного тела». Чувство вины, переполнявшее Лео, нашло выражение в жидкостях – в слезах и мерзком извержении тела. «Тело твое – храм Духа Святого. Ты не принадлежишь себе; ты куплен дорогой ценой».








