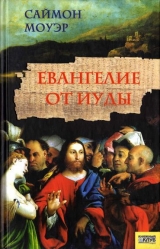
Текст книги "Евангелие от Иуды"
Автор книги: Саймон Моуэр
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Пикник – 1943
Пикник. Герр Хюбер называет это eine landpartie,но Гретхен настаивает на английском слове «picnic». Пикник с друзьями, случайными приятелями, заведенными благодаря тяготам и лишениям войны или благодаря дипломатии, пикник с мужчинами и женщинами, собравшимися вместе волею судьбы. Пикник в амфитеатре Сури, в северном пригороде Рима, прекрасном местечке, окруженном падубами, подступы к которому охраняет сосновая аллея; из всех настоящих римских деревень эта campagnaсамая укромная и притягательная, набухшая отзвуками этрусского прошлого. Этот пикник – легкое напоминание о тех далеких временах, когда они ездили на пикники в лес у Бухловского замка. Небольшое развлечение для Гретхен и Лео. Приглашены также Юта и Иозеф, прелестные фон Кленце и, разумеется, Чекко (чтобы она могла ощущать на себе его пристальный взгляд). Сидя на коврике, расстеленном слугами на ступени амфитеатра, она даже специально приподнимает колени: пусть видит, что у нее под юбкой. Всего один промельк запретной, скрытой шелковистой кожи, не более. Этого хватит, чтобы вывести его из равновесия, пока он сидит перед ней и пытается справиться – без особого, впрочем, успеха – с тарелкой, ножом, вилкой и недвусмысленной выпуклостью в районе ширинки.
– Вы в порядке, синьор Франческо? – издевательским тоном спрашивает она. Его бросает в жар, ему до ужаса неловко, однако он отвечает, что у него все в полном порядке. – Вам что-то причиняет неудобство?
– Отнюдь, фрау Хюбер.
Обсуждают вино. Едят prosciutto crudo с фигами, и герр Хюбер приходит к выводу, что этот сорт ветчины не сравнить с венским окороком.
– Лично я предпочитаю пражскую ветчину, – говорит кто-то. Это Йозеф, который познакомился с Ютой в 1938 году в Богемии, в те давние времена, когда государство Чехословакия еще существовало, а сам он служил в посольстве в Праге. Он нередко вспоминает этот город пражское пиво и особенности тамошней кухни, но его размышления на предмет пражской ветчины, которой потчевали самого фюрера в памятный день визига в 1939 году, прерывает внезапный назойливый звук – голубую ткань небес будто разрывают на части. Отдыхающие застывают, не донеся вилки до рта. Затем поднимают глаза.
– Какого черта?
Что-то темное, с серебристым отливом, что-то несуразное, крестовидное, оглушительное, проносится у них над головами со стороны падубовой посадки и с ревом перелетает через дорогу, едва не задевая верхушки зонтичных сосен. Кажется, что небу больно от подобного вторжения.
– Amerikaner! – восхищенно кричит Лео, вскакивает и бежит ко входу в театр, словно надеясь догнать гигантскую темную машину.
– Вздор, – заявляет Йозеф. – Люфтваффе! «Мессершмидт».
– Лео! – вопит Гретхен. Она вскакивает и бежит за ребенком. Шум теперь доносится издалека, сотрясая своим грохотом погожий весенний день.
– Американец, – соглашается один из гостей, и герр Хюбер читает лекцию, адресованную, в первую очередь, синьору Франческо и посвященную тому, что, позволив американцам вторгнуться в Европу, война достигла пика своего трагизма, и ничего уже не будет, как прежде, что бы ни произошло. А происходит следующее: рев крестообразной штуковины снова приближается, собравшиеся на пикник люди замирают, как завороженные, у входа в амфитеатр, Гретхен продолжает звать сына, а герру Хюберу не терпится подробнее изложить свои аргументы.
Машина вновь появляется в небе, на бреющем полете мчит над верхушками сосен, теперь напоминая очертаниями уже не заурядный крест, а опухшую физиономию с распахнутыми объятиями. Ярость машины направлена на весь этот погожий весенний денек и, конкретно, на людей, собравшихся отдохнуть на дерновой площадке внизу. Слышится жуткий гул, металл отчаянно завывает, с каменных рядов амфитеатра взметается пыль, в воздухе остро пахнет серой. В следующий миг самолет исчезает – и воцаряется тишь.
Диспозиция пикника такова: герр Хюбер встает с травы (шляпа слетела и валяется в отдалении, но его лысая маковка не пострадала), отряхивается, как будто его попросту забрызгал грязью проезжавший мимо автомобиль. Юта тихонько плачет, Йозеф вполголоса чертыхается, как будто с помощью ругани может утешить жену. А Грета выбегает к проезжей части, продолжая кричать: «Лео? Лео?» – с легким раздражением, словно она играет в прятки и, порядком устав от поисков, готова уступить выигрыш мальчугану.
– Черт побери, они задели «мерседес»! – орет фон Кленце, отправляясь оценивать урон. Он поравнялся с Гретхен, когда та выбежала из ворот. В этот миг она застывает на месте, словно ожидая немедленного разрушения всего мира. Мир должен разрушиться так же, как «мерседес», подвески и колеса которого сплющились. Как Лео, превратившийся в одну нелепую труду плоти. Лицо его уткнулось в грязь, одна рука заломлена за спину, вывихнутые ноги вытянуты, а траву вокруг тела пропитывает темная лужа.
Когда мать подбегает к нему, он еще шевелится. Тем страшнее. Самое страшное – это надежда. Уж лучше иметь дело со свершившимся фактом, с некой определенностью, с безжалостной рукой непредсказуемой судьбы. Надежда разрушает все.
Но вскоре Лео перестает двигаться. К тому моменту Грета уже выпачкалась в его крови с головы до пят. Хладнокровно, пребывая в отрешенном спокойствии, она пыталась выпрямить его правое плечо и испачкалась с головы до пят кровью собственного ребенка. Потом платье придется выбросить – вместе с великим множеством прочих вещей.
Магда – настоящее время
– Твоя семья? – спрашивает меня Магда, как когда-то спрашивала Мэделин.
– Моя семья была похожа на твою, только меньше. Мы жили вдвоем с матерью.
– Без отца?
– Без отца.
– Мой отец был большой, все время пил. Может, тебе было лучше без отца.
– Может быть. – Я наблюдаю, как она работает над своими картинами, смотрю, как заостряются ее размашистые черты лица, как черный рот собирается складками синхронно с появлением новых мазков, словно линии на холсте выводят ее губы, а не руки. Магда пишет акриловыми и масляными красками. Иногда она использует дополнительные материалы – например, песок, примешанный к краске с целью создания грубой, абразивной текстуры. – А еще у меня был брат.
– Брат? Но ты же сказал, что вы жили вдвоем с матерью. Я качаю головой.
– Мой брат всегда был рядом.
Сегодня мы с Магдой ездили в мертвый город. Мертвый город расположен в низине под базиликой Сан-Лоренцо fuori le Mura,Святого Лаврентия За Стенами. В этом месте за стенами, за оградой, где римляне хоронили своих мертвецов, однажды знойным августовским днем 258 года погребли обожженное тело святого Лаврентия. Я отлично понимаю святого Лаврентия, мученика, познавшего адское пламя, прежде чем вознестись к небесам. Власти не бросали его в ров ко львам, ничего подобного. Его не пронзали копьями, не распинали, не делали ничего в этом духе. Его просто привязали к рашперу и зажарили. В день его гибели небо плачет метеоритным дождем – le lacrime ai San Lorenzo,«слезы святого Лаврентия», вот как это называют. Но я ощущаю лишь жар пламени.
У мертвого города есть свои законы и свой устав. Машины торжественно проплывают по обсаженным деревьями проспектам. Такси застывают у бордюров, ожидая платы (счетчики тем временем продолжают крутиться). Люди ходят по улицам, точно призраки, порхают меж кипарисов и сосен с охапками цветов – а именно хризантем, цветов покойников.
Мертвый город разбит на кварталы, районы и зоны, названные по религиозной принадлежности обитателей: евангелический квартал, мусульманский район, еврейское гетто. Имеется там и территория военных с казармами, плацем и множеством памятников. Есть зоны, где покоятся богачи, есть просторные виллы для буржуа и многоквартирные дома для бедноты, где лестницы ведут к стеклянным дверям, а лифты отвозят жильцов на верхние этажи. В городе мертвых есть водопровод и электричество, и всю ночь там горит свет – на случай, если кто-то из горожан проснется и не увидит ни зги.
– Зачем мы сюда приехали? – спросила Магда, хотя вовсе не нуждалась в уважительной причине. Разумеется, она была облачена в траурно-черный наряд: черные джинсы, черная куртка, нелепые черные туфли наподобие армейских ботинок. У ворот города она перекрестилась и прошествовала вместе со мной со скорбным видом плакальщицы. Она – художница, она может по достоинству оценить подобные места. Это место вновь оживет посредством ее перьевой ручки и чернил, кисти и красок: мертвецы пробудятся и сдвинут пальцами гнет мраморных плит. Они выскочат из могил и саркофагов и наконец предстанут перед судом– истории ли, Бога, кого угодно, кто окажется в нужном месте в нужное время.
Сложно предугадать, кого встретишь в подобном мертвом городе. В глубине души я ожидал встретить там, среди мрамора и известкового туфа, свою мать. Думал, что столкнусь с ней на тротуаре, как сталкиваешься со знакомыми на улице. «О Боже мой. Вот это встреча!»
Как бы она, интересно, выглядела? Старой, какой я ее помню? Или оказалась бы бесплотной тенью той молодой женщины, что некогда меня зачала? Какой вид имеют мертвецы, когда они восстают, повинуясь последнему трубному гласу? В каком обличье они пребывают вовек: в расцвете молодости или в глубокой старости, пораженные синдромом Альцгеймера? В этом-то и заключается проблема с телесным воскрешением, верно? Будет ли это дитя или взрослый человек, юный грешник или кающийся старик – кто получит шанс покинуть свою гробницу?
Но, разумеется, риска встретить мать не существовало. Она покоится на кладбище Святой Марии, в Кенсал Грин, где я лично участвовал в предании ее тела баюкающей священной земле. «Я есмь воскресение и жизнь: верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». [84]84
Иоанна11:25–26. (Примеч. пер.)
[Закрыть]Она хотела, чтобы заупокойную мессу отслужили на латыни; ничего удивительного. Это было включено в дополнение к ее завещанию, наряду с некоторыми деталями ее банковского счета в Женеве и распоряжениями относительно квартиры: «Я хочу, чтобы на моих похоронах мессу отслужили на латыни».
Ego sum resurrectio et vita…
Или,возможно, мы встретим Мэделин, и она будет шагать своей размашистой, уверенной походкой, словно куда то спешит и уже немного опаздывает. Она бы остановилась изумлении, увидев нас вдвоем, но изумление мигом преобразилось бы в ироничную усмешку: «Что ты здесь делаешь?! Господи Боже,а это кто?!» Магду она бы смерила глубокомысленным взглядом, как будто сразу поняла,что к чему.
– Это Магда. Практически твоя тезка.
– Да неужели? А больше у нас ничего общего нет?
Вот видите, даже в мертвом городе можно шутить. Хотите еще одну шутку? Читайте гравировку на могильном камне:
Angelica Tomassini, Vedova Contenta.
Вы поняли юмор? А с какой стати я должен объяснять соль шутки? Я не объясняю причины своего несчастья, так почему же я должен объяснять свои шутки? И разве шутка не теряет смысл, когда ее объясняют? Впрочем, я вынужден объясниться перед Магдой.
– Приблизительно, – сказал я ей, – это означает: Анжелика Томассини, Счастливая Вдова.
Магда хмурится. Так она хмурится всякий раз, когда сталкивается с лингвистическими трудностями.
– Приблизительно?
Очередной урок, один из многих уроков, которые мертвецы преподносят сами себе.
– Примерно. Надпись означает примерноследующее: Счастливая Вдова.
– Значит, она была счастлива,когда ее муж умер?
– Так здесь написано, но, полагаю, имелось в виду нечто другое. Ее муж носил фамилию Контента. Когда они поженились, она тоже стала Контента. Она была вдовой Контента.
Магда обмозговала мои слова и рассмеялась, хотя было уже слишком поздно. Разумеется, Мэделин заметила бы шутку первой. Она бы показала надпись мне и довела бы шутку до логического завершения: «Не сомневаюсь, – сказала бы она. – Уж эта старая грымза наверняка счастлива!»
Но в остальном мертвый город едва ли может похвастать хорошим чувством юмора. Разве что лифт, предназначенный исключительно дляперевозки гробов, заслуживает, пожалуй, сдержанного смешка. Двери склепов, изготовленные из анодированного алюминия и напоминающие двери и окна вульгарных современных построек, вызывают кривую усмешку. Но:
Quello che sietefummo.
Quello che siamo sarete. —
это не шутка. Мы обнаружили эту надпись на одном из мемориалов, и она показалась мне абсолютно справедливой: «Кто вы есть, теми мы были; кто мы есть, теми вы станете».
Или же надпись «MorsUltimaRatio»,вырезанная над порталами свода, построенного в модернистском стиле Ле Корбюзье: «Смерть сводит последние счеты». Любопытный факт: в мертвом городе редко встретишь открытую религиозность. Думаю, мертвые сами все знают. Знают истину – и видят фальшь насквозь.
«Помните, люди, что вы суть пыль и в пыль вернетесь». Частью ритуала, которая всегда поражала меня своей бесхитростной честностью, была служба в Дни покаяния. Я очень хорошо помню, как, когда я еще работал в школе через несколько лет после рукоположения, по классам передавали небольшую чашу, полную серого пепла. Насупленные брови и пятна пепла, подобные пигментным, подобные грубым мазкам живописца: «Вы суть пыль и в пыль вернетесь». Возможно, именно в такие моменты священник поистине приближается к своей цели: когда исполняет ритуал художника.
В мертвом городе налажена своя система связей и ассоциаций, известная лишь самим обитателям. Тайные любовницы похоронены за несколько улиц от своих незаконных любовников. Тела ублюдков зарыты вдали от родителей. Цепи, узы, сочленения. Убийцы и убиенные, насильники и их жертвы, пожилые развратники и их катамиты. [85]85
Катамиты – мальчики, состоящие в половой связи со взрослыми мужчинами.
[Закрыть]Враги, похороненные в благочестивой близости, и разлученные друзья. В мертвом городе – одни секреты.
Художница Магда стояла на прогалине между монументами и мемориалами. Перед ней была поросшая травой лужайка, городская площадь, где дети могли бы играть, собаки – гоняться за мячами, а молодые мамаши – выгуливать младенцев в колясках. За спиной у нас промчала по дороге машина, направляясь на юг, к холмам недавно усопших. По тротуару ходили люди с букетами пушистых хризантем.
– Мы пришли, – сказал я ей. Она прошла за мной по гравиевой дорожке между надгробиями и остановилась там же, где и я: перед плитой с надписью «Лео».
– Мы пришли, – повторил я.
«Leo Alois Huber. 1932–1943. Geliebt [86]86
Geliebt (нем.) – возлюбленный.
[Закрыть]».
И россыпь свежих цветов, чьи растрепанные желтые головки напоминают кудри, с отпечатанной запиской: «Dal Ambasciata tedesca».
Кожа у нее на лбу морщится.
– Кто это? – спрашивает Магда. – Одиннадцать лет. Кто этот мальчик, которого зовут так же, как и тебя?
А в самом деле,кто?
– Кто этот Лео? – не унимается Магда.
«Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». [87]87
Иоанна 20:2.
[Закрыть]
Но я знал.
– Кто он? – повторила Магда. – Кто этот мальчик по имени Лео? – Она в замешательстве, она смущена и, возможно, напугана этим городом мертвых и забытых. Она редко обращала на меня внимание, а когда рисовала, то оставалась безразличной, будто хирург, накладывающий швы. Она редко позволяла себе проявление эмоций. Но тогда ее голос вдруг стал громче и нарушил гробовое молчание, как будто она оплакивала покойника в надежде его воскресить. – Кто этот мальчик по имени Лео?! – возопила она.
Магда пишет. Она работает с акриловыми и масляными красками, работает искусно, проворно и непременно курит за работой, чуть прищурившись, чтобы дым не попадал в глаза. Голову она наклоняет так, чтобы тонкие серые колечки не мешали ей. В краску вдавлены чужеродные элементы: песчинки, кусочки растений, веточки, колючки кактусов (и не любых – она тщательно отбирала их на балконе), зубочистки, похожие на чьи-то кости. Она использует даже мелкую проволочную сетку: скручивает ее и лепит конечности, головы, целых существ, которые потом словно норовят вырваться из плена краски и взлететь. Но никто не улетает. Полет им недоступен. Все творения заточены в ее изощренной фантазии.
Магда сидит на корточках, прислонившись к невысокой стене балкона, и наблюдает, как сохнет краска (она говорит, что акрил сохнет быстро). Попутно она сворачивает самокрутку и безмятежно закуривает, продолжая наблюдать. Мел кие вещи она держит в кожаном кошельке, висящем у нее на шее между скромными грудями под футболкой.
– Хочешь курнуть? – Она улыбается. Ей наплевать, хочу я курнуть с ней или нет. Ей на все наплевать.
Она пишет Лео среди надгробий, Лео среди мемориалов, объятого огнем Леов преддверии ада.
11
В Риме шел дождь, скользкие базальтовые тротуары отражали городские огни. Он расплатился с таксистом. Каморка портье была закрыта, словно рыночная палатка, свернутая на ночь. Он поднялся на лифте на последний этаж и дошел до своей квартиры по лестнице. В ноздри ударил запах ландышей, очень сильный в затхлом воздухе. На столике посреди комнаты стояла ваза с букетом цветов. Наверное, их поставила туда Мэделин. Наверное, пришла в квартиру, пока его не было, отперла дверь своим ключом и оставила цветы, чтобы он порадовался по возвращении. Он вспомнил ее слова: «Этой квартире недостает яркости. Женской руки».
Женщины – ярки; мужчины – серы, как риза священника.
Он улыбнулся цветам, этим безмолвным вестникам. Что за весть они принесли: просьбу? Вопрос? Скорее, это было утверждение. «Пусть цветы говорят за вас». [88]88
Типичный слоган компаний, торгующих цветами.
[Закрыть]Но что именно она хотела сказать?
Лео наспех умылся и лег спать. Усталость терзала его помыслы, разрушала их внятность, силком тянула в идиотскую пучину снов и ночных кошмаров. В этом кошмаре Мэделин пыталась донести до него что-то, чего он не понимал. Мэделин и Иуда. Кто-то из них верен, кто-то – предатель. Но кто из них кто?
Проснувшись рано утром, Лео первым делом принял душ. Запах ландышей по-прежнему витал в воздухе, но теперь казался немного болезненным – вроде запаха его матери. Старомодный запах, приносящий с собой воспоминания о прошлом, которое, на самом деле,невозможно вспомнить о прошлом, с которым не совладать. За завтраком Лео пытался занятьголову размышлениями о предстоящей лекции. Банальные, ординарные мысли должны были прогнать мучивших его демонов. Однако Иуда шептал ему на ухо и голос его был тих и сдержан, преодолевая столетия веры и сомнений:
«…умер он и не восстал, и я сам был свидетелем разложения его тела…»
В голову лезли и другие мысли. Мэделин и ландыши. Мэделин в мансарде под скошенным потолком, шлепающая босыми пятками в ванную, чтобы смыть с тела доказательства любовного акта. Ее будничный тон, ее смиренное принятие того, кем он был и кем не был никогда. Лео выпил кофе, съел немного сыра, обнаруженного в холодильнике, и попытался найти ей место среди путаницы своих мыслей. Голая Мэделин лежит перед ним, ее кожа мягка и тепла, отрицание веры и призвания, хрупкая власть над человечеством…
«Кто наделен правом открыть свиток?» – подумал он.
Записку на столе Лео обнаружил только после трапезы. Дрожащими руками он развернул листок, не зная, чего ожидать, и даже не узнавая ее почерк: совершенно ни к месту он вдруг вспомнил, что никогда раньше не видел ее почерка.
«Дорогой Лео, – гласила записка, – думаю, тебе стоит позвонить мне».
Но подписью было не «Мэделин», даже не «Мэдди» или, как он ожидал, нейтральная буква «М». Нет, письмо было подписано: «Джек».
Жуткая неподвижность. Снова эти слова, с их аккуратной грамматической точностью, с соблюдением дипломатических предосторожностей. Слова, которые только скрывают и не разглашают ровным счетом ничего: «Дорогой Лео, думаю, тебе стоит позвонить мне».
Но он не послушался совета. Телефон стоялна полу, но Лео не поднял трубку. Он спустился по лестнице к воротам палаццо. Ему предстояло столкнуться со множеством трудностей; полная аудитория студентов с самой разной степенью заинтересованности в предмете; женщина, которую он мог любить, а мог и не любить; будущее, в котором он мог оказаться изменником, а мог и не оказаться; муж, который обо всем узнал. Его мир, вполне возможно, мог в любой момент раствориться в небытии. Каждому обломку былого мира – свое время.
Портье сидел в своей каморке. Лицо его в пыльном окне напоминало грязную тряпку, ткань которой выражала одновременно заботу и подозрение. «Синьор Неоман». Бот как он обратился, подчеркивая «новизну» фамилии, ее лексическое значение новости, инновации. Неоман, неочеловек, новый человек. Что ему нужно? Опять что-то насчет электричества? Насчет воды или уборки на лестнице? Что еще?
– Синьор Неоман, произошел несчастный случай. – Портье так и сказал: «несчастный случай». Incidente.Оттенки смысла: accidente, incidente. Леоостановился у знака, который оповещал нетерпеливый внешний мир, что Дворец Касадеи открыт для посетителей с 10 до 13 и с 16 до 17.30 все дни, кроме понедельника. Портье вышел из своей клетушки, за пределами которой Лео, кажется, видел его впервые. Он с удивлением обнаружил, что портье, оказывается, едва доставал ему до груди. Лео даже не знал его настоящего имени: Миммо, все называли его Миммо. – Сюда приезжала полиция, – сказал портье. – Позавчера. Днем, ближе к вечеру. Синьора…
– Да?
– Она упала. Так они считают.
– Упала! – Оступилась на лестнице. Зацепилась за стул, когда ставила ландыши в вазу. Вывихнула лодыжку. Быть может, перелом? Запястья, скажем. Возможно, оступилась и, пытаясь уберечься от ушибов, выставила руку и сломала запястье. Но, Господи, зачем же вызывать полицию?!Скорость у человеческой мысли выдающаяся. Столь же выдающейся можно назвать человеческую неспособность смотреть правде в глаза.
Портье, словно желая утешить Лео, притронулся к его плечу. Это был довольно мрачный тип: за те несколько недель, что Лео знал его, он ни разу не удосужился проявить хоть какую-нибудь эмоцию. Сейчас же в глазах его поблескивали слезы. Он даже сжал руку Лео, как будто желая поддержать его в трудную минуту.
– Она принесла цветы вам в квартиру. Я с ней поздоровался, она улыбнулась и тоже поздоровалась со мной, и в руках у нее был букет цветов. Выглядела она как обычно. Выглядела счастливой, понимаете? А потом она упала.
– Что значит – упала?
Лицо портье приняло скорбное выражение, словно это была его вина, как будто Мэделин упала из-за него – из-за его неосторожности, халатности.
– С крыши. Синьор Неоман, синьора погибла.
Паника. Паника в физическом воплощении, паника агорафоба, паника человека, которого ужасает бездна широкой улицы, человека, который стоит на бордюре и представляет себя на краю утеса, над пропастью, и отчетливо понимает, что весь мир кренится, дабы столкнуть его вниз. Страх как ломота в костях, глубокая и тупая, та боль, которая – и это ясно сразу – останется на долгие месяцы и годы.
Лео выбежал на улицу, не помня себя, как будто искал что-то, однако не помнил, что. Стояли дни сирокко, южного ветра, что приходит из пустыни Сахара с увесистым грузом жары, влаги и песка. Небо укутывало одеяло облаков, толстое теплое одеяло над косыми крышами города. Улочка позади Дворца Касадеи была как бы узким каньоном между вековыми утесами, грозящими вот-вот осыпаться. Одно из внешних ответвлений гетто. За углом небольшого продуктового магазина (или, как гордо провозглашала вывеска, «Минимаркета») не было ничего: ни магазинов, ни баров, ни трактиров. Лишь водосточные трубы, и немые черные двери, и кривая лента брусчатки, похожая на змеиную чешую. Улочка упиралась прямо в Палаццо Касадеи. Вход был перегорожен барьером из оцинкованной стали; голубые буквы потертой таблички гласили: «POLIZIA». Лео оттолкнул ее. В конце улочки громоздились мусорные баки, в трещинах между камнями виднелось что-то черное. К стене был прислонен букетик цветов.
Лео шел дальше. Утомленный Рим покоился под пологом облаков, точно мертвец под саваном. В этом городе происходило все, что только могло произойти. Вполне вероятно, что все это произойдет здесь вновь. Дляэтого города не существовало ничего примечательного. Лео был непримечателен, их жалкие, недоразвитые отношения были непримечательны, в смерти ничего примечательного тоже не было. Он шел куда глаза глядят. Неверным шагом он брел по кускам базальта, спускался между охристыми и янтарными стенами Кампо Марцио, Марсового Поля, где обломки древнего города выглядывали сквозь средневековье, как кости, пронзающие трупную плоть.
Паника – это пережиток язычества, дитя бога Пана, великого и загадочного в своей неприкаянности на фоне олимпийского здравомыслия. Лео обуяла чистая, языческая паника: он задыхался, грудную клетку будто сдавливало тисками. Он чувствовал одновременно обособленность от внешнего мира – и абсолютную перед этим миром беззащитность. Ему казалось, что он должен сейчас находиться в каком-то другом месте. Лео продолжал идти. Часбольше – как там, интересно, неугомонные студенты, заждавшиеся лекции? – он просто шагал вперед. И вдруг остановился у почтового отделения, где стоял ряд телефонных будок. Клочок бумаги с номером лежал у него в кошельке.
По телефону голос Джека казался совершенно спокойным.
– Я не знал, когда ты вернешься, – сказал он. – Где ты был? Мэдди говорила что-то о Лондоне… – Она могла по-прежнему быть там, рядом с ним.
– Да, – сказал Лео. – В Лондоне. Джек, что случилось? – Люди шли мимо будки. Безликая толпа прохожих. Туристы дети, цыганка с младенцем у груди.
– Я думал о тебе, – сказал Джек. – Конечно же, думал, после всего случившегося… То есть, твоя же квартира… Прости, я путано излагаю мысли. Но я думал о тебе и не знал, как с тобой связаться.
– Ничего страшного. – Как это – ничего страшного? Почему Джек должен говорить едва ли не извиняющимся тоном, а Лео – отказываться от его извинений, словно кто-то из них нарушил правила приличия?
– Я не знаю, пришлют ли тебе повестку…
– Джек, что случилось? – повторил свой вопрос Лео. – Господи, что же случилось?!
– Значит, «Господи»? – На том конце провода раздался неуверенный смешок. – Не уверен, что это подходящее выражение.
– Просто скажи мне, что случилось.
Последовала пауза.
– Думаю, нам лучше встретиться.
Джек сохранял абсолютное спокойствие – вот что пугало больше всего. Он был спокоен, как будто вел дипломатические переговоры. Спокоен в полиции, в посольстве, в офисе магистра, в морге на опознании останков. Постоянно звонил телефон, а он отвечал, слегка нахмурившись, и во время разговора всегда смотрел в пол. Ровным голосом отдавал распоряжения, как будто решения эти, какими бы важными они ни были, не требовали личного участия. Таким тоном договариваются о покупке недвижимости, о поступлении на работу или о торговой операции.
– Нет, сейчас я приехать не могу, – сказал Джек кому-то по телефону. – Я приеду, как только освобожусь, а сейчас я занят.
Лео обвел взглядом знакомую комнату. Мэделин смотрела на него с фотографии в серебряной рамке на пианино. Она, кажется, улыбалась, как будто спланировала все это заранее. На полу под пианино валялась английская газета. Он увидел небольшой заголовок внизу страницы: «Жена дипломата упала с крыши». Лео ощутил новый прилив панического ужаса – ощутил полнейшую нелепость и тщету всего в этом мире.
После непродолжительной паузы телефон вновь зазвонил, но на этот раз Джек почему-то говорил иначе – мягче, нежнее.
– Мамочка поранилась, – сказал он, имитируя детский голос. – Да, я скоро к вам приеду. А ты тем временем присматривай за Бут. Хорошо, Кэтц? Да, все в порядке. Ведите себя хорошо, а я скоро к вам приеду. – Он с чрезвычайной осторожностью вернул трубку на рычаг.
– Что случилось? – спросил Лео. – Можешь объяснить мне, что случилось?
– Она погибла. Вот что случилось.
– Но как?
В кухне кто-то был – прилежная, серьезная женщина, которую Лео с трудом припомнил. Она зашла в комнату и спросила, не желает ли он чего, но он сказал: спасибо, нет, даже чаю не надо.
– Как же надоела их суета, – сказал Джек Лео, когда женщина удалилась. – Я знаю, что они руководствуются наилучшими побуждениями, но как же мне надоела их суета…
МИДужасно нагнетает атмосферу, понимаешь. Сплочение, вот как они это называют. Сплочение перед лицом врага. Сраный «Гэтлинг» заел, оборона прорвана, а они, мать их, сплачиваются. – Он отвернулся, взглянул на пианино с семейными фотографиями, на окно, за которым начинался внешний мир. На муху, бившуюся головой об оконное стекло с отчаянным упорством. – Ты знал, что у нее был ключ? – внезапно спросил Джек.
– Ключ?
– От твоей квартиры.
Лео, неожиданно для самого себя, тщательно подбирал ответные слова, взвешивая возможные последствия сказанного. Он не мог разобрать подтекст ситуации, не понимал ее нарочитой обыденности, к тому же его смущал оттенок фамильярности.
– Наверное, остался с тех пор, как вы помогали мне переехать.
Джек кивнул.
– Понимаешь, квартира была заперта. Полицейские привели портье, чтобы тот открыл замок. А на столе они обнаружили ключ. Конечно, тогда они назвали это несчастным случаем. Так мне заявили в магистрате. Кстати говоря, она хочет с тобой поговорить.
– Кто?
– Следователь, Лео. Следователь. – Джек говорил необычайно терпеливо, как будто имел дело с недалеким ребенком.
– А ты не считаешь, что это был несчастный случай?
Он улыбнулся, как подобает улыбаться дипломату, выигравшему очередное очко в переговорах.
– Дорогой мой Лео, – тихо вымолвил он, – я знаю, что это не был несчастный случай.
– Ты это знаешь?
Джек взглянул на него. Интересно, подумал Лео, что в этот момент творится в его голове, что скрывают эти глаза? Что происходит в серой желеобразной массе, скрытой за красивым высоким лбом? В исповедальне лица не видно, Видишь лишь тусклую тень, которая изливает душу, но не показывает своих очертаний. Знаешь только пол. И социальное положение. Иногда, не всегда, угадываешь образование и уровень умственного развития. Но никогда не видишь лица – эту маску панического страха и стыда.
– Странно, что она никогда тебе об этом не говорила, – сказал Джек. – Вы ведь были так близки… Я думал, она доверит эту тайну своему лучшему другу, отцу-духовнику…
– Какую тайну?
– Мэдди уже не в первый раз пыталась покончить с собой. Ты разве об этом не знал? Не знал? Разве она не рассказывала об этом своему духовнику? – Он хихикнул. На лице Джека преобладали два цвета: белый и серый, – сочетание горя и отчаяния, но говорил он с интонацией дружелюбной, покровительственной, с интонацией Винчестера и Кембриджа, с интонацией человека, который долгие годы был на высоте, не прилагая особых усилий. – Мэдди не нужны были утешительные слова из уст священника. Она была больна, Лео.Ей нужен был врач, психиатр, но она, разумеется, и слышать об этом не желала. Поэтому она нашла замену в твоем лице. И даже не рассказала тебе…
Лео попытался что-то ответить, но Джек его перебил. Внутри он, казалось, клокотал от нетерпения, как будто стоял на той самой улочке и, глядя на охристое здание, видел, как женщина балансирует на парапете, на высоте в пять этажей, на фоне неба. А он просто стоял и смотрел, ожидая, пока она сделает шаг в бездну.








