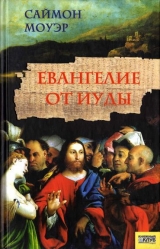
Текст книги "Евангелие от Иуды"
Автор книги: Саймон Моуэр
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Похороны – 1943
Похороны. Ничем не примечательное событие частной жизни, происходящее на укромных задворках за площадью Навона. Итальянцы любят плакать открыто. Но сейчас главные действующие лица плачут беззвучно. Они сидят на скамьях перед закрытым тканью катафалком, словно в зале суда: ждут слов священника терпеливо и сдержанно, как оглашения вердикта. Они не будут оспаривать решение суда. Не станут подавать апелляцию в вышестоящие инстанции. Они подчиняются власти и отдают себе в этом отчет.
Во время службы фрау Хюбер падает в обморок. Жара, давка в толпе скорбящих, облака ладана, похожие на дым погребального костра – все это сыграло свою роль. Обморок – это, возможно, вполне простительная слабость, хотя опять-таки, возможно – он выдает ее небезупречное происхождение, чужие гены, прячущиеся за, казалось бы, идеальными арийскими чертами. Она теряет сознание и падает на своего мужа, который поддерживает ее, пока читают Misere mei, Deus».Левой рукой он держит католический требник, правой обнимает жену за плечи, упираясь пальцами во влажную подмышку, чтобы фрау Хюбер не сползла со скамьи.
Помилуй меня, Боже,
По великой милости Твоей,
И по множеству щедрот Твоих
Изгладь беззакония мои.
Он не позволит ей сидеть. Она должна стоять. Это своего рода искупление вины.
Ampliuslavameab iniauitate mea,нараспев читает хор: Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». [94]94
Псалом 50:4.
[Закрыть]
И супружеская пара Хюберов встречает псалмы лицом к лицу, точно снежную бурю: он морщится и стискивает зубы, она же, бледная как полотно, просто смотрит, как будто борьба со стихией истощила ее, повергла в абсолютное безразличие. В черной одежде, униформе скорбящих на асе времена, фрау Хюбер выглядит весьма драматично: волосы ее напоминают позолоту на балдахине катафалка.
За поминальной молитвой следует погребение – на большом кладбище Кампо Верано, расположенном да железнодорожной веткой, подле базилики Святого Лаврентия. За этими стенами покоятся в сени зонтичных сосен и кипарисов все мертвецы Рима. Здесь всюду мрамор и травертин, сухие цветы и сохнущие цветы; здесь царят память здесь Царит сожаление, царит вина и раскаяние. В последнее время это место пользуется особой популярностью: когда кортеж тормозит у портика базилики, там уже стоят две похоронных процессии. Явно хоронят бедняков: погребальные кареты запряжены лошадьми, женщины протяжно воют. Сверкающие автомобили останавливаются на раскаленной площади и ждут, пока им освободят дорогу, после чего наступает их черед приблизиться к вратам рая или ада, их черед проехать через ворота. Оттуда уже нужно идти пешком по главной улице мертвого города туда, где, среди мрамора и порфира, зияет свежевырытая могила. Специально приглашенные солдаты из юношеского отряда вытаскивают гроб через заднюю дверь. Фуражка Лео – фуражка члена юнгфолька – аккуратно лежит на крышке гроба. Солдаты взваливают гроб на плечи и несут его к могиле.
Само погребение – мероприятие непродолжительное будто для галочки. Клубы фимиама парят над могилой точно дым над воронкой от бомбы. Брызжут святой водой, бросают горсти земли, которая глухо ударяется о древесину гроба. Вот и все, дело сделано, ребенок препоручен вечности и, надеемся, поладит с сонмищем ангелов.
Скорбящие уходят неуверенно, как будто сомневаются: конец ли это? Сперва уходят Хюберы, потом – безудержно участливые фон Кленцы, за ними – Юта, и Йозеф, и другие люди с Виллы. Франческо Вольтерра нервно топчется в хвосте. Когда гости разбиваются на небольшие группы, он подходит к родителям усопшего с мрачным лицом, быстро кланяется и пожимает руку герру Хюберу. Затем подносит обтянутую перчаткой руку фрау Хюбер к губам, резко кивает и щелкает каблуками.
– Sonodesolate, [95]95
Sono desolato (um.) – Мне очень жаль.
[Закрыть]–говорит он.
Выражение их лиц кажется совершенно безучастным по сравнению со скорбью, написанной на лице Франческо.
Чувство вины. Горе – и чувство вины. Мощное сочетание. Чувство вины подобно жидкости, алкогольному напитку, который просачивается повсюду, все наполняет собой, пропитывает – едкий, как морская вода, густо пахнущий нечистотами и гнилью, он возвращается смрадным потоком с жесткими, шершавыми обломками горя.
– Благослови меня, святой отец, ибо я согрешила. – Она сознается во всем, ее исповедь в полноте своей приобретает едва ли не барочную пышность: подробнейшее описание, итог времен, выражение всего содеянного, смешение незначительных грубостей и вероломных измен.
– Я не могу притворяться, что вина твоя незначительна, – говорит тень за решеткой.
– Да, отец.
– Для искупления тебе понадобится много времени, много времени и усилий. Ты не должна больше встречаться с этим мужчиной. Ты это понимаешь?
– Конечно, отец.
Они встречаются на нейтральной территории – в одном из кафе на улице Венето, которое продолжает работать, несмотря ни на что. Заведение являет собой неубедительную имитацию парижского кафетерия, где столики стоят на улице под стеклянным колпаком, напоминая оранжерею. Замирая от волнения, она смотрит, как он приближается к ней: словно ожидает, что он выхватит ее сумочку или начнет к ней приставать. Но когда он оказывается прямо перед ней и снимает шляпу – весьма нелепую соломеннуюшляпу-канотье, – она избегает его взгляда. С большим трудом растянув губы в подобии улыбки и аккуратно сдвинув ноги, она жестом велит ему садиться.
Официант приносит капуччино, сваренный из эрзац-кофе и сухого молока. Когда он уходит, Франческо задает вопрос:
– Как ты себя чувствуешь?
Гретхен смотрит куда-то на вершину холма, с которого сбегает улица. В сторону красно-кирпичной стены, образующей барьер, участка аврелианской стены, некогда опоясывавшей весь классический город. Как она себя чувствует? А как обычно чувствуют себя люди в подобной ситуации? Она убита горем. Она не знает, что ей делать.
– Я уезжаю, – говорит она, словно обращаясь к кому-то другому. – Здесь меня больше ничто не держит. Я возвращаюсь домой.
Он смеется.
– Домой, – повторяет он. – Русские вскоре придут туда. Тогда и посмотришь.
– Думаешь, меня это хоть немного волнует?
– Давай уедем вместе. Твоя страна обречена, моя страна – тоже. Твой брак разрушен. Мы могли бы поехать в Швейцарию. Я знаю человека, который поможет нам получить визы. Он работает в швейцарском посольстве…
Она качает головой.
– Я не могу уехать с тобой, Франческо, – тихо говорит фрау Хюбер. – Я не могубыть с тобой. Это было бы неправильно…
– Неправильно?! – Он повышает голос. Она шикает, озираясь по сторонам: не слышит ли их кто-нибудь? Но в кафе сидят лишь офицеры, за два столика от них; четверо офицеров с парой итальянок. Девушки смеются над чем-то услышанным. А в отдалении женщина в широкополой шляпе с перьями, principessa Casadei,читает лекцию иссохшему, морщинистому мужчине, который приходится ей отцом: он принц, рыцарь ордена святого Иоанна, член почетного папского караула. – Неправильно? – повторяет Франческо. – Ничего «неправильного» мы не совершали. Мы любили друг друга, любимдруг друга…
– Тише!
Принцесса Касадеи смотрит на них и наклоняет голову в сторону Гретхен. Лицо ее выражает вежливую заинтересованность. Как себя чувствует фрау Хюбер после ужасной трагедии?
– Мы любимдруг друга, и мы не сделали ничего предосудительного.
– Ради Бога, говори потише! А если это так, если мы не сделали ничего предосудительного, то почему погиб Лео?
Хороший вопрос при сложившихся обстоятельствах: почему погибЛео? Немецкие офицеры оглушительно хохочут; принцесса Касадеи негромко беседует с отцом; армейский автомобиль патрулирует улицы в поисках женщин (даже в пол-одиннадцатого утра эти мужчины ищут женщин!), а Гретхен спрашивает, почему погиб Лео. Этот вопрос не прекращал терзать ее, но ответа на него получено не было.
– Потому что идет война, – ответил Франческо. – Вот и все. Если ты не думаешь, что Господь вершит свою волю руками американского пилота, то да, все это – судьба, фатум, стечение обстоятельств, как угодно.
– Это наказание.
– Весьма странный способ наказать человека – убить другого. Что же это тогда за Бог? Едва ли его можно назвать милосердным и любящим.
– Ты еврей. Что ты знаешь о Боге?
– Я думал, это мы его придумали.
Гретхен тщательно подбирает слова, как подбирают смертоносное оружие:
– Возможно, вы и придумали Бога, – говорит она, – но вы же его и убили.
Воцаряется молчание. В этих словах слышится неизбежность. Она не может отменить их, вернуть. Достаточно мгновенной вибрации воздуха. Они произнесены.
Франческо медленно встает. Что удивительно, он исполнен чувства собственного достоинства. Он встает, наклоняется и кладет что-то на стол. Предмет – ключ – блестит на солнце, как вульгарная бижутерия. К нему прикреплена бирка.
– Это ключ от квартиры в Женеве, одолженный моим другом, в чье существование ты не веришь. Мы могли бы уехать туда. – Франческо выпрямляется и на миг застывает возле нее; преисполненный гордости, несмотря ни на что он производит сильное впечатление. – Быть может, мы когда-нибудь там встретимся. Кто знает?
Потом он разворачивается и уходит. Гретхен выжидает несколько секунд. Затем берет ключ, смотрит на него, словно не понимая, как он там оказался. «Улица Гранже», написано на бирке. И номер. Она кладет ключ в сумочку, встает и подходит к столику, за которым сидят отец и дочь Касадеи. Принц привстает и целует Гретхен руку.
– Дорогуша, – жалостливо говорит принцесса, – как же я рада, что ты так скоро решилась выйти на люди. Терпеть не могу этот изнурительно долгий траур, который всегда позволяем себе мы, итальянцы.
– Ганси, – шепчет она.
Он молчит. Сквозь ставни сочится бледный лунный свет. Он лежит на спине, скрытый в тени; огромная недвижная фигура, безутешная в своей скорби.
– Ганси?
Ответа нет. Но она, тем не менее, продолжает.
– Франческо Вольтерра – еврей, – говорит она.
Он отвечает, не сводя глаз с потолка. Силуэт его остается неподвижным.
– Откуда тебе знать? – Герр Хюбер тихо, невесело смеется. – Нет-нет, не нужно отвечать, не утруждай себя, асеравно ты солжешь.
– Я больше не буду лгать тебе, Ганси, – шепчет она. – Больше никогда.
– Наверное, это тоже ложь.
– Это правда, – говорит фрау Хюбер. Она откидывает простыню, берет его руку и направляет ее к своему животу, к жестким волосам и теплым складкам внизу.
– Тогда ты должна сделать еще кое-что, – говорит он, – чтобы загладить свою вину.
– Кое-что? – Она трется о его пальцы. – Что именно?
– Ты должна отвести меня к нему.
Две черных машины блестят, как пара туфель лакированной кожи, туфли-лодочки с серебряными пряжками. Они неспешно катятся по узкой улочке и тормозят у одного из самых заурядных многоквартирных домов. Пятеро мужчин и одна женщина выходят из машин. Женщина показывает, куда идти, проводит своих спутников через арочный вход до застекленной кабинки портье.
Развернувшись у лифта, она решает подняться по лестнице, винтом уходящей вверх. Сворачивая на каждом этаже, где есть пролет и маленькое окошко наподобие иллюминатора, лестница устремляется к самой крыше. Мужчины следуют за женщиной и застывают в нерешительности, когда она доходит до последней лестничной площадки. Там, под стропилами, ужасно жарко, не продохнуть. В воздухе парят комочки пыли. Один мужчина – с потным лицом – аккуратно проскальзывает у нее за спиной и прислоняется к стене у двери. Остальные ждут внизу, как раз на уровне нижней ступени.
Она стучит – в особом синкопированном ритме, к которому успела привыкнуть: четыре коротких удара по дереву, три подряд и, наконец, последний раз – выдержав паузу, затаив дыхание.
Через некоторое время дверь приоткрывается, как неохотно раздвигаются ноги, уставшие сопротивляться.
– Гретхен, – тихо произносит он. Он стоит на пороге, в дверном проеме, и выражение его лица последовательно отображает всю гамму эмоций: удивление, радость, потом – нечто вроде испуга, смятения. Она делает шаг вперед, тянется к нему, чтобы поцеловать в щеку, и произносит его имя:
– Чекко.
– Гретхен, – повторяет он. Его руки застывают в воздухе: то ли затем, чтобы обнять ее плечи, то ли затем, чтобы, напротив, отстранить ее. Но, едва сделав шаг вперед, она отступает – вернее, ее грубо отпихивают. Она отворачивается к лестнице, пока мужчины врываются в квартиру…
За спиной слышится вопль, который тут же прерывает хлопок двери. Она осторожно спускается по лестнице на первый этаж. Ее лицо как будто выточено из мрамора; в нем нет красоты, нет классических черт. Муж ожидает ее на тротуаре.
Гретхен за прялкой. Гретхен прядет нити судьбы. Гретхен за клавиатурой, играет мягко, но угрюмо; плещутся аккорды бетховенской сонаты си-минор, опус 111, безымянный, хотя он вполне мог бы быть озаглавлен «Аноним», поскольку выражает он то, чему названия нет, – ужас человеческого существования. Гретхен плачет. Она оплакивает Лео и Франческо: первый мертв, второй обречен, – и музыка колеблется между пафосом, печалью помыслов и гневом; зыбкая, задумчивая погребальная песнь, прославление жизни и элегия смерти. Во время игры она сбивается, допускает ошибки. Подчас она путается в хитроумных извивах адажио, где темп нелепо обозначен как moltosemphce е cantabile,очень просто и напевно; однако своим ошибкам она больше не улыбается. Нет, она останавливается, возвращается, собирает хрупкие осколки нот и складывает их воедино, словно разбитый фарфор. Ноты выплывают из рояля«Бехштайн», улетают в окна, реют над итальянским садиком: порой подобно торжественному сопровождению панихиды, порой напоминая вопль человека, предвкушающего экстаз, – но в конечном итоге ноты все равно тают в тишине.
Магда – настоящее время
Магда мягко ступает по полу квартиры. Хотя она и высокого роста, шаги ее беззвучны и грациозны, как у кошки. Стопы у нее продолговатые и белые, с пальчиками разной длины. Иногда она берет свою папку с набросками, реже – кипу рисунков; чаще всего ни того, ни другого нет: лишь она одна. Я представляю, как ее везут на автобусе в пригород – там сплошной армированный бетон и все люди носят нечесаные космы до плеч, – и она позирует перед камерой в какой-то безвкусно обставленной импровизированной студии; она разводит руки и ноги, чтобы объектив мог поймать абсолютно все, пробраться в самые потаенные уголки ее тела. Знание без понимания.
– Хочешь посмотреть? – спросила она и бросила мне журнал. Журнал Магды, [96]96
Игра слов: Magda – mag (сокр. от magazine– журнал (англ.)
[Закрыть]кричащий, разноцветный, жизнерадостный, как обертка рождественского подарка. Называется «Пососи». Я открыл журнал и пролистал несколько шероховатых на ощупь страниц. Там, разумеется, была Магда: Магда в ослепительно-белом парике, бьющаяся в нелепых конвульсиях на кровати в каком-то дешевом отеле; Магда с раздвинутыми ногами, сверкающая неприкрытой плотью; Магда показывает свои складки, покатости и ложбины; Магда, названная «Кристал, наша собственная бархатная революция из Чехии», но все-таки Магда. Это точно.
– Омерзительно. – Я даже сейчас слышу голос Магды. – Мне кажется, – этот звук «ж» болтается между двумя звуками, взрывным и фрикативным, наполовину «ж»,наполовину «д», чисто ирландское произношение, – мне кажется, с этим нужно что-то делать.
– Что-то? А что именно?
Последний разворот: Магда стоит вполоборота, демонстрируя свои ягодицы, и напоминает легкомысленную домохозяйку, которая впускает в дом молочника через черный ход.
Она не сводит с меня глаз. И наконец спрашивает:
– Что скажешь? Этого хватит на квартплату?
– Ты за квартиру не платишь, – отвечаю я.
Она лишь смеется.
Магда пишет. Она смотрит на меня, когда пишет, смотрит с прищуром, смотрит властным взглядом художника. Она смотрит на меня, когда пишет, а я на нее, когда она занимается будничными делами: обнаженная Магда сидит на стуле,поджав колени, и красит ногти траурно-черным лаком; Магда на кухне кипятит воду длякофе, который она называет «турецким», хотя это не так; Магда лежит в ванне, будто на картине Боннара [97]97
Пьер Боннар (1867–1947) – французский живописец и график (Примеч. ред.)
[Закрыть]и груди ее плавают, как яйца-пашот в бульоне, и пена лобковых волос напоминает водоросли, оставленные схлынувшей волной, скрывающие в себе тысячу темных тайн. Магда выдержана в черно-белой гамме: чернота волос, чернота глаз, чернота губ – и голая белизна кожи. Я смотрю на нее, и взгляд помогает мне завладеть ею.
– Ты не всегда был учителем, – сказала она мне однажды. Ее слова звучат как решительное утверждение, и не тол ко в силу непонимания нюансов языка, но и потому, что уверена в своей правоте. – Ты был кем-то другим.
– Священником, – ответил я.
– Я знала. Кем-то другим, я это знала. Так можно сказать – «кем-то другим»?
– Да, можно.
– Священник. – Она покачала головой, как будто подозревала что угодно, но только не это. – Katolicky?
– Katolicky, –подтвердил я.
– А теперь не священник.
– Нет.
Каждое воскресенье Магда с прилежанием деревенской простушки ходит в церковь. За углом палаццо, на краю гетто, стоит, точно маяк, неприметная церквушка в стиле барокко. Магда тихонько проскальзывает в церковь и садится на заднюю скамью, откуда смотрит на все так, будто вписывает увиденное в память на манер салонной игры: гипсовые святые, затейливо украшенные алтари, пыльная позолота на потолке, старый трясущийся священник, несколько старушек, случайно забредшая девушка с серьезным лицом евангелистки – все это сохранено в ее памяти.
Вернувшись из церкви, Магда сливает увиденное в амальгаме рисунка: церковный купол, склоненные головы, расписной гипс, священник в ризе, распростерший руки так, словно он не просто отправляет службу, а в самом деле агонизирует на кресте.
Только лицо ее принадлежит не старику и не церкви, а мне.
Однажды, гуляя по близлежащим улочкам, Магда замечает в витрине антикварного магазина дароносицу. У нее случайно оказались при себе деньги (возможно, ей как раз заплатили за то, что она позировала перед камерой какого-то безликого мужика с эрегированным членом), так что Магда зашла внутрь и купила эту дароносицу. Теперь она стоит в гостиной – огромный слепок потускневшего солнечного света. Дароносица появляется на многих картинах Магды, проплывая над распятым священником, как взрыв, как адское пламя, как холокост жертвенного агнца.
– Моя мать ходила в церковь, – сказала Магда в ответ на мой вопрос. – Думаю, она не верила, но мой отец был членом партии, и таким способом она вызывала в нем ненависть к себе. Партия считала, что в церковь ходить нельзя Они спрашивали у него: почему твоя жена ходит в церковь? Понимаешь? Когда он ушел, она перестала ходить туда.
– А ты верующая?
– Верующая? – Магда лишь пожала костлявыми плечами. – Я верю, что Бог существует. Как же иначе?
– И как он относится к тому, чем ты занимаешься?
– Думаю, ему плевать. Ему на все плевать, не так ли?
– Я не знаю, – ответил я. – Раньше знал, а теперь не знаю.
Тогда она вдруг спрашивает:
– Ты боишься? – И я соглашаюсь: да, я боюсь, и ей, похоже, приятно это слышать. – Я часто боюсь, – говорит она. – Но я думаю, жизнь должна быть страшной, поэтому люди и ходят в церковь. Чтобы не бояться.
– Вроде того…
– Но ты боишься, а в церковь не ходишь.
– Верно.
В ту ночь, лежа в постели, Магда придвинулась ко мне и положила мою руку себе между ног.
– Не бойся, – прошептала она. Тепло ее волос, прикосновение ее запретной плоти – тех участков, которые Магда беззастенчиво обнажает перед камерой, хотя принадлежат они лишь ей; ее чувственность, ее теплое животное начало – все это приносит мне утешение. Я люблю ее запах. Это теплый, мучной аромат, аромат зерна и травы, приправленный тонким запахом пота. Кости у нее крепкие, и плоть не такая податливая, как у Мэделин. Плоть Магды тверда. Две женщины с одинаковыми именами находятся на противоположных концах любого женского спектра, который только можно себе вообразить.
Сперва на автобусе с пересадкой, потом пешком по улице Мерулана – и мы на месте. Она неоднократно видела подобные места: узкий проход между вульгарными, кое-как слепленными многоквартирными домами, знакомый ей по окраинам любого моравского города. Наследие фашизма и наследие народной республики очень похожи друг на друга. Изумляет банальность этого кошмара.
– Где мы? – спрашивает Магда. – Где мы находимся, Лео? – Легкое возбуждение, привнесенное ею в поездку, уступает место смутному страху, как омраченная неприятным известием шутка.
– Мы находимся на улице Тассо, – говорю я ей. – Дом сто сорок пять по улице Тассо, – уточняю я. Узнает ли она это название? Сомневаюсь. Для Магды история началась лишь несколько десятилетий назад.
Женщина в офисе на первом этаже обходительна и явно относится к своим обязанностям со всей серьезностью, напоминая медсестру, которая ухаживает за больными. Есть небольшая библиотека, где мы можем ознакомиться с документами. Можно взять англоязычный буклет. Можно подняться на следующий этаж когда угодно.
– Что это такое, Лео? – снова спрашивает Магда. – Что это за место?
Я не отвечаю. Наверное, хочу внушить ей священный трепет перед непознанным. Наверное, хочу ее напугать.
– Отвечай, – не унимается она. – Что это?
Мы молча поднимаемся выше, приближаемся к серым дверям. Все вокруг покрыто пылью и копотью и пахнет дезинфицирующим средством. На первый взгляд, какое-то заурядное муниципальное здание. Я вспоминаю те несколько лет, что я прожил в роли приходского священника в Лондоне, пока не услышал зов древних текстов. Линолеум на полу, безвкусные тисненые обои, узкие коридоры и крохотные комнатушки, общая кухня и службы.
– Что это, Лео? – повторяет Магда, подходя ко мне у входной двери, где можно позвонить в звонок, и появится женщина: ее волосы будут спрятаны под платком, тело будет скрыто цветастым фартуком, а обута она будет в комнатные шлепанцы. Но вход никто не охраняет, как будто произошла глобальная катастрофа. Дверь квартиры распахнута настежь.
– Что это? – Магда осматривает узкий коридор и унылые комнаты, вентиляционные решетки над дверными проемами, дверные глазки. – Что это? – повторяет свой вопрос Магда, хотя и так уже все поняла.
Не дожидаясь приглашения, мы переступаем через порог. Чай тут не подают. Пюре с колбасками и зеленым горошком тоже не угостят. В одной из комнат, прямо напротив двери, нет окон. О, раньше окон не было вообще нигде, но это потому, что проемы были замурованы, а во внешних стенах были предусмотрительно проделаны вентиляционные отверстия, чтобы заключенные не задохнулись. Но в комнате напротив двери, узкой и голой, окон не было изначально: обычная кладовая, чулан, по-итальянски это называется un ripostiglio.
– Вот здесь, – говорю я, указывая рукой. – Вот здесь.
Комната эта шириной в шесть футов и шестнадцать в длину. Голый пол. Стены покрыты толстым слоем синей краски – мерзкий, казенный цвет. Магда застывает в дверном проеме, неохотно заглядывает внутрь, еще не зная, что увидит там.
– Смотри. – На краске выцарапаны отчаянные, дерзкие каракули. Я хорошо знаю это место, знаю, где находится каждое слово, каждая фраза, каждая богобоязненная надежда и каждое жалкое признание. – Смотри.
Она заходит в комнату и смотрит, куда я указываю. Это греческое слово ιχθύς, «рыба».
Пришло время прочесть лекцию о рыбах.
– И вот здесь.
Дата, выцарапанный календарь, проклятие, послание Dio с'и. Camerati non dimenticarmi.Бог есть. Друзья, не забывайте меня.
– И еще вот тут. – Сквозь каракули проглядывает белая штукатурка, как мясо в открытой ране, как кость сквозь ожог: Addio pianista mia. Non serbo rancore. Un bacio Francesco.
Реальность текста, текст как улика и свидетель одновременно.
Addio pianista mia. Non serbo rancore. Un bacio Francesco.
Чем обычно выцарапывают подобные надписи? Ногтями? Пряжкой ремня? Нет, ремни отбирают. Скрепкой, найденной в пыльном углу камеры? Гвоздем из ботинка? Чем?
– Что это значит? – спрашивает Магда. Она выбирает одно слово, одно из многих. И слово стало плотью. – Serbo?Что это значит? «Серб»?
– Rancore– это злоба, обида.
– Что это значит? – Голос ее хрупок, как будто готов в любую секунду надломиться.
– Non serbo rancore.Я не держу на тебя зла. Я тебя не виню, понимаешь?
Она рассматривает слова, выцарапанные на штукатурке.
– Кто такой Франческо? – спрашивает она. – И пианистка. Кто она такая? – И тогда Магда вздрагивает от всего этого ужаса – чувства замкнутости, ограниченности пространства, чувства ловушки. Ее ужасает прошлое, которое в этом месте нещадно подавляет настоящее и лишает всех свободы. – Я знаю, что это за место, – мягко говорит она. – Это тюрьма.
Магда пишет то, что я и предполагал: Лео на корточках сидит в углусиней комнаты. Загогулины на стенах, картинки и слова на синей краске. Лео в тюрьме.








