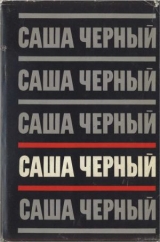
Текст книги "Том 4. Рассказы для больших"
Автор книги: Саша Черный
Соавторы: Анатолий Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
На пляже, в залихватски-небрежных позах, лежат курортные наяды. Огромные попугайские зонты сливаются с полосатыми палатками; палатки – с шезлонгами; шезлонги – со штанами наяд…
Близорукий человек, попав в эту цветистую кашу, легко может сесть вместо кресла на свою жену или, Боже сохрани, на чужую… Но как-то все разбираются. Каждая душа находит свое место под своим зонтом. Сидят тесными кружками в тени, как песок струится легкая беседа, глаза обжигают глаза, блестят натертые кокосовым маслом руки и плечи.
Даже неблизорукий человек не разберет: кто тут авантюрист, кто святой, кто мулат, кто белый, кто Антиной, кто Венера… Зачем вдаваться на пляже в такие подробности? Флиртуют, болтают, разрезают волны сильными взмахами рук, – да будет легка им жизнь…
Между взрослыми ползают и барахтаются смуглые человеческие детеныши. Тащат в воду купаться упирающихся мохнатых собачек, – детеныши могут купаться сорок раз подряд, пока уши не станут зелеными, а губы лиловыми…
Мохнатые собачки знают, что это негигиенично, – но как от этого несчастья избавиться, когда маленький человечек тащит тебя за компанию, головой книзу, в море? Кусаться запрещено, лаять под мышкой неудобно, а удрать из воды невозможно, потому что за каждую лапу тебя держат две детских руки.
Но, в общем, хорошо на пляже… Весь божий мир – огромный салон. Васильковый потолок отделан белоснежным карнизом облаков; ветер галантно обвевает прохладным веером спины; посреди средиземной ванны сонно покачивается эшафот, – плот для прыгунов-пловцов; по пляжу цвета чайной розы развозят на двуколке мороженое, – райскую пищу для детей до шестидесятилетнего возраста…
Если ты маленький, можешь упросить маму, чтобы позволила тебе покататься на покорном ослике: так чудесно хлопать босыми пятками по гулким бокам, так вкусно скрипит красное, кожаное седло… Если ты большой, – иди в казино, роскошную коробку из полусантиметрового бетона, – дуй аперитив, рассматривай, повернувшись спиной к морю, наядам и солнцу, родимое пятно на собственном бедре и воображай себя Оскаром Уайльдом… Хорошо, в общем, на пляже…
А в дюнах за бугром – другой век. Может быть, бронзовый, может быть, железный, может быть, волосато-орангутангский. Перед походными скворешницами на колесах сидят кирпичные, тощие люди, обросшие бурым войлоком. Вместо костюмов – пояса стыдливости шириной в почтовую марку. Ветер раздувает на головах выцветшую паклю. Выцветшие глаза, выцветшие ресницы… Сидят и молча преют…
По временам то один, то другой вскакивает, проделывает какие-то эвритмическо-шаманские пассы, – ноги циркулем, руки косыми граблями в воздухе, пальцы, как пляшущие фурии… И опять замирает. В котелке на треножнике клокочет какое-то вегетарианское варево: быть может, рагу из сосновых шишек, быть может, суп из водорослей. Ни смеха, ни улыбок, ни веселого слова. Преть надо молча, созерцательно, принципиально, и по системе.
Одна из фигур, – тощая коза, отдаленно похожая на вымоченную в уксусе старую деву, – подошла к морю. Зачерпнула ладонью воды, полила себе на затылок. Изогнула коричневую кисть вбок, повернула ее египетским жестом вокруг оси и отошла в дюны. Это она купалась. Выцветший дылдообразный блондин, весь состоящий из ключиц, лопаток и сухожилий, торжественно распростер девушку на песке, склонился над нею. Усыплять он ее будет, что ли, или скальпировать? Вытянул ей руку, промассировал мелкими щипками, потом другую руку… Потом стал перебирать ей пальцы на ногах, будто играл на арфе… И деловито отошел в сторону, как лунатик, исполнивший свой долг.
Над косогором вверху проходят люди – двадцатого века. Осторожно косятся сквозь сосновые лапы и с почтительным недоумением шепчут:
– Нудисты…
– Культ тела. Они переутомлены городом и возвращаются к природе…
– О, о! Скажите, пожалуйста!
Какой, однако, тусклый «культ тела»… Почему эти коричневые макароны, принципиально высушенные и пересушенные на солнце, называются «культом тела»? Почему тряпочка-перемычка, скрывающая последнюю наготу, объединяет этих скучных чудаков в какую-то нудную, скопческую секту? Что понимают в природе эти эвритмические Робинзоны, созерцающие муравьев на большом пальце собственной ноги?.. Почему нужно скопом проводить лето вместе вокруг котелка с кипящей овсянкой, – без смеха, без песен, без вина, без беспечной радости легкого бродяги на легкой земле?..
Ветер насмешливо шуршит в вереске, веселые сороки стрекочут в дремучем можжевельнике, веселое море сквозит сквозь сосны… Белобрысый дылда растягивается на песке, вбирает в себя и без того вогнутый живот и медленно, с лицом пророка Исайи, массирует его грубой шерстяной перчаткой.
Мир праху твоему, волосатый бухгалтер, несущий миру новую двухсантимную бесштанную идею!
<1931>
УЮТНОЕ СЕМЕЙСТВО *В житейской лотерейной серии «маленьких чудес» Пронину выпал счастливый номер. Приятель, взявший у него взаймы лет десять тому назад в Берлине 70 долларов, – тогда еще у Пронина кое-какие подкожные деньги водились, – прислал ему свой долг.
К деньгам этим Пронин так и отнесся, точно нашел их на улице. Не только не положил их на книжку, даже из полезных вещей ничего себе не купил, деньги легкие, надо было их легко и спустить. И мудро решил пожить месяц барин не барином, а на полной воле. Пусть, черти, в пансионе за ним поухаживают, – будет сидеть на веранде, на осенних бабочек смотреть. Одна нога на камышовом кресле, другая… Впрочем, он так и не мог себе представить, какое роскошное положение будет занимать вторая нога.
Свое маленькое малярное дело оставил в Париже на компаньона и уехал в Сен-Клер. На обыкновенной географической карте даже и точки такой не разыщешь, – кто-то из знакомых назвал.
Оказалось, что такое место (на прошлой неделе Пронин и имени его не слыхал) – не выдумка. Десяток вилл у Средиземного моря, одна другой домовитее и милее: словно в каждой давно-давно еще в детских снах жил. Группа пиний на бугре. Захолустный заливчик, окаймленный дюнами, – так к ним и потянуло – к простым песчаным буграм… И местные людишки, тихие провинциальные французы, копошащиеся около своих пансионных дел.
За домишками крутой стеной пустынные холмы. Занавес… Посмотришь из окна и спокоен: может быть, никакого прошлого и не было. Дьявол выдумал, ветер унес.
Первые дни благостные, небывало-спокойная жизнь до того укачала гостя, что он даже растерялся. Можно встать утром и напиться кофе внизу. Можно у себя поваляться: подадут в номер. Можно лечь в дюнах и, превратившись в грудного младенца, сосать былинку… Или уйти в горы и на каждом повороте, через каждые десять шагов безмолвно ахать перед всей этой красотой, которая и без него, приезжего человека, вчера здесь сияла. А уедет Пронин в Париж, к своим малярным заказам, – горы, небо и пинии даже и не поморщатся. Одним муравьем меньше.
Гость отвык от природы, до природы ли эмигранту? А тут она вдруг навалилась на него во всей своей осенней чистоте и ясности. Безлюдие, – чайка сядет в двух шагах на волну, будто никакого Пронина и на свете нет. И выходило совершенно очевидно, что чайка эта со дня рождения ведет самую настоящую правильную жизнь, а приезжий гость в дураках оказался: учился, воевал, трепался из страны в страну, а теперь чужие комнаты обоями оклеивает.
Городской человек, если очутится лицом к голой природе, два дня поохает, потом задумываться начнет. Все, что дремало в городе под спудом, все главное, что ради «дел» ушло в душевный подвал, – выплывает и требует хоть какого-нибудь куцего ответа. А Пронин никаких ответов не знал. Не он сеял – жать ему… Что поделаешь.
Ночью, распахнувши окно на море и глядя на полный месяц, блаженно сиявший над чужим заливом, приезжий понял, чего ему недостает. Вот сейчас, сию минуту. Русской беседы. Не эмигрантской, от тупика в тупик, от беды к беде, а так, в пространство, в неизвестном направлении, как на русских дачах когда-то разговаривали.
Как и у многих за последние годы, все больше крепла у него острая иллюзия, будто прежде, до обвала, даже самый захудалый Новгород-Волынский (из которого он когда-то очертя голову сбежал в Петербург) был переполнен необыкновенно-уютными людьми.
Кипящий самовар и вареники с вишнями перемешивались в памяти с обрывками чудесных дачных разговоров, с теплым сиянием добродушных глаз… И семени не осталось.
Ах, если бы, – думал он с враждебным недоумением всматривался в черные камни, окруженные бурлящей лунной водой, – хоть кого-нибудь чудом встретить в том прежнем облике…
Прикрыв тихо ставни, – сел на кресло, сжал крепко пальцы, – и показалось ему, что в этот лунный час несчастнее его во всем мире человека не было.
* * *
На следующее утро Бог ему это чудо показал. На веранде сидел в допотопном чесучовом пиджаке и панаме плотный человек: бородка табачным венчиком, благодушные ленивые глаза. Пил чай из давно невиданного подстаканника – с собой привез, где же в Сен-Клере такую штуку достанешь. Рядом с ним вальяжная дама намазывала масло на хлеб – на каждой фотографической русской группе такие дамы в старину на первом плане полтора места занимали. Жесты медлительные, будто на виолончели играет, локти сахарные, вокруг головы толстая коса выборгским кренделем уложена… Дочка, курносенький худыш, крошила в чай бисквит, болтала одновременно ложечкой, языком и ногами, да еще умудрялась непрерывно встряхивать челкой, над которой огромной бабочкой торчал гранатовый бант.
– Французский пансион! – недовольно фыркнула дама, словно свою прислугу распекала. – Порядочного кофе подать не могут… Бурда. Надо было в такую дыру забираться. Хоть бы в Париже посидели подольше. Черт с ними, с дождями, на то и зонтик есть…
– Да ведь, Клавдия…
Господин с бородкой вяло развел руками, как он, должно быть, разводил уже сорок тысяч раз.
– Ты же знаешь, дружок, почему мы из Парижа выкатились. Еще ведь месяц отпуска, а мы того: на одну овсянку осталось. Здесь вполне сносно перебиться можно… Кофе плохой, – пей шоколад. На это хватит.
– Чтоб меня воздушным шаром разнесло? Благодарю покорно. Еще рыбьего бы жиру предложили…
– Ну, чай пей. Надо же как-нибудь перебиться.
– Морская трава у них, а не чай. Не желаю я перебиваться. Не для этого во Францию приехали…
Господин поморщился. Муху из стакана выкинешь, а с женой – что делать…
– Об этом в Париже, матушка, думать надо было. Поменьше бы тряпок накупала…
– Ах, вы по-пре-ка-е-те!
И так чудесно пропела этот глагол, с такой неподражаемо переливающейся в презрение обидой, что на Пронина так Новгород-Волынским и пахнуло.
– При вашем положении чумичкой я, что ли, должна в Ков-но возвращаться?
– Зачем же, мать моя, чумичкой. Сундук твой, слава тебе Господи, по швам трещит. Чего тебе здесь не хватает? Море, тишина. Виноград дешевый. Ты ж природу любишь…
– Природа… На хлеб я ее буду намазывать вашу природу. Не пятнадцать мне лет – на голую природу любоваться.
Пронин, прикрывшись газетой, жадно слушал. Господи, какие давно забытые интонации… Кто такие? Что за ковенские ископаемые?
Дама все не могла успокоиться. Съела три бутерброда и опять:
– Общества никакого. Какие-то старосветские французские помещики, – она бесцеремонно кивнула в сторону старенькой четы, тихо сидевшей в стороне за столиком. – Сезон кончен. Прямо курам на смех…
Пронин усмехнулся. Сколько лет он про этих кур не слыхал.
– Брось! Дай хоть чай допить. Что за манера с утра пилить человека… Слава Богу, что сезон кончен. В сезон у них цены кусаются, душечка. Проживем месяц и дело с концом. А там у нас не очень-то разбираются, что Сен-Клер, что Сен-Рафаэль, – один бес. Ну, наври что-нибудь. Ведь вон тот в углу, в синем галстуке, – он показал глазами на Пронина, – человек солидный, живет же здесь и доволен…
Но барыня даже и «человека в синем галстуке» не оставила в покое.
– Комиссионер какой-нибудь голландский. Может, он лучше Сен-Клера и курорта никогда не видел. Конечно – будешь доволен.
Пронин улыбнулся во весь рот, привстал и вежливо объяснил:
– Простите, пожалуйста. Я не комиссионер и не голландец, а, как изволите видеть, девяносто шестой пробы русский. И если ничего не имеете против, позвольте представиться – Иван Ильич Пронин. Приехал сюда из Парижа отдохнуть и, как ваш супруг справедливо заметил, – действительно, вполне доволен. Курортов перевидал немало, но лучше места для отдыха и не выдумаешь.
Дама спекла рака, даже ушки, даже великолепная ковенская шея покраснела, хотя надо было просто весело рассмеяться. Муж неуклюже раскланялся и пробормотал, что ему «очень приятно». Но дочка выручила:
– Русский, русский! Вот и чудесно. Я с вами гулять буду. А то они все ссорятся, мало они нассорились дома…
Дама так брандмайором и вскинулась:
– На-та-ша!!! Сейчас ступай в свою комнату… Два дня без третьего блюда. Сколько раз я тебе говорила, – когда взрослые разговаривают, дети не должны вмешиваться. Марш!
И после повелительных слов по адресу дрянь-девчонки сразу же, обернувшись к Пронину, растеклась малиновым сиропом:
– Бога ради, простите. Совсем как в водевиле, такое кви-про-кво вышло. Очень, очень рада. Сахновская. Виктор Иванович! Что же ты, друг мой, язык проглотил. В самом деле очень приятно в такой дыре с соотечественником встретиться.
Дочка стояла у входа на лестницу и, несмотря на предстоящие ей два дня без третьего блюда, улыбаясь, во все глаза смотрела на русского дядю.
– Что же ты торчишь там? Десять раз повторять надо? Ступай!
– А, может быть, вы ее простите ради неожиданного нашего знакомства? – мягко вступился за девочку Пронин, – ведь я был невольной причиной ее наказания… Пожалуйста. Мы больше не будем.
Но дама поджала пухлые губы, кисло улыбнулась и насупилась.
– Нет. Лучше и не просите. Не в моих принципах отменять наказания. Садитесь, пожалуйста.
А муж, вглядевшись в Пронина, откинулся к спинке стула и хлопнул себя по коленке:
– Сказала тоже… Да разве голландцы такие бывают?.. С биографией нашей вы по нашему разговору немного знакомы. А теперь надо и с вами познакомиться. Коньяк пьете? И расчудесно. Стало быть, и ваша биография нам теперь отчасти известна. Вот мы ее сейчас и спрыснем… Гарсон!
И ковенский гражданин, весьма довольный своей остротой, до того оглушительно расхохотался, что французские старички испуганно обернулись и еще тише между собой разговаривать стали.
* * *
На следующий день, во время завтрака, Пронин получил еще большее удовольствие. За два месяца в вагонах да номерах супруги друг другу достаточно надоели… А тут свежий слушатель попался, да еще русский. В глухом Сен-Клере – прямо дар судьбы.
– Что же это вы, милостивый государь, уединяетесь? – крикнул, потирая руки, Сахновский. – Валите к нашему шалашу. Вместе почавкаем.
– Фи, Виктор, какие у тебя выражения! – поморщилась барыня.
– Ничего, душечка. Не по-испански же разговариваем… Водчонки? Флакон собственного изделия в чемодане завалялся. Слеза! Эй, гарсон, еще одну рюмку! Ишь, как поворачивается. Гражданин вселенной. Одолжение мне, подлец, делает. Раз ты лакей, черт тебя задави, пол под тобой гореть должен! Разве так у нас на Литве служат… Собственный у меня услужающий при конторе есть, вроде казачка. Чаю! Даже и не скажешь, палец только подымешь. Он тебе, ракалия, в момент сразу все и прет: чай, пончики, сливочки… Да какие, батенька, сливочки. Президент здешний таких не пьет.
– Ну, мы тут от казачков поотвыкали. Каждый сам себе и казачок, и нянька, и мамка, – добродушно заметил Пронин.
– Ужасно! – ковенская дама трагическим жестом поправила брошку с довоенным портретом мужа. – Я бы и трех дней не выдержала.
– А мы тут тринадцать лет выдерживаем. Экая беда! – сухо ответил Пронин. – И если кто-нибудь из эмигрантов еще казачков держит, это, знаете ли, седьмое чудо света.
– Мы не эмигранты, – гордо пояснила дама.
Пронин осекся. Вот так финик! Не из полпредских ли они ковенских кругов? Серп и молот на буржуазной подкладке?.. Нет, аллюры не те. И у девочки крестик гранатовый на шее, – это у них не в стиле.
– А кто же вы, простите за естественное любопытство?
– Литовские граждане, – с достоинством ответила новая знакомая. – Муж еще в 23-м году подданство принял. У него положение – это необходимо.
Дама так вкусно произнесла «положение», будто бутылку со старой малагой откупорила.
– У меня положение, – солидно подтвердил муж.
И вдруг так весь благодушно и засиял, точно пятки ему гусиным пером пощекотали.
– А это вы насчет седьмого чуда правильно заметили. Действительно, семейство наше за деньги показывать можно… Войны не видали. В Европе по военным заказам с женой мотался, потом так и застряли. Большевизия мимо нас прошла, Бог миловал, – до Ковно волна не докатилась. Единственный, сударь, русский город, который не захлестнуло. Здорово?
– Бывший русский, – поправила его жена.
– Ладно, матушка. Без тебя известно… В эмиграции тоже не мыкались, потому что еще с двадцатого года я на свою специальную полку попал.
Загибая похожие на морковки пальцы, он, вспоминая все, что его семью миновало, точно роды оружия перечислял: в артиллерии не служил, в кавалерии не служил, в пехоте не служил…
– А какая же ваша специальная полка? – полюбопытствовал Пронин.
– Водочным заводом управляю. Да-с. Чистенькое, сударь мой, дело… – Сахновский назвал место, которое он на земном шаре украшал: не то Лодыжки, не то Пропилишки.
– Аркадия у нас форменная. Как в довоенном раю живем. Сад у нас фруктовый в три десятины. Яблоки с мою голову… Горы. Свиньи не едят, хоть в пирамиды складывай. Индюшки свои. Сало свое. А я вот в отпуск сдуру поехал, жене Францию показывать… С жиру люди бесятся. А что здесь видели? Подтяжки да дамские рубашки. Да вот в Сен-Клере этом паршивеньком отсиживаемся теперь, экономию нагоняем.
Дама иронически передернула плечиками.
– Меньше бы по ресторанам слонялся, вот бы что-нибудь и увидел.
– Что же ты меня ресторанами коришь… На твои комбинезоны не меньше ушло. По ресторанам тоже понятие о стране составляешь. Был, между прочим, и в ваших эмигрантских заведениях. Кормят сносно, хотя куда же им до нас. Да из литовской курицы два ваших индюка выйдет! А закуски! Хо-хо! Мой Мишка вам такой дивертисмент соорудит, что язык проглотите. А вот служить у вас не умеют… Это уж, извините.
– Как служить? – переспросил Пронин.
– Да гарсоны эти ваши эмигрантские. Разве так служат?
Водочного управляющего, очевидно, этот вопрос особенно волновал.
– Фамильярность какая-то. Улыбочки. Разговорчики… Каждый должен свое место знать. Принес-унес, раз-два, нечего дурака валять. Расстояние понимать должен. К судомойке пойди, ей и улыбайся!
Пронина передернуло. Но он сдержался и чрезвычайно вежливо отчеканил:
– Я в наших русских ресторанах не раз бывал. Служащие там образцовые. Большинство из них настолько воспитаны, что могли бы давать уроки вежливости даже иным господам с… «положением». И многие из них в прошлом… Впрочем, вы не эмигрант и многого не изволите знать, или не желаете знать. Что же вам и объяснять. Чепуха.
Сахновский переглянулся с женой и посмотрел сбоку на Пронина: «Черт его знает, что за гусь» – и смолчал.
Уютный разговор подходил к концу. Благополучные ископаемые из Литвы жили, очевидно, на другой планете.
– А вы сами чем занимаетесь? – опасливо спросила дама.
Пронин чуть было не ляпнул: «банщик, – в турецких банях квасом головы туркам мою»… Но удержался и, учтиво склонив пробор, доложил:
– Малярное дело у меня, сударыня.
– Собственное? – с благосклонным удивлением осведомился Сахновский.
– С компаньоном вместе держим. Сами директора и сами маляры.
– То есть, как же это? – Дама нахмурилась, брошка с фотографией мужа так и заходила, словно на рессорах.
– Очень просто. Один раз я директор, а компаньон – маляр. Другой раз – наоборот. Когда спешная работа, третьего приглашаем. Вице-директором.
– Какая же, собственно говоря, разница? – оторопело спросил господин из Пропилишек.
– Разница в положении огромная. Директор обыкновенно обои клеит, это много легче. А маляр потолок белит, – голову задирать приходится, белила на лоб капают… Потеешь больше. Вот мы и чередуемся.
Супруги опустили глаза. Оба густо побагровели, хотя на веранде совсем не было жарко.
Пронин поднял с пола котенка, посадил его к себе на плечо и встал.
– Что же вы… и на чай получаете? – складывая салфетку и глядя в сторону, ядовито процедила дама.
– Зачем же? Дело не такое… Сами консьержкам даем, когда работу через них получаем. Вот когда я… гарсоном служил, тогда и сам получал. А что? – спросил он в упор. – Почему это вас интересует?
Она промолчала. Но совершенно было ясно, что уж за Пронина, за выходящее из «их круга» знакомство с ним, супруг полную порцию в номере получит…
Но Пронина уютное семейство больше не занимало. Было и нет. Стоит ли из всякой пролетной моли печенку себе расстраивать.
– Рыбу пойдем ловить? – спросил он гарсона, возившегося в углу с посудой.
– О, сударь, конечно! – весело ответил гарсон. – Вот только стаканы вытру…
И с осторожной лукавостью показал глазами на напыжившихся супругов, с грохотом отодвигающих стулья. Русского разговора за обедом Жозеф, конечно, не понял – но зато в интонациях разбирался отлично…
В это время дверь с лестницы на веранду хлопнула, и в столовую влетела запропастившаяся куда-то во время завтрака дочка Сахновских.
– Половина второго, мамочка! Я свою порцию в углу отстояла… Теперь до самого вечера шалить не буду.
– Молчать! – цыкнула на нее, словно прорвав предохранительный клапан, дама. – На кого ты похожа?! Посмотри на себя в зеркало! Судомойка ты, что ли, или моя дочь?
– Да я, мамочка…
– Сейчас же ступай к себе. Полчаса отдохнешь и опять на час в угол.
– Но, мамочка! Дядя Пронин обещал меня с собой на рыбную ловлю взять… Ну, я после постою…
– Сту-пай на-верх!
Голос главнокомандующего звучал так грозно, что девочку словно пылесосом выдуло.
Пронин поморщился. Ведь вот ей, мышонку бедному, два раза из-за него влетело. Что поделаешь…
Супруги выкатились. Он подошел к стеклу: вдали под метелками камыша проплывала парусная шхуна – ленивый летучий голландец… Мимоза в воздухе чертила нежный узор, качалась, уводила глаза Бог весть куда. А над головой гудел потолок, перекатывалось кресло: должно быть, двухспальные дураки цапаются… Новоградоволынский аккомпанемент.
– Что же, Жозеф, скоро?
– Сейчас, сударь. А как вы полагаете, – он поднял глаза кверху, – карету скорой помощи вызывать не придется?
<1931>








