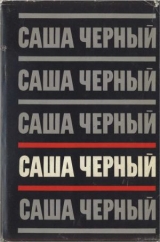
Текст книги "Том 4. Рассказы для больших"
Автор книги: Саша Черный
Соавторы: Анатолий Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 38 страниц)
Прошлой весной Александр Александрович Яблоновский раскрыл как-то свой заветный ящик. Я с любопытством заглянул внутрь: щипцы, зажимы, алюминиевые коробочки, свинцовые пластинки.
– Набор для печатания английских фунтов? – подумал я и прикусил язык. Совсем как будто у Александра Александровича характер для такого занятия неподходящий.
Александр Александрович поднял глаза, паскудную мою мысль перехватил и сурово отрезал:
– Рыболовные принадлежности.
Но кроткое мое раскаяние видя, смягчился и все свои алюминиевые коробочки раскрыл.
– Вот это крючки на кефаль, это на щуку, это на… камбалу.
Крючков с тысячу разложил, в глазах блеск мягкий, будто альбом лимитрофных марок показывает.
До чего, думаю, рыбы интеллигентные стали. Каждая в мутной воде свой крючок находит и сама на себя научным способом руки накладывает.
– А это что за обручальные кольца?
– Это, сударь, чтобы на удилищах суставчики закреплять. Хирургическим шелком их обматывают, а сквозь кольца леску пропускают.
– Зачем?
– Чтоб рыб подтягивать… Другая дура нервничает. Во все стороны дергается, как барыня в чарльстоне. Так вот, чтобы удилища не обломали, и подтягиваешь ее аккуратненько на вертушке сквозь кольца. Пока душу из нее не вымотаешь.
И глаза у него такие зеленые стали, как… у Торквемады. Слава Тебе, Господи, думаю, что я все-таки не рыба, а писатель.
– Вот, – говорит, – друг мой. Едете вы к Средиземному морю. В море вода, а в воде рыба. Человек вы немолодой, симпатичный. Чем летом зря флиртом-спиртом заниматься, приспособили бы себя лучше к рыбной ловле. Сядете себе на утес, под себя против ишиаса «Последние новости» подложите…
– Почему же не «Возрождение»?
– Можно и «Возрождение». Ветерок продувает, чайки мяучат, рыбка клюет… прохожие завидуют. К вечеру у вас, глядишь, на бесплатный буйабес и наберется…
– Не умею я, Александр Александрович.
– Чего ж тут уметь. Не ежа брить. Я вам самоучитель французский подарю. Тут все есть: от кита до устрицы. Полное заочное руководство. Мул и тот поймет.
Намек довольно странный.
– Спасибо. Но как же я сам рыбу с крючка снимать буду?
– А вам повивальная бабка нужна?
– Да нет же. Рыба, скажем, заглотает крючок до самой диафрагмы… Не Малюта же я Скуратов, чтоб живую тварь тиранить. Морфий ей впрыскивать, что ли?
– Глупости. Без морфия обойдется. Вот вам инструмент. За милую душу любой крючок вытащит.
И подал мне нечто вроде астролябии для лилипутов.
– Откройте рот. Предположим, что вы белуга… Я беру самый большой крючок и сейчас вам продемонстрирую.
Однако я уклонился. Потому что у Александра Александровича глаза совсем светло-зеленые стали.
– Впрочем, постойте… Есть у меня одна золотая снасть. Так рыба сама на нее и лезет. Когда мы в Грецию из Крыма попали, у одного лодочника видал. Но только он, бестия, из авторского самолюбия никому близко не показывал. Пришлось его накачать. Против русской зубровки какой же грек устоит?.. И пока он в летаргическо-зубровном сне под лодкой валялся, мы с прибора копию и сняли. Берите с Богом. «Самодур» называется.
Взял я в руки длинный кусок пробковой коры. На нем крючки с перышками. К концу струны свинцовая груша привязана. Вроде эоловой арфы. Ни наживки не надо, ни удилища. Знай разматывай за кормой струну да пальцем поддергивай, словно на цитре играешь. Свинцовая груша вертится-вертится, вальсирует. Перышки мигают, рыба в гипнозе, как одурелая, на крючки скачет… Словом – не снасть, а беспроволочный телеграф с ручкой.
Поблагодарил я сердечно. Теперь, думаю, до самой старости обеспечен. «Самодур» в карман положил, рыбий самоучитель с радости на камине забыл – и домой. Когда, думаю, последние издательства перелопаются, открою средиземный вегетарианский ресторан, – рыба своя. Чего ж стесняться?.. А ресторан так и назову – «Греческий самодур».И в красном углу портрет Александра Александровича Яблоновского повешу в золотой рамке.
* * *
Приехал я к Средиземному морю. В знакомом месте, у лафавьерского лукоморья, в хижине поселился. Хожу мимо камней, руки за спину заложив, наблюдаю. Знакомые русские дачники сидят, словно Будды, ноги поджавши, крючки на удочках в море полощат.
Раз! Полпорции червяка на крючке корчится, сардинка в воде смеется. Два! В таком же роде.
А то и похуже: крючок под камнем заест; снимай с себя ту часть туалета, которую греческие боги не носили, и лезь в воду отцеплять. А в воде либо на морского ежа наступишь, либо на свой же крючок напорешься, – сиди потом на берегу, задравши кочергой ногу, да палец зализывай… В лучшем случае часа за два пучок морской травы Бог пошлет. Пока на матрац наловишь – и лето пройдет.
Хожу я мимо, ухмыляюсь. Наконец не выдержал. Сел рядом и покровительственно по плечам их похлопал:
– Люди вы немолодые, симпатичные. Ветер вас продувает, чайки мяучат, а толку на полсантима. Есть у меня золотая снасть – греческий самодур. В Греции у одного адмирала на ведро рома выменял. Завтра на рассвете выедем в лодке… Рыбой, можно сказать, по горло обложимся. Все окрестные коты внутренностями обожрутся! Консервный завод откроем…
Знакомые мои и удить больше не стали… Видят, что оптовик пришел. И зрачки у меня тоже, должно быть, зеленые, как у Торквемады, стали. Сразу видно, что человек с высшим рыбьим образованием.
* * *
На заре выехали. Земляки на веслах. Я на корме с самодуром. Крючков двадцать с перышками, – это ж полморя выловить можно. Три больших ведра взяли, чтоб добычу было в чем нести…
Море вокруг лиловенькое, – пальцы полощешь, будто и не пальцы в воде, а фиалки с ногтями. Рыбкой вокруг так и попахивает. Чайки над нами спиралью вьются, стонут. Неприятно им, конечно: всю рыбу выловим, им-то что есть?
Размотал я струну широкой рукой. Закрутились перышки, струна вглубь натянулась, грузило в палец, как пульс отдает.
Минут пять подергал, думаю – все крючки полны. Господи, благослови. Подтянул. Гребцы рты раскрыли…
Однако… Закрыть пришлось. Рыба средиземная, должно быть, сразу к самодуру не привыкла. Или туше у меня слишком для них резкое? Однако я не смутился. Не богини горшки обжигают…
Второй раз забросил. И третий… И шестой… Гребцы мои профили в разные стороны отворотили. Может, смеются, а может, вода под кормой булькает. Н-да-с!..
Не в рыбе, конечно, дело. Рыба дрянь, в кооперативе хоть вагон купить можно, но репутации своей жалко…
Человек немолодой, симпатичный, непьющий, и вдруг в такую рыбью калошу сесть… Да еще самому и свидетелей пригласить!
Они же меня, чудаки, и утешать вздумали:
– А может, на ваш самодур только в лунную ночь русалки ловятся? Вазелином, может, крючки бы натереть? Морская рыба вазелин любит. В «Одиссее», говорят, нет ли чего про греческий самодур? Древние греки народ дошлый. Может, сначала рыбу в сеть поймать надо, а потом на самодурные крючки по одной насаживать?
Свернул я свою снасть. Желчь под ложечкой так пузырями и вскипает. Опусти меня тогда в море, вода бы кругом на сажень пожелтела… Молчу, как камбала. И только в душе (согрешил, признаться) – милому Александру Александровичу по беспроволочному телеграфу лирический привет послал.
Рыба, что ли, у греческого архипелага сплошная дура? Либо греки рыбье слово знают, заговорное?
* * *
И только к вечеру, при фонаре, сокрушенно укладывая проклятый самодур в коробку, понял я, кажется, что калоша моя оказалась глубже, чем я предполагал: на каждом крючке, чтоб в смотанном виде пальцев не наколоть, насажен был бузиновый шарик.
А я, значит, так с шариками в воду всю снасть и бухнул…
Александр Александрович Яблоновский, конечно, не догадался, что новобранцу-солдату надо объяснять: когда саблей рубишь, нужно предварительно саблю из ножен вытаскивать.
* * *
Впрочем, Александра. Александровича я все-таки огорчить должен. Для реабилитации своей должен сознаться, что я потом раз пять забрасывал самодур – без шариков. По всем правилам высшей рыболовной науки.
Много ли наловил?
Из тысячи вычтите девятьсот, да еще девяносто девять, да еще единицу. Вот столько я и наловил.
<1928>
ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА *Золотая Анна Александровна!
Известный Вам Павел Николаевич Кузовков узнал, что Вы в Париже, и умоляет написать Вам. Сам не может. Сидит у меня на сундуке, нюхает валерьяновую пробку и плачет. Слезы падают на хозяйский ковер – и я в отчаянии…
Чудак, видите ли, завел белку. Жениться эмигрантам берлинские хозяйки не разрешают, но к животным они снисходительны. Причем белка обходилась Кузовкову только в 15 золотых пфеннигов в сутки. Разве на эти деньги жену прокормишь?
Позавчера утром, пользуясь последними осенними ясными днями, белка, нарушив предписанные квартирные условия, вылезла из клетки, отгрызла у гипсового Гинденбурга нос и выскочила за окно.
Оттуда по карнизу жизнерадостным курцгалопом понеслась к соседнему балкону и прыгнула на дремавшую в качалке 70-летнюю фрау Шмальц. Слыхали Вы когда-нибудь, как визжат старые немки? Уличное движение сразу остановилось… Старухина наколка полетела вниз, а под наколкой – как у голой крысы. Можете себе представить удивление смотревших сверху жильцов?
А белка – хвост трубой, опрокинула вазон с душистым старушкиным горошком, шмыгнула в угловое окно и, приняв отдыхавшего на перине коммерции советника Баумгольца за дубовую колоду, начала танцевать на его животе лесные танцы.
Баумгольц проснулся и решил, что он сошел с ума. Но потом одумался, бросил в проклятую белку пивной кружкой и со страха наступил пяткой на слетевшее на пол золотое пенсне… Вы понимаете, чем это пахнет?
Пенсне крякнуло… Белка укусила советника за третью складку на затылке и, разбив по дороге портрет с полным комплектом семейства Вильгельма, понеслась собачьей рысью обратно к Кузовкову.
Теперь представьте себе… Мальчишки под окном визжат: «Русский! Русский! Ферфлюхтер русский!» Торговки потрясают жестянками с порошком для чистки медной посуды и орут басом: «Позор! Позор! Он держит диких зверей!..» И вдобавок идиот сосед, приняв, очевидно, мчавшуюся по карнизу рыжую белку за развевающееся пламя, вызвал пожарную команду…
На заднем плане старуха лежит в обмороке на своем балконе. Пожарные растирают ей виски. Снаружи Баумгольц лупит кружкой в дверь. В спальне хозяйка Кузовкова размахивает перед его носом безносым Гинденбургом. На кухне шуцман расстегнул пояс и, пососав карандаш, составляет протокол. А белка как ни в чем не бывало забилась в клетку и катает каштан…
Результаты? Шуцман увез белку в карете «скорой помощи» в какой-то собачий крематорий для уничтожения. Угловой провизор с бельмом, который не любит русских, клянется, что белка была бешеная, и подсчитал уже все убытки Баумгольца, если советник взбесится. Вы понимаете, чем это пахнет?!
Хозяйка требует за нос Гинденбурга 10 золотых марок, за поругание квартирной чести 28 марок и за порванную белкой плюшевую фамильную портьеру 34 марки (хотя портьера была порвана еще в прошлом году хозяйкиным пьяным «шацем» – по-вашему «ами»).
У лавочника напротив украли во время суматохи окорок довоенной заготовки. Жена его кричала на всю улицу, что раньше немцы были все честные, что это эмигранты их развратили и что если бы не эмигранты, то не было бы и войны…
Старуху, если выживет, Кузовкову придется взять на пожизненную пенсию – после случая с белкой она трясет головой и никак не может остановиться. Если не выживет – Вы представить себе не можете, золотая Анна Александровна, до чего вздорожали в Берлине надгробные камни и прочие предметы первой необходимости!
С Баумгольцем еще ужаснее! Коммерции советник о деньгах и слышать не хочет и говорит, что дело не в затылке, и не в разбитой кружке, и даже не в семействе Вильгельма, а в наглом засилии эмигрантов, благодаря которым пиво вздорожало на 10 золотых пфеннигов литр. Меньше 85 марок отступного он не возьмет.
В общем, если Кузовков продаст свою лавочку с радиоаппаратами и патентованными несгибающимися подтяжками, то только-только ликвидирует эту гнусную историю. С квартиры гонят. Строящиеся дома разобраны вперед на 125 лет. И вдобавок он, кажется, попадет в категорию нежелательных иностранцев, возбуждающих одну часть населения против другой (1001 статья), и будет выслан из Германии.
Бедняга до того подавлен, что сегодня утром, приняв осеннюю муху на стене за гвоздик, повесил на нее свои последние золотые часы. Часы, конечно, разбились. А в ресторане, когда хозяин подошел к нему с обычным приветствием «мальцайт», несчастный побледнел и стал извиняться, что он совсем не Мальцайт, а Кузовков…
Что делать? Ради бога напишите, что в Париже. Один Кузовков на прирост парижского населения в два с половиной миллиона человек не повлияет, а здесь он меня замучит.
И хозяйка моя уже косится: потому что он нервничает, ходит по ее ковру, три раза уже садился на ее кресло, на которое даже я не сажусь, и что ужаснее всего – положил окурок в ее фамильную пепельницу.
Вот сейчас я пишу, а она через замочную скважину смотрит и счет составляет.
Кузовков клянется, что больше белок заводить не будет. Знает древнегреческий язык и-украинский. Умеет разбирать пишущие машинки и, если нужно, научится и собирать…
Узнал, что Вы в Париже, и умоляет написать Вам, зная Ваше доброе сердце и прочее. В противном случае угрожает открыть у меня в комнате газ… А Вы знаете, чем это пахнет?!
Попадать из-за этого осла в нежелательные иностранцы я, слава Богу, еще не намерен!
Хотели мы, кроме Вас, обратиться к Лиге наций. Но практикующий здесь харьковский нотариус Мурло взял за совет 15 золотых марок и отсоветовал.
Целую Вашу гуманную мраморную ручку и с трепетом ожидаю ответа.
Иван Лось.
P. S. Полотерное депо, в котором я работал, лопнуло, потом немножко возродилось, потом окончательно лопнуло и открыло здесь ресторан под названием «Аскольдова могила». Но я не растерялся и затеял свое самостоятельное дело: контору по перепродаже в лимитрофы щетины из берлинских парикмахерских. Заказов еще нет, но у Кузовкова в Нарве большие связи, а ведь в коммерческом деле это самое главное.
<1925–1928>
ЭМИГРАНТСКИЕ РАССКАЗЫ, НЕ СОБРАННЫЕ В КНИГУ
БЕРЛИНСКОЕ РОЖДЕСТВО *Было это бесконечно давно: в тысяча девятьсот двадцать втором году. Снег продавали только в лавках – в пакетиках, на улице ни одной снежинки не было. Я долго выбирал на перекрестке елку подешевле. Втащил на третий этаж, поставил на стол и воткнул в старый тяжелый вазон (вазон нашел на балконе). Не зажигал свечей, не вешал пестрых хлопушек. Открыл дверь в коридор и свистнул. На свист из чулана вприпрыжку прибежала белка, пушистый вертлявый комок. Села на пороге, потянула носом смолистый дух, нервно пискнула и вскочила ко мне на плечо. Я сел в кресло и ждал. Мой маленький друг и приемыш никогда не видал елки, вырос он в клетке, – а я уж догадался, когда зверек попал ко мне, забросить клетку с глупым колесом на антресоли: в чулане все же свободней.
Под елкой стояла тарелка с орехами, на блюдце – мандарин, на подносе – каштаны. Все для белки. Она перелетела с плеча на стол, поставила передние лапки на вазон, повела усами – что это такое? – и вспрыгнула на нижнюю ветку. Целый мир, – и какой душистый, темно-зеленый и дремучий! Прижимая белое брюшко к колючей и гибкой ветке, она доползла до кисточки с почками, вылущила их и жадно стала обнюхивать каждую хвоинку… Перебралась выше, жмурилась, внюхивалась в незнакомый чудесный запах. Забиралась все выше и выше и уселась, качая гибкую верхушку, под самым потолком в своей любимой позе, как ее рисуют во всех хрестоматиях всего мира. Она наслаждалась своей маленькой зеленой прародиной. Пусть она ничего о ней не знала, но, быть может, в этот тихий час все лесные голоса, шорохи и шелесты, укачивавшие ее предков, проснулись в ней…
В дверь постучались. Пришел пятилетний Макс, сын прачки. Вежливо шаркнул ножкой… Бог мой, как его разодели! Башмачки блестели, словно большие лакированные жуки, из пиджачка торчал углом небесный платочек, от светлых расчесанных волосков цвета гогель-могеля исходил терпкий помадный чад.
И глаза у него были праздничные: сияющие, беспечные, доверчивые – настоящие детские глаза.
Он сел рядом, облокотился о стол и тоже стал смотреть на белку.
– Она довольна, господин Черный?
– Да, господин Макс. Она очень довольна. Первая очередь ее: она маленькая, в чулане ей скучно и тесно – пусть порадуется. А потом мы с тобой зажжем свечи, а белку уложим спать.
Мы достали сигарную коробку со старыми почтовыми марками. Макс ничего в них не понимал, но, подражая всей улице – от ночного сторожа до мальчишки-газетчика, – наклеивал их в тетрадку. Не по странам, а по цветам: на одной страничке голубые, на другой – оранжевые… Что ж, может быть, он был прав.
Он жадно выбирал марку за маркой – в. пять лет трудно быть дипломатом. Но потом, спохватившись, вежливо дергал меня за рукав и спрашивал:
– Можно еще, господин Черный?
Разве откажешь детским сияющим глазам? Для кого же я и держал в столе этот пестрый бумажный хлам?
И вдруг – трах! Белка в два прыжка слетела с верхушки на плечо и на стол: лестница знакомая.
Как забавно она ест! Быстро-быстро вертит в скрюченных лапках мандарин, отдирает коричневатыми зубами желтую корку, даже все белые жилки и ниточки одну за другой снимает с сочного мяса – и только тогда ест. Макс и марки бросил. Но мандарин уже на столе… Много ли ей надо? Щелкнул орех и опять (не так, как у нас, у людей) быстрые зубы осторожно снимают с ядра темную кожуру… Вот гастроном!..
Я беру ее в ладонь. Белка сжимается в теплый пушок и немигающими лакированными глазками смотрит на знакомое лицо человека, склонившегося над ней: я, вероятно, так же смотрел бы на огромную морду мамонта, если бы он поднял меня хоботом к своим клыкам.
– Вы не боитесь, господин Черный?
– Нет, господин Макс. Она меня никогда не кусает.
Уношу белку в чулан, – и пока несу, она засыпает под моими пальцами, словно под веткой на родном дереве.
Мы зажигаем свечи: оранжевые глаза переливаются на темной зелени. Пьем какао, едим булку с гусиным салом. Макс вымазался до ушей и сияет… И елка сияет. И звезды над занавеской сияют. Им-то что?
Потом – подарки. Мальчик принес мне смешного глиняного человечка и коробочку с какими-то катышками. Если катышек вставить в зад человечку, чиркнуть спичкой и поднести огонь, то из фигурки лезет длинная вьющаяся колбаска. Не совсем прилично, но мы оба счастливы и хохочем. Я, конечно, более практичный человек и дарю Максу лиловый шарфик и перчатки: маленькие перчатки величиной с мышь.
Мы оба растроганы, трясем друг друга за руки и рассыпаемся в китайских любезностях.
Я, еле касаясь пером струн, играю на мандолине и тихонько подпеваю:
«Ходыть сон по улонци,
В билесенькой кошулонци…»
Под песню эту маленького Гоголя когда-то укачивали в колыбели.
– Это ваш рождественский гимн, господин Черный?
– Приблизительно. Хочешь халвы?
А за стеной солидный хохот, миндальная женская воркотня и иные песни, – поют о мопсах, которые лают, о шуцмане, который не лает, и прочие милые глупости. Звенят стаканы. Пусть. Пьют за фатерланд. Пусть…
По коридору грузные шаги. Стук в дверь. В дверь заглядывает семейство моих хозяев, красное, потное и веселое, за ними гости. Все в пестрых бумажных колпачках и шапочках… В руках стаканы, в глазах прочное веселье и благодушие. Мы чокаемся, давим друг другу руки. Что еще надо сделать? Не поцеловать ли хозяйку?..
Уф! Ушли… У Макса слипаются глаза, – перед ним давно уже две елки. Шарф лежит на паркете, перчатки – на тарелке с пряниками. Звезды сияют, но свечи уже догорели.
Руки не попадают в куцее пальтишко, вязаный зеленый колпак наползает на нос. Я беру мальчика в охапку и несу домой: соседний переулок, третий дом направо – огромный дом-улей, набитый прачками, вагоновожатыми и маленькими Максами. Рождество кончено…
Все это было бесконечно давно: в тысяча девятьсот двадцать втором году в Берлине.
<1924>
РАКЕТА *(ПАСХАЛЬНЫЙ РАССКАЗ)
Господину Курдюмову в Париже определенно повезло. На случайно застрявшие до войны в одном из лондонских банков фунты купил под Парижем за полцены запущенное именьице: старый дом с фронтоном в каменных завитушках, фруктовый сад, окаймленный кирпичной выбеленной стеной, огород с парниками и водокачкой – словом, все, что для жизни надо.
Но жить не стал – жена решительно уперлась. Столько лет мыкались, ужели в дыру засесть, цесарок откармливать и под артишоки землю удобрять? Ни за что! Да и молода она еще была – всего пятьдесят шестой год шел. Только что во вкус новых танцев вошла, лицо и живот подтянула, благо массажистка попалась хоть и дорогая, но искусница сверхъестественная. Бегемотов в Клеопатр переделывала – родная мать не узнает.
Именьице Курдюмов чуть-чуть почистил, декорацию дешевую навел и продал под санаторию для легкого флирта с барышом процентов в двести.
И в других делах не ошибся. Партию американских одеял, послевоенные остатки, за грош скупил, в штатские цвета перекрасил и сбыл в Ковно по хорошей цене. Что там в Ковно понимают! А потом развернулся: стал квартиры в новостроящихся ковчегах скупать и перепродавать с большой пользой для себя и с большим огорчением для нанимателей.
Гордый стал. В metro перестал ездить, перешел на такси и по прейскурантам стал для себя изысканный автомобиль присматривать. На эмигрантскую колонию поглядывал свысока: голь беженская, дел делать не умеет, только под ногами путается и аппетит портит. А на визитных карточках, чтобы окончательно от земляков отгородиться, стал писать, без всякого основания, не «Курдюмов», а «де-Курдюмэн». Впрочем, на последнем настояла жена, потому что раз живут в доме с кариатидами, в великосветской части города, то надо же себя в глазах консьержки не уронить.
* * *
Наступили ясные предпасхальные дни, веселая кулинарная суматоха. По богомольности своей супруги де-Курдюмэн очень любили пышный пасхальный стол, чтобы по меньшей мере на былой буфет первого класса в Казатине походил. Капитал позволял, и новые знакомые все были с икрой: нельзя же как-нибудь.
Но где же дома возиться? Французская кухарка ничего в русских кулинарных делах не смыслила, все больше консоме да соуса, подбитые ветром. Дело наладили проще. Де-Курдюмэн позвонил по телефону в лучший гастрономический «Дар-Валдай», – развелось их по Парижу в двадцать пятом году не меньше, чем в Берлине в двадцатом году издательств.
Заказал молочного поросенка с кашей, запеченный окорок, индейку потяжелее, гору куличей, заварную пасху и прочее, что полагается, полный комплект.
Приехал расторопный человек, с дипломатическим профилем, учтиво пробор набок склонил, как скворец, когда ему подсвистываешь, сдал хозяйке заказ и испарился.
Стол вышел на славу. «Фешемебельный» стол, по выражению знакомого негоцианта, понимающего толк в таких вещах. Между поросенком и индейкой зацветились тугие, словно подкрахмаленные, гиацинты. Де-Курдюмэн «нильской лилией» в столовой попрыскал, сел в кожаное, обхватившее его, как футляр, кресло и прищурил глаза. Картина!
А супруга, высокая, книзу расширяющаяся китайской пагодой дама, надела на себя переливающееся цветной чешуей, стиля царя Навуходоносора, платье, напомнила мужу, чтобы он к концу пасхальной заутрени не опаздывал, и уехала к знакомым меховщикам. Обещала вместе с ними к крестному ходу приехать, их новый автомобиль обновить.
* * *
Де-Курдюмэн сложил на вздувшемся жилете белые ручки. Залюбовался на лиловеющие под люстрой гиацинты, на томившийся в графинах коньяк и зубровку, на улыбающегося, с кудрявой петрушкой в зубах, поросенка, – и вздремнул.
Вздремнул и диву дался: плавно и бесшумно подкатил пасхальный стол к креслу. Поросенок заморгал насмешливо глазами, индейка уткнула в его халат, словно указательный палец, обрубленную лапу, гиацинты угрожающе и строго вытянулись, бутылки с вином скользнули с подставок, придвинулись к краю стола и повернулись к нему этикетками. – И вдруг все – и поросенок, и индейка, и гиацинты, и бутылки хором прошипели внятно и выразительно:
– Свинья!
– Почему? – спросил изумленный Курдюмов.
– Ты!.. – запищал поросенок. – Ты, так много болтающий о родине, о любви к ней, – что ты сделал для бездомных, брошенных русских детей? Разве мало их в Париже?
– Ты! – зазвенели гиацинты. – Дал ли ты хоть грош несчастным русским инвалидам, ты, разбогатевший на военных поставках и послевоенных одеялах?
– Ты! – зашипела индейка. – Когда к тебе пришли от твоего землячества просить, чтобы ты от своих избытков помог немного твоим несчастным ближним, оставшимся в России… Помнишь, что ты ответил? «Нищих принципиально не поддерживаю!»
– Ты! – задребезжали бутылки. – Твой племянник в Марселе, выбиваясь из сил, грузит уголь. Жена его больна и еле передвигает ноги. Почему ты, чудовище, не ответил на ее письмо?!..
Неизвестно, что еще сказала бы подкатившаяся с другого конца стола пулярка, но в этот момент де-Курдюмэн неловко повернулся. Ручка кресла двинула его под ребро, и он, удивленно вытаращив глаза, проснулся.
– Фу, какая чепуха! – Он посмотрел на часы и заторопился. Опять от жены будет взбучка.
* * *
За церковной оградой, в тесной парижской улице, сдержанно гудела выходившая из храма толпа. Де-Курдюмэн разыскал свою закутанную в обезьяний балахон супругу.
– Опоздал? – она блеснула великолепно подведенными пятидесятипятилетними глазами и, склонясь к его уху, тихо прибавила: «Свинья!»
Де-Курдюмэн передернул плечами и съежился. «Свинья!» – опять это слово. Сон словно наступил невзначай на его скрытую от всех душевную мозоль… Он обернулся: у выхода из ворот хилый, с землистыми впалыми щеками полковник, монотонно простуженным голосом выкрикивая название, словно упрашивая, продавал газеты. Переступал с ноги на ногу и все пытался тесней запахнуться в узкое, обношенное пальтишко.
На одну секунду в курдюмовской голове, как светлая ракета, взвилась к небу сумасшедшая мысль: а что, если наплевать на супругу и на мнение всех «фешемебельных» знакомых и, заплатив за все номера нераспроданной газеты, отвезти этого полковника к себе разговляться, пригреть его, усталого милого русского человека, найти ему работу, ну хоть у себя в конторе…
Но ракета, взлетев до предельной высоты, рассыпалась и гаснущими искрами ниспадала к темной, солидной, не знающей жалости земле.
Де-Курдюмэн повернулся к полковнику, взял у него номер эмигрантской газеты, сунул боком пять франков и буркнул: «Сдачи не надо!»…
Подхватил под руку свое законное, шелестящее шелком сокровище и пошел к лиловому автомобилю меховщиков христосоваться.
<1925>








