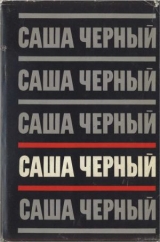
Текст книги "Том 4. Рассказы для больших"
Автор книги: Саша Черный
Соавторы: Анатолий Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 38 страниц)
Есть, конечно, помешательства неопасные. Собирает человек марки, какой тут риск. Купит в год франков на двадцать, – серию какую-нибудь юбилейную. Специально для таких фанатиков выпускают… А главная коммерция в обмене – с такими же блаженными. Да в знакомой конторе иностранные конверты, Христа ради, выпрашиваешь.
Сидит такой собиратель вечером за столом и, вместо пасьянса, сокровища свои раскладывает. В лупу зубчики проверяет, пинцетом запасные уники со страницы на страницу переволакивает… Гость у него под носом все бублики съест, в холодном чае муха за мухой ванную берет, а он и не замечает. Лицо у него такое вдохновенное, будто он продолжение «Египетских ночей» обдумывает.
Марки – это ничего. А я вот напоролся гуще…
* * *
Приходит ко мне приятель, Сергей Дроздов – хороший человек, чтоб он сгорел без страховки. И конечно, с места в карьер интимный разговор.
– Что же, Василий Созонтович, ты все еще свое коптильное заведение держишь?
– Какое заведение?
– Небо, – говорит, – все еще коптишь?
Отвечаю ему логично:
– Если ты опять про давешнее, лучше уйди. Вот на метро франк пятнадцать сантимов, – в первом классе поедешь…
Европейцу скажи – либо уйдет, либо пластинку переменит, ну а свой по тому же месту да той же наждачной бумагой. Либо еще номером крупней возьмет.
– Удивляюсь, – говорит, – тебе, Вася. Чудом у тебя какие-то допотопные доллары сохранились, а ты их, как нищая тряпичница, в тюфяке просаливаешь.
Молчу. Человек воспитанный сразу бы по глазам понял, что я его мысленно свиньей обозвал, а этому хоть бы что.
– Странная у тебя, Вася, мания величия. Все население – ослы, а ты один Спиноза… А вдруг наоборот? Как бы тогда не прогадал.
Варенье я ему подвинул. Молчу. Средство старое: какой угодно фонтан заткнет.
Однако он выносливый.
– Ну, ладно. Только ты меня не перебивай… Вокруг Парижа на сто километров все клочки расхватаны. Фотографы, рабочие, астрономы, кокотки, блондины, брюнеты – все покупают. И только ты, Эльбрус какой, даже не почешешься. Не идиоты же все? С высшим образованием среди них есть некоторые… А в чем гвоздь? Земля пить-есть не просит, а цена растет да растет, как сало на кабане. Понял? Бриллианты падают, марганцевое кали за полцены даром отдают, а земля, брат, пухнет… Конечно, если ты на свои остатки в месопотамском банке полтора процента получаешь, – ты либо дурак, либо самоубийца. Даже, скорее, первое. А потом – банки лопаются, а земля… наоборот. Не поливаешь, не удобряешь, глядь – у тебя через четыре года каждый франк золотым пухом оброс. Ты меня не перебивай, пожалуйста.
Придвинул я ему финики. Молчу, как марганцевое кали…
– Словом, ты, Василий Созонтович, не невинная белошвейка, и я тебя не соблазняю. Скажу в двух словах. Завтра утром заеду за тобой со знакомым шофером. Он там в одной дробительно-земельной компании на процентах работает. Человек бескорыстный. Посмотрим на это просто, как на пикник. Свезут нас в оба конца даром, подышим воздухом, вид у тебя, в самом деле, одутловатый… Легким завтраком даже угощают! – и тоже ни сантима. Чудаки какие-то. Поедем, Вася. Я же тебя с третьего класса знаю. Другому бы и не предложил. В жизни-то даром только по шее бьют, а тут тебе и бензин, и завтрак, и букет полевой нарвем бесплатно…
Ну, тут жена за стеной услыхала. Полгубы не докрасила, стремительно в дверь вошла и сразу руль в свои руки взяла.
– Нашли с кем разговаривать… Он даже пока на мне женился, два года раскачивался. Раз даром – о чем говорить… У нас сын в Гренобле курс кончает. Внуки могут пойти, теперь это в два счета делается. Надо и об них подумать. А потом за горло нас никто не берет, подышим воздухом, а там видно будет.
И сразу они с Сергеем Дроздовым сочувственные глаза друг другу сделали, а я так, между прочим, – вроде неодушевленной подробности… Молчал и финики передвигал. Ничего не помогло.
* * *
Утром приезжает Дроздов со своим шоферским Мефистофелем. Глаза, действительно, бескорыстные. Об земле ни полслова, все больше на погоду напирает. Сели, покатили. Вынеслись за Порт-Версаль; пока до полей не дорвались, приятель индифферентный разговор вел. Все, мол, горит: рестораны горят, марганцевое кали за полцены даром…
А чуть зелень пошла, аэропланный плац слева промелькнул, – вытащил Сергей из-под себя проспекты, разложил на коленях. Чистая лирика. На обложке жимолость в цвету, уютные пале зеленью перевиты. В соломенном кресле у крыльца господин сидит, рожа довольная, дым колечками пускает. Купил, собачий сын, участок. А над головой птичка на ветке заливается. Ох уж, птичка эта… Думаю, что и она на процентах в компании этой работала, с чего же ей даром-то петь.
И текст соответствующий. Внес триста франков и посвистывай. Рассрочка на сто лет. Непрерывная вода, электричество, лесной озон, полевой кислород, тротуары с пяти сторон, грибы круглый год, поезда каждую минуту так вот и бегают. Вот только насчет ананасов ничего не было. Должно быть, по оплошности пропустили…
И план во всем размахе. Тут тебе и рынок, тут тебе и крематорий, тут тебе и обсерватория. Все в центре для удобства жителей. И улицы радиусами во все стороны, будто солнечные лучи на «Гадании Соломона». И все номерки, номерки, заштрихованные квадратики: расхватанные участки. Только десять белых… К завтрашнему утру и этих не останется, потому население так и рвется.
Вздохнул я, на жену посмотрел. Вижу – озон в ней заиграл, да и у меня сердце дрогнуло. Вся Франция валом валит, а я один эмигрантский консерватизм разводить буду? Женам и то изменяют при случае, а я к месопотамскому банку любовь до гроба сохранять должен? Сам себя в обратном направлении раскручивать стал: с дураками это часто бывает.
А главное Дроздов к концу приберег – на этом углу Попов купил, на другом Чебурыкин, у Садиленко три участка, артель казаков целых пять отхватила – шале в кубанском стиле с подрядов строить будут… Цены французские пособьют, в люди выйдут. Это тебе не марки собирать.
Летим дальше. Вокруг – благодать. Когда выбирать участок везут – всегда погода хорошая… С боков шоссе тополя почками машут: «Купи, купи! У тебя сын в Гренобле, да и сам еще во как поживешь…» Горизонт симпатичный, лучше и Айвазовский не нарисует. Кусты разные весенними листиками подмигивают. Из перелеска золотой фазан с супругой выскочил, хвост кометой – и вдоль межи побежал… Думаю, что и он в этой компании был на службе.
А Дроздов меня все в бок. Видишь, мол. Будто он всей постановкой заведовал и специально для меня горизонт за лесом раскрыл. Шофер – ни гу-гу. Натасканный. Знай ревет, да на нас искоса, как на карпов в садке, поглядывает.
* * *
Приехали. Пейзаж, действительно, классический. Справа казенный лес, слева какого-то местного Канитферштана. Сосновой эссенцией так тебя всего и окуривает… Участки во все концы белыми лучами огорожены, будто клетки для жирафов. Кое-где березки да дубки на весеннем солнышке потягиваются. Два-три электрических столба, действительно, на земле лежат. Без обману. И вместо тротуара под ногами этак симпатично мокрый песок шипит: «Купи участок… Бриллианты падают, сахарный песок горит, а земля-матушка, она не выдаст…»
Контора на отлете: рекламный домик в помпейско-абажурном стиле. Дворик, заборик, часовая будка для домашних надобностей в стороне уютным плющом перевита… Птички вот только над крыльцом не оказалось. Должно быть, в перерыв между двадцатью и двумя, в лес отдыхать улетела. Завтрак тоже не предложили – поздно приехали. Да и не всех же угощать: другой и поест, и на чужом бензине воздухом на даровщину подышет, – а участок не купит…
Пошли мы смотреть. Осатанели мы тут, признаться. Даже характер свой интеллигентный потеряли… Дроздов к угловому свободному участку бросился: «Это, – говорит, – мой».
– Почему твой? – Молчать при таком деле не приходилось. И без того намолчался.
– Две березки да три дубка, да фасад на юг – так и твой? А мне что же обглодки твои брать?
Жена тоже лорнет вскинула, так он, Дроздов, и пришпилился.
– Почему же обглодки? Выбирай этот через дорогу. Там две осины. И яма посередине, вот тебе и фундамент бесплатный.
– Спасибо за угощение. Приятеля в товарный вагон, а сам в международный… Кушай сам свою осину, а яма еще неизвестно кому раньше пригодится.
Жена голову вбок повернула, – есть у нее такая манера классическая, как у Комиссаржевской, – и к автомобилю… Не о чем, мол, больше с таким господином и разговаривать.
Струсил Дроздов, побледнел.
На, на! Бери мой, есть о чем толковать. Если бы я первый с осиной выбрал, все равно бы ты и на мой кусок бросился. Ешь! Пусть моя чечевичная похлебка тебе впрок пойдет…
А сам этак пристально посмотрел на березку и на мой галстук… Намек ясный. Да что же, когда человек в азарте, стоит ли обижаться.
Выбрали. А как стали другие свободные номера осматривать, совсем мы очумели. Жениться, право, легче, чем в таком деле выбор окончательный сделать. Там рынок чуть поближе, там каштан в полтора обхвата, – поди-ка, доживи, пока такой новый на лысом участке вырастет. А третий, голубчик, на две улицы выкатился, – угловой. Может, оно и хорошо на проходящих с балкона смотреть, а может, оно и плохо – свою интимную внутренность посторонним людям показывать…
Бились, бились, друг с друга глаз не спускали. У меня, конечно, большинство: я с женой. Чуть Дроздов окончательно нацелится, мы его с двух сторон так подметками сдували… Прямо в голове зеленые шары завертелись: Да и есть хочется. С азарта, да с присосновой эссенции аппетит, как каторжный, разыгрывается.
А шофер этой минуты только и ждал. Солидно нас в два слова пристроил. Нашел два участка-близнеца рядом. В каждом по три дерева, в каждом по яме, оба на юг. Даже в каждом, помню, по вороне сидело. Вздохнули мы облегченно, полюбовались… Будто мы тут под кустами и родились, и до того нам эти кусточки родными показались. Спросили еще насчет станции, шофер нас утешил, – вон там, за лесом. Действительно, в отдалении что-то такое пискнуло: не то паровоз, не то лягушка влюбленная…
На обратном пути все до тонкости обсудили. Риску ни на грош. В случае чего в любой день перепродать с припеком можно: оторвут с руками… Хотя какой же олух такое золотое дно перепродавать станет? Пока до настоящей постройки дойдет, по временному павильону соорудить можно, – он потом под кроликов, либо под гостей отойдет. У Сережки под собой и прейскурант нашелся: железобетонные коробки, по фасаду розы кубарем вьются, на крыше для завершения дуля-рококо, на дуле все та же птичка…
Каждое воскресенье, чем в Париже унылыми уродами сидеть, можно будет тут в своих павильонах лесные шепоты слушать, запеканку брынзой закусывать, румянцы естественные нагуливать. Семена из Риги выпишем, пчел из Режицы, удобрения из Ревеля… Зажмурился я, – так вокруг довоенным укропом и запахло…
И симпатичных знакомых – Лунева да Грымло-Опацких, непременно подбить надо рядом с нами осесть. А то какой-нибудь иностранный парикмахер вклеится, начнет через забор волосья чужие швырять – жизнь проклянешь…
Потряс я Сережке по-братски руку: «Ну вот, спасибо! Лежалый камень с места сдвинул». В пригородном бистро весенние слова друг другу говорили. С шофером чмокались. Только он равно душный какой-то стал, – часто ему, должно быть, с нашим братом дело иметь приходилось… Пить пил и все по столу пальцем барабанил. Жена моя – женщина, могу сказать, еще цветущая, даже плечиками, помнится, передернула.
* * *
Раскачали и знакомых. Такого рода тихие помешательства всегда ведь кругами расходятся. Пожалуй, подсознательное такое чувство есть: уж если в лужу садишься, попутчиков ищешь, чтобы уютнее было. Дедка за бабку, внучка за Жучку и так далее… Вот только насчет репки слабо вышло.
Лунева я на себя взял, – огнеупорный человек был, вроде меня. Ну я его тем же методом и обработал: «Рестораны горят, марганцевое кали за полцены даром… Ужели все население ослы, а вы один Спиноза? Земля пить-есть не просит…» и тому подобное. Ездил с ним, потел с ним, выбирал, в раж вошел. И опять, представьте себе, фазан выбегал на межу, – все как по расписанию…
………………………………………………………………………………………………………………
И вот-с! Прошел год с лишним. Двенадцать месяцев по триста франков, как фанатик, вносил. Курить бросил, в насущном стакане себе отказал. Жена самоотверженно на компоте экономию загоняла, шляпки модной себя лишила, – к варенику прошлогоднему новое ухо только пришила… И Лунев вносил, и Грымло-Опацкие. Не пили, не курили. По ночам меня, поди, который уж месяц проклинают. Но что меня хоть отчасти в этой симпатичной истории утешает: ведь и Дроздов вносил. Вносил, дьявол, вносил, собака, – и вот только теперь, вместе со всеми, бросил…
Компания, конечно, себе руки потирает: законный процент ежегодных идиотов мы все-таки значительно повысили.
А теперь позвольте для пользы ближних перечень разочарований привести. Столбы телеграфные лежат на том же месте. Почему бы им и не лежать, если их никто не подымает… Тротуары, оказывается, каждый за свой счет вдоль своего места вести должен – идеалистов таких пока не нашлось. Трубы водопроводные в земле преют, а к своему участку проводи сам… Зачем же мне там, спрашивается, вода, если временного павильона строить не позволяют, а надо сразу приличное шато в общую линию гнать? Петергофские фонтаны на голой земле пусть меценаты устраивают…
Деревья по соседству все повырублены – французы лирикой не занимаются, – ему место для гаражу нужно, да для куриных клеток, да чтобы было куда цветную капусту воткнуть. Беловежскую пущу пускай русские эмигранты на своих четырехстах метрах консервируют…
Словом, стал у нас вокруг пейзаж вроде караимского кладбища. Да еще частный лес Канитферштана этого колючей проволокой заплели, чтобы дачники, мол, не шлялись. Рынка и в помине нет. Какой рынок, если никто не строится, все на повышение квадратных метров играют… Станция, действительно, сбоку за лесом торчит, но поезда, все больше товарные, кое-когда проползают. А пассажирских дождись-ка в поле под голой платформой. Три раза «Войну и мир» прочтешь, пока состав подойдет…
Ах, Дроздов, Дроздов! Ведь вот судьба какая, – не сидел бы я с ним на одной парте в третьем классе, может, ничего и не было. Знал бы заранее, в другую гимназию перевелся.
И сырость пошла. Первое-то время она кустами была задекорирована. А как повырубили, да ям для фундаментов нарыли, а потом за отсутствием пороха так и бросили, – она, матушка, и проступила…
У жены сквозной ревматизм, она сырость по беспроволочному телеграфу за пять километров воспринимает. А тут у себя, на своей земле, ад за свои же деньги – сплошной супчик… Ну, конечно, отчего же не переуступить, да еще с наваром. «Оторвут с руками!» Оторвали, действительно.
Кому ни скажешь: либо у него кризис, либо в продуктовую лавку остатки вложил, либо просто человек умный. Посмотрит в лоб, усмехнется: «Если у вас точно такая Кашмирская долина, зачем же вы ее продаете? Выдержите еще лет с двадцать, авось у вас нефтяной источник забьет».
Уговорил одного, повез на собственный счет, жена даже пирожков домашних штук десять для поднятия пропаганды дала… В ноябре дело было. Посмотрел он вокруг, из такси не вылезая, – ботиков ведь теперь не носят… «Симпатичное, – говорит, – место. А вы бы попробовали здесь клюквенную плантацию развести. Я бы у вас весь урожай купил». С тем и вернулись. Голые тополя по дороге ветками машут: «Дурак, дурак!» Что им ответишь?
И жена каждое утро по ложечке серной кислоты в кофе подливает. «Зачем три куска сахару кладешь? Тебе теперь совсем без сахару пить надо, пока взносы свои загубленные не покроешь. Помещик болотный!»
– Да ведь ты же сама выбирала…
– Я?! Ну, знаете…
Почему это, если мужчина густо соврет, всегда у него напряжение в лице, а у женщины одно святое сияние? Она не выбирала, она в это время в Мексиканском заливе с королевской селедкой в четыре руки марш-фюнебр играла… Да-с!
Сахарницу в буфет замкнет и на кухню испанской королевой проследует. Поругаться даже не с кем.
Дроздов, конечно, и не показывается. Поди тоже на меня всех мелкоземельных собак вешает. Показался бы он… С третьего этажа на трамвайный провод, – разговор короткий. Французский суд в таких случаях всегда снисхождение сделает.
* * *
Сижу дома. Альбом свой старый с марками из комода вытащил. Каталог прошлогодний по случаю в русской парикмахерской купил. Перелистываю. Лупу платочком протираю, с пинцетов ржавчину соскоблил. Работаю… Риск небольшой.
Вспомнил как-то, что у Лунева дубликаты интересные есть. К телефону подошел, – не приедет ли со своими тетрадочками меняться? Что же вечером больше делать? И только за трубку взялся, горечь так к сердцу и подступила. Не приедет он к тебе, Василий Созонтович. Ау! Хоть всю серию папской области ему в обмен предложи – не приедет… Потому что для Дроздова хоть оправдание есть: в третьем классе гимназии он с тобой на одной парте сидел. А Лунев человек посторонний. Его-то за что ты в эту рулетку болотную вкатил?..
Повесил я тихо трубку, лупу к сердцу прижал. Перед глазами господин в плетеном кресле около шале сидит, дым колечками иронически пускает. И птичка над ним заливается. Эх, милая… Выдать бы тебя замуж за Дроздова, хорошая бы из вас пара вышла.
1931
БУБА *Вот так, в метро, никому не расскажешь. Потому что свое, кровное. В своей семье посторонний третейский судья не требуется.
Но на первой зеленой подстилке, когда в воскресенье с приятелем, с закуской и зубровкой, занесет тебя весенний ветер в Медонский лес, – бес откровенности толкнет человека под ребро – и покатишься… Хоть без зубровки, конечно, никакой бес ничего не сделает.
И вообще, г. Глушков разговаривал как бы сам с собой. В своем случае разбирался и в таких же соседских. А кому он жаловался – приятелю ли, лежавшему рядом, очками кверху, с травинкой во рту, пожилому ли каштану, подымавшему над головой толстые почки, либо пустой бутылке из-под зубровки, блестевшей у канавки, – г. Глушков об этом не думал. Подводил итог, а в паузах морщился, как бы сплевывая с языка душевную полынь.
* * *
– Буба она называется, племянница моя. Хотя мы с женой, оба бесплодные смоковницы, имели все основания, взрастив сей парижско-русский продукт, считать ее своей дочкой… Буба… Почему она себе такую попугайскую кличку пришпилила, не могу понять. По метрике она Любовь. Люба, Любаша – сочное православное имя. Должно быть, для афиши. Когда она в балетные звезды выйдет, круче в нос ударит… Ну, уж назовись Лианой, Вервеной… Покудрявее. Нет-с, Буба. Игры фантазии на три копейки. Какой-нибудь португальский брандахлыст, что с ней фокстротные вензеля выводит, языком щелкнул: «Буба! Ком сэ жоли» – и кончено. А мнение дяди – коту под стол, да ножкой в угол, подальше…
* * *
Лет дочетырнадцати был у нее свой рисунок, даже лицей не перемолол. Русская пышка, ласковый зверек. Варенье обожала, дядю с теткой любила, все как по детской простоте полагается. Одевали мы ее чистенько. Перед зеркалом скорым петушком попрыгает, каждому бантику улыбнется. В облизанную стильность ее не бросало, что к личику, то и модно. Щечки в ямках, ноготки в заусенцах, душа – розовый ситчик. Русская девочка и больше ничего. А с пятнадцати лет пошло…
Проболтался я как-то месяца два по делам в Гренобле. Вернулся, так и присел: разменяло себя мое русское золото на конфетную бумажку. Темные волоски будто корова языком склеила, головка мертвым яичком, ямки черт унес, в глазах этакая манекенная стертость. И платьице новое с воображением – внизу тюльпан, вверху лысая рюмка. В кутюрных прейскурантах видали? Лицо, так сказать, второстепенная подробность к модному покрою… Мизинчики на отлете, поворот плеча в брезгливую покатость, – то ли горничная, то ли герцогиня Дармштадтская, – все на один лад, как солдатики из картона… Это в пятнадцать-то лет по такому компасу равняться?
Бросился я к жене: как же это ты, слабохарактерная женщина, таким вещам потакаешь?
А что ж, говорит, делать. Девочки – обезьянки. Парижский воздух… Тут иная каплюшка в четыре года в Люксембургском саду этаким дамским лилипутом выступает, что и сама не знаешь – ахать или плеваться. А Любе в Европе жить, пусть уж мимикрию эту безболезненно себе прививает. Ей же потом легче будет.
Нашел я союзника, действительно.
* * *
Вижу я во внутреннем департаменте червоточина обнаружилась. «Записки охотника» в ванной в углу валяются. Еще слава Богу, что в ванной… Журнальчики, смотрю, у нее появились парижские: кинематографические Антинои на всех страницах зрачками вращают, мировых звезд к пиджакам прижимают. Проборы блестят, зубы переливаются и опять же, как пожарные солдаты, все на один салтык. Только по подписи и узнаешь, кто какого пола. Духовная пища-с!
Развернул я как-то вечером «Соборян», стал ей вслух отрывок читать. Пять минут вытерпела, потом, вижу, стала зевки, как устрицы, глотать, ножкой о ножку бьет.
– Что ж, скучно, тебе, Люба? Ты не стесняйся.
– Вы, – говорит, – дядя, дусик, не сердитесь. Мы сегодня всей своей компанией в синема идем. «Семьсот поцелуев в минуту» смотреть. А археологию эту я, так и быть, на досуге как-нибудь потом перелистаю.
– Спасибо за одолжение. Что ж, и Татьяна пушкинская тоже по-твоему археология?
– Нет, – говорит. – Большой диферанс! Татьяна ваша сама мужчинам на шею вешалась и даже в письменной форме. А как у нее с премьером роман не вышел, она за старого богатого маршала замуж и выскочила. И еще неизвестно, как бы она в Париже развернулась, если бы к нам сюда в эмиграцию попала… Татьяну, – говорит, – вы уж лучше из козырей ваших выкиньте.
Так я и крякнул. Ведь этак, если все классические типы к эмиграции примерять, что ж это будет?.. С женой даже посоветоваться хотел. Да эта уж… Не поймет.
* * *
А потом вот и пошло балетное это икроверчение. В студию какую-то раздевально-пластическую записалась. Науки забросила, – по физике еле ползает. В котором, говорю, году Расин родился? А она мне еще и дерзит: посмотрите в «Ларуссе», если вам приспичило. Сами по-французски дальше молочной ни слова…
Мне, говорю, ни к чему, у меня своих русских мыслей в голове не уложишь. А ты-то как без образования на одних пуантах в свет выпрыгнешь?..
Хохочет… По-французски она, правда, здорово чешет, – иной природный француз не поймет, что она с подругами лопочет… Но багаж-то духовный какой-нибудь нужен? Как же на одном голом трико без багажа?
Жена, разумеется, и тут поперек. За что Бубу, мол, мучишь?.. Теперь все девочки через балет в мировую карьеру выходят. Ты что ж, ее в приходские учительницы готовишь? Опоздал, милый. В Европе жить, по-европейски и выть.
И вот-с еще и у себя в квартире терпеть должен. Мало ей студии. В пачки свои дома вырядится, – совсем стрекоза в папиросных бумажках, – и по всему паркету драже свое под граммофон выводит. Посмотришь из-за газеты, сердце так и закипит… Личико – марципан с вишней, интеллигентности ни на полсантима, одной ножкой над головой вертит, другой себя под мышкой подстегивает. Да еще меня, Господи помилуй, подставкой быть заставляет…
* * *
Собираются у нее подружки всякие востроносенькие, кавалеры – полетки из полотеров. Пожалуйста. Милости просим! Пусть уж лучше дома флиртуют, чем по неизвестным ротондам зеленую слизь сквозь соломинку сосать…
Да и флирта-то никакого нет. Тысячелетиями занятие это держалось, а они вот прекратили. Раздеться не успеют, заведут граммофонного козла и трясутся. Оршаду попьют, отдышаться не успеют и опять под гобойный гнус плечиками трясут до упаду… Чистая маслобойка. И выражение у всех, будто воинскую повинность отбывают.
Присядешь к ним, когда уже совсем упарятся. Поговорить хочется, ведь не ихтиозавр же я, не зубр беловежский. Ни черта не выходит. То ли я к ним ключ потерял, то ли и ключа никакого нет. Лупят что-то свое французское, по глазам вижу – не разговор, а семечки. А Буба губы сожмет и все бровью на дверь показывает: ушли бы, мол, дядя, – и без вас мебели много…
Только тогда сердце и отогреешь, когда они, как дети, порой играть начнут: сядут все на пол, друг за дружкой… руками гребут и хохочат… Какие уж тут, думаю, «Соборяне», хоть искры-то детские в них, слава Богу, не погасли…
* * *
А время летит. Не успели обои в столовой сменить, как ей шестнадцать стукнуло.
Говорю ей как-то в тихую минуту:
– Что ж, Люба, мечты наши старые? Уставать стал, как самовар несменяемый который год киплю. Мечтал с тобой, помнишь, ферму миниатюрную под Тулузой присмотреть… Переехали бы втроем с теткой – райские цветы разводить. Во Франции на цветы спрос, как на картошку. И лирика и польза…
Угомонилась бы ты, в зеленую жизнь бы вошла. А там какие-нибудь скорострельные агрономические курсы окончишь, хозяйство бы свое чудесно вела… Что ж, Люба, так уж точку и ставить ради прыжков твоих резиновых? Я ж понимаю, другие ради хлеба завтрашнего ноги себе выламывают, а тебе-то зачем?..
Встала она на носок, вокруг себя трижды спираль обвернула, на пол воздушным шаром осела, – головка, как факирская кобра, покачивается, – и прошипела:
– Коров доить? Мне?! Бубе Птифру?.. Комик вы, дядя…
И журнальчик какой-то паршивенький из-за пазушки вынула, мне протягивает. Сняли ее там, видите ли… На пензенском вечере за пластику она почетное звание получила: королевой пензенского землячества избрали. Шутка ли: карьера какая…
Ну, понял я окончательно: кто этого яда хлебнул, какая уж там ферма. Пусть сам бабельмандебский раджа белых слонов пришлет – и то не поедет.
С той поры и не заикаюсь. А то, не дай Бог, и жена за ней, в пачки нарядившись, начнет паркет натирать. Ничего. Придет мое время… Вот когда тебя балетная поденщина подшибет, когда из пензенских королев в сто двадцать девятый мюзик-холльный сорт попадешь, тогда о дяде и вспомнишь…
Басня-то «Стрекоза и Муравей» недаром написана. Только дядя-то, пожалуй, помягче муравья окажется, когда к нему взамен Бубы Птифру – родная племянница Люба Глушкова соблаговолит личико свое повернуть…
<1931>








