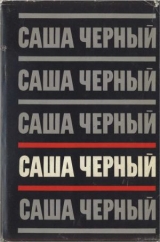
Текст книги "Том 4. Рассказы для больших"
Автор книги: Саша Черный
Соавторы: Анатолий Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 38 страниц)
В воскресный день в медонском лесу под Парижем сидели двое: пожилой корректор Бабков в костюмчике хотя и не новом, но измятом настолько, точно Бабков провалялся на прошлой неделе во чреве китовом три дня и три ночи; рядом с ним отдыхал, прислонясь к липовому стволу, сосед его по парижской квартире, франтоватый шофер Рыбников, человек еще молодой, хотя и одутловатый. Разговаривали, – вернее, спорили, потому что какой же это русский разговор без спора. И уж точно можно сказать, что ни под одной липой, ни в одном лесу на всем земном шаре разговора такого никто, кроме них, не вел.
Корректор отсыпал в бумажку порцию французского жесткого и черного табаку-горлодера, свернул папироску и со знанием дела провел в обе стороны языком по краям бумаги. Затянулся и привычно сморщился, точно застарелый камень в почке у него шевельнулся.
– Конечно, курить и кактус можно. Абы дым был. Так это же и из паровоза дым валит… Бесплатно. Нет, друг, – против старых русских Табаков и курева на свете не сыщешь. Забыли-с? Довольно стыдно даже. За десять лет все русские ароматы в трубу забвения вылетели…
Шофер покосился на нараставший на сигаре пепел, и не поворачивая головы, усмехнулся.
– Махорка, например? Надышался на войне, спасибо. Особо на этапных пунктах под аккомпанемент разопрелых портянок и удушливых газов солдатского производства. Ароматы…
– Зря хаять изволите. В казарменных бараках и ландыш завянет. А у купальни летом, после рыбной ловли, пока кулеш варится, наша махорка за себя постоит. У рыбаков не раз одалживался, когда папироски свои прикончишь. Остро, крепко, горькой черешней припахивает. Мысль очищает.
– Махорка-то?
– Она самая. Вам угодно в воспоминаниях ее с распрелыми портянками смешивать, а я у русской реки ее помню, под вербным наметом, под заречную песню косцов, под лай Жучки этакой, которая вокруг нашего кулеша носилась…
– Что ж, в хорошем гарнире и гвоздь съешь. Я вам про махорку, а вы мне про Жучку с пением. Шаляпин бы за рекой пел, еще бы слаще ваша махорка вам показалась.
Корректор посмотрел на шелковый платочек, пестрым попугаем торчащий из кармана соседа, и укоризненно покачал головой.
– Придираетесь вы, джентльмен. Не об одной махорке речь. Папиросы русские, положа руку на сердце, извольте-ка вспомнить. От второго класса гимназии до студенческих лет… Ужели фимиам русский весь дочиста выветрился?
Шофер пожал плечами.
– Я на сигары перешел. На долгих ночных стоянках сигара удобнее: тяни ее хоть целый час, на ветру не гаснет. А аромат европейский, солидный. Клюешь носом перед ночным баром, к рулю приткнувшись, и кажется тебе, что сидишь ты в кожаном кресле, в своем кабинете, вроде плантатора: сигара в зубах, из угла в угол ее во рту перекатываешь, банкиром от тебя пахнет…
– Полагаю, что банкиры маркой повыше пахнут… Не люблю сигар, признаться. Допустим, – итальянские эти, тосканские. Видом они с обезьяний сушеный хвост. Запалишь, – мухи, комары под потолок уходят, истерика с ними делается, до того смрадно. Жженое перо да резиновый каблук в трубку накрошишь, не хуже будет… Есть, само собой, сорта и получше. Однако, к хорошему сорту и костюм хороший нужен. А то будешь ты выглядеть, как водовоз в цилиндре. И манеры нужны этакие, королевские, будто ты сам себя на серебряном блюде носишь. К русскому характеру не подходит. Немецкие тоже куривал. «Регалия Лопублеттер» – для простого народа. Темперамента никакого, даже дым белый, будто олений мох куришь.
– На вас не угодишь… – Шофер пыхнул своей сигарой и пустил к липовым ветвям волнистое голубенькое кольцо.
– Дешевый сорт везде дрянь. Хорошую сигару мулатка на голой коленке вертит из отборного листа.
– Ну и пес с ней, с коленкой. У нас такого разврата не было…
– Не нравятся сигары, папиросы курите. Мало ли сортов во Франции?
– Это казенные ихние Марилан – желтый, либо голубой? Спасибо. Чертям их в аду курить, чтобы горло на сквозняке прожигало. Досадно даже: нация тонкая, а курево будто для каторжных ссыльно-поселенцев. Пробовал было и английский табак – «Король Альберт» в красной жестяной коробке. Накуришься и сидишь потом очумелый, будто мамалыги с имбирем наелся: мед не мед, опий не опий… Русский табак… Вспомните умиленно, глаза закрывши. Волокно-то какое было! Лен канареечный! Волос райский… Пальцами перебираешь, носом потянешь – шербет. К столу под вечер сядешь, – самовар весь в медалях, попискивает, – засыпает, – возьмешь коробку гильз Каты-ка, бумажка насквозь светится… Набьешь с сотню, не спеша, «Мелкой крошкой» либо «Смесью любительской»… Излишнюю бороду с папирос сострижешь – затянешься… Мед гречишный! Забыли-с?
Шофер сочувственно вздохнул в ответ и с сердцем швырнул сигарный окурок в кусты.
Корректор мысленно еще раз затянулся «Мелкой крошкой».
– И готовые папиросы недурственные были. Не в бумажных обертках, будто серого мыла на пятак. В картонных ладных коробочках, – картону нам жаль, что ли? А названия: «Сенаторские», «Слава», «Нева». Звук какой!.. Для дворников свой сорт был, «Добрый молодец», – найди-ка здесь такой… Или, скажем, ты студент, голубой просаленный околыш, – есть и для тебя соответствующий аромат, чтобы в голове перед экзаменом светлей стало. А цена? Здесь помножь на три – и то не выскочишь.
– Зато здесь набивка на всю гильзу.
– На кой она шут! Дымом забьет, не протянешь. Пополам ее, что ли, резать, как Плюшкины местные, для экономии? Половину сосет, половина за ухом на после обеда… Тьфу! По нашему характеру набивка короткая куда слаще. Затянулся раз пять, из угла в угол походил, мундштук зубами погрыз, – кури другую. Не особняки на папиросной экономии строить…
Корректор перевернулся на другой бок и, раздвигая ветви ежевики, осмотрел проходящий мимо взвод тонконогих парижанок, с кошачьими ужимками пробиравшихся в глубь леса.
– Да… Кассирша у нас была одна на Крещатике в табачной лавке… Найди-ка здесь такую.
– Это вы, простите, из другой уже оперы.
– Из той же самой, золотой мой. Все у нас в России было добротнее! И табак, и леса, и реки, и водка, и…
– И кассирши?
– И женщины, многоуважаемый. Вы это не хуже меня должны помнить… Кассирша, говорю, была табачная. Румянец натуральный – мальва! Голубой приворот в глазах. Улыбнется – вроде «Дюбека лимонного», высший сорт. Вечером из лавки медленно выйдет, походки такой и в Сицилии нет… Этак мимоходом без всякого старания на всю жизнь ушибет… А здесь, в Европе… Вон прошла компания, видали? Мышиный горошек на цыплиных ножках. Слов нет, изящны, гарнитуру много, – провизии ни на грош. Идет вот такое раскрашенное междометие. Разлет линии весь на виду, ножки циркулем… В любом трамвае, если у тебя пальто стоящее, перемигнись с ней, даже не зардеется, будто воинскую повинность отбывает. Впрочем, как ей под косметикой и зардеться. И все палят, все курят свои «Марилан». Дух от них, как от прокуренного боцмана… Пришел с такой в кафе или в кино, а она тебя, как из асфальтовой жаровни, дымом в глаза, в ноздри, в рот…
– Кассирша не курила?
– Зачем ей курить, когда она вся как лесная яблоня на заре была.
– Ого! Что же вы, папаша, на яблоне не женились? Папиросы бы она вам набивала.
– Недостоин был, сударь. Что пустое болтать… А вспомнилось по такому случаю: коробок папирос советских на днях мне француз один знакомый подарил… С серпом-молотом, с «пролетариями всех стран». Черт, думаю, с ними, с этикеткой их ослиной, у них и на ваксе пролетарии соединяются. Глотну «дыма отечества», табак ведь под русским солнцем вызревал.
– И что же, хорош?
– Дрянь первоклассная! Бумага груба – грязь с желтизной, начинка трухлявая, запах вроде выдохшегося далматского порошка. Даже горько мне стало. Каждая страна чем-либо славится. Во Франции табак плох – вино хорошее, вежливость отменная, в Германии – пиво, в Италии – макароны и песни. А у нас все было чудесно и все псу под хвост, насмарку пошло. Разве в замордованной стране такую душистую папиросу сфабриковать могут? Сатрапы-то их, поди, египетские сорта выписывают? А быдло, благодарное население, любой навоз скурит. Бросил я коробок с пролетариями в помойный бак, у окна посидел, от волнения две подряд французские папиросы высосал. И в иноземном дыму все передо мной всплыло, о чем я сегодня вам докладывать изволил. И кассирша, и «Мелкая крошка», и прочее такое… С какой стороны о России говорить ни начнешь – хоть с табачной – нет конца-краю словам, – не нахвалишься, не наплачешься…
Пожилой человек встал, стряхнул с коленей песок, посмотрел на закат и добавил:
– Так-то, дорогой мой. А между прочим, нам и домой пора; ишь, господа флиртующие из-под кустов выползать стали.
1928 Ноябрь
Париж
ФИЗИКА КРАЕВИЧА *Начальница Н-ской мариинской гимназии сидела у себя в кабинете и поправляла немецкие тетрадки. Если считать кабинет рамкой, а начальницу гимназии картинкой, то картинка и рамка чрезвычайно подходили друг к другу. Блеклые обои, блеклая обивка мягких уютных пуфов и диванчика – такое же блеклое, полное лицо начальницы, такая же мягкая уютная фигура, заполнявшая кресло. Кружевные, цвета слоновой кости салфеточки на стареньких столиках с витыми ножками и такая же наволочка на старенькой голове… А пушистые, взбитые седые волосы так похожи были на лежавший между двойной рамой окна пухлый валик ваты. Правда, вата была пересыпана зеленым и алым гарусом, а серебристый ободок волос ничем не был пересыпан…
Над письменным столом на стене в овальных, либо округленных по углам, черного дерева рамочках висела домашняя летопись-иконостас, бесконечная родня. Мужчины, даже отставные военные с поперечными погончиками и в белых штанах, – все почему-то походили, кто на Герцена в молодости, кто на Майкова, кто на Гаршина. Хотя никто из них кроме приказов по полку, докладных записок и трафаретных старомодных любовных писем ничего не сочинял. Женщины в длинных юбках пагодами, с лебедиными шеями в детских воротничках, с уложенными на голове короной косами, с мягкими, обращенными в неземное глазами, – смутно напоминали иллюстрации к ненаписанным тургеневским рассказам. Но, впрочем, все они, и женщины и мужчины, даже плотный и безбородый морской врач с треуголкой под мышкой, даже трехлетний голый философ, сосавший в рамке на подушечке собственный кулачок, – каждый определенно какой-нибудь чертой были похожи на поправлявшую немецкие тетрадки начальницу гимназии. Мягким спокойствием, добротой, округленностью лица и какой-то общей уютностью, что ли, всей фигуры, которая никуда не торопится, с места зря не сорвется, и очень скупа на всякую жестикуляцию.
В окне сквозь полуспущенную штору еще ясно синел отходящий зимний день, но над столом уже разливала янтарный свет граненая керосиновая лампа на малахитовой в желобках колонке под светло-синим стеклянным полушарием. Высокая, до потолка, кафельная печь, мерцая белой эмалью изразцов, ровно излучала тепло. По карнизу, опоясавшему ее, выстроились детским интернатом вазончики с крошечными кактусами и агавами. Мохнатые зеленые бородавки – они любили тепло, а здесь на груди кафельной печки – температура была почти итальянская… На подоконнике, прижавшись в угол, тянулось кверху излюбленное всеми начальницами «восковое дерево», темные, словно клеенчатые листья в гроздьях мелких беловато-восковых звездочек-цветов.
Недобрая работа – вылавливание ошибок – мало радовала добрую начальницу. Безо всякого злорадства, с огорчением и вздохом она слабой-слабой красной чертой, словно извиняя и оправдывая, подчеркивала искалеченные немецкие слова. Полу-ошибки снисходительно пропускала… Отметки ставила щедро, и, когда перед ее глазами всплывал порой на странице тетрадки обиженный профиль нерадивой гимназистки, она прибавляла к баллу плюс. Но потом вспоминала о долге воспитательницы и острым тоненьким почерком приписывала сбоку: «Могло быть и лучше».
За спиной вдруг дрогнула половица. Она повернула голову: старший внук Васенька, стараясь не шуметь, проходил за спиной в гостиную.
– Добрый вечер, бабушка!
– Ты что же, Васенька, все дома да дома?
– Никуда не хочется. Читать буду.
Скрылся за портьерой. Такой же тихий и неторопливый, как бабушка, бабушкины мягкие серые глаза, крепкий и сильный, в плотно сидящей гимназической курточке с острым верхним углом. Острые манжеты, высокий воротничок, велосипедный брелок-колесико с меркурьевыми крылышками, брюки на штрипках… Прифрантиться любит, это у него наследственное. И тихоня тоже, должно быть, по семейной традиции: семиклассник, молод, здоров, – чем пойти к приятелям, – сидит дома, как монашек в келье… Бабушка вытерла замшевой розеткой перо, окунувшееся по ошибке в черные чернила, и придвинула к себе красный пузырек поближе.
* * *
Васенька присел в гостиной на диванчик у дверей, выходящих в рекреационный зал. Пять минут придется для вида высидеть. Сбоку на стене пейзаж из резной пробки. Знакомо-презнакомо: замок, речка вроде гофрированных волос, лодочка с рыцарем и кудрявая пенка прибрежных кустов. На столике под полуприкрученной лампой все тот же забавный кружок «плато» из лакированной ореховой скорлупы, коричневой фасоли и фисташек. Он откинул тяжелый красно-золотой переплет «Живописной России». Мордва-черемисы, очень приятно! Прочитал добросовестно с полстраницы, будто рыбьего жира наглотался, – бесшумно привстал, бесшумно описал по ковру восьмерку.0 артистически бесшумно нажал на ручку двери…
В зале не было ни души. Сторожа уже закончили уборку: только сизая дымка пыли сквозной пеленой висела в зале. И хотя форточки были открыты в морозную синюю улицу, и хотя брызгали со всех сторон сосновой эссенцией, в воздухе все еще стоял душный запах шерстяных юбок, бутербродов, помады и учебников.
Гимназист быстро-быстро, подражая движениям конькобежца, заскользил по паркету. Размял ноги. И в ритм плавным раскачиваниям запел под сурдинку баркаролу, завезенную в их губернский город заезжим баритоном. Весь город, даже аптекарский мужик с Соборной площади, высвистывал-распевал ее второй месяц.
Что же, дева молодая,
Молви, куда нам плыть!
Ветер, парус взвивая,
Челн мой давно кружит…
В последнем слове гласная «и» так плавно переливалась на двух нотах, точно и впрямь под ногами челнок качался и ветер дул в грудь, копной взметая над головой волосы…
И Васенька вспомнил, что внизу сторожа еще убирают учительскую и раздевальную, что через комнату рядом бабушка и… что главное еще не сделано. И стал петь про себя: беззвучная мелодия еще порою горячей гонит румянец к щекам, обдавая семиклассное сердце крутым кипятком. Ни на верхней площадке лестницы, ни в первом коридоре тоже никого не было. Он пересек большой померкший зал с темневшими на полу во весь рост царскими портретами на подставках и скользнул во второй сумрачный, пустынный коридор. По бокам были распахнуты двери в старшие классы. Где-то тикали стенные часы. А может быть, и сердце? Он оглянулся и нырнул в знакомый класс.
Дубовые парты, как в костеле, четко чернели тремя правильными рядами. Высокая кафедра на платформе, словно строгая классная дама, молча оглядывала класс. У доски висела влажная, издерганная взволнованными пальцами губка. На стене – неясное пятно: не то «Полтавский бой», не то таблица самоцветных камней Урала…
Васенька склонился над предпоследней партой у окна и пощупал пальцами: есть! На исподе парты кнопкой была приколота записка. Не глядя, сунул ее в карман. Остановился у седьмой парты, потом поискал в среднем ряду. Всюду откалывал добычу и, торопясь, скользил бесшумно дальше. Кое-где вынимал из-за пазухи другие письма, подносил к глазам, щупал (не дай Бог ошибешься!) и прикалывал их к известным ему партам. Причем в парту клал каштан – условный знак: «вам есть письмо, потрудитесь пошарить снизу»…
Потом он нырнул через коридор в противоположную дверь, в «параллельный» класс. И там так же аккуратно и добросовестно получил и сдал почту, безошибочно ориентируясь, как ковбой в прериях, в одинаковых партах среди быстро сгущающихся сумерек.
Надо сразу оговориться, – поведение Васеньки было совершенно бескорыстно. Письма были не к нему и не от него, – среди многочисленных его предков оптовиков донжуанов не водилось, в этом смысле наследственность его была безупречна. Просто по исключительно удобной топографии бабушкиной квартиры и по дружбе он помогал знакомым гимназисткам и гимназистам в той вечно юной игре, которая, как неизбежная корь, повышает в свое время температуру у каждого (у каждой) из нас.
Прижимая вздувшуюся у борта куртки пачку писем и напевая все ту же баркаролу (теперь петь можно было громче), семиклассник у верхней площадки лестницы круто остановился и прикусил язык. Нина! Нина Снесарева, синеглазый серафим в коричневой юбке, единственная из гимназисток, к парте которой так подчас тянуло его приколоть свое собственноручное письмо, – но, увы, не хватало ни слов, ни смелости… Она здесь, в такой час… Что случилось?
И в ответ на немой вопрос, чтоб он, чего доброго, не подумал, что она ради него пришла, она тихо сказала:
– Забыла в парте Краевича. Завтра урок.
– Сейчас! Подождите меня здесь…
Через три минуты, тяжело дыша, он стоял перед ней с физикой, в позе готового склониться к ногам владыки раба (предпоследняя строфа стихотворения «Анчар»).
– Вот.
Физика, впрочем, не перешла сразу в руки Снесаревой: гимназист нерешительно удерживал учебник в своих руках, гимназистка нерешительно тянула его к себе, – очевидно, оба не торопились расстаться.
– Нина Васильевна?
– Да?
– Мне надо с вами объясниться…
– Да…
– Тогда на именинах у Даниловских я вас не пригласил на вальс… не потому, что я скотина… а потому, что вы сами… меня мучали.
– Не понимаю.
– Нам надо объясниться. Но я не могу прийти к вам, потому что у вас тысяча и одна тетка.
– Да.
– В монастырский сад повадился каждый вечер ходить наш директор… Здесь ужасно неудобно… Никита из швейцарской каждую минуту может подняться – в зале ведь форточки не закрыты. Бабушка каждую минуту может выйти из гостиной. Нина Васильевна! Ради Бога, Ниночка… Я придумал. Пойдемте на пять минут в физический кабинет. Там уютно… и никого нет.
– Да.
Не всегда Ева соблазняет Адама. Бывают такие исключительные случаи, когда и Адам соблазняет Еву…
Что ж, раз уж пришла в гимназию за Краевичем, а тут можно заодно распутать, хотя бы и в физическом кабинете, узел старых размолвок и недомолвок, – глупо, вздернув нос, фыркнуть и уйти. Васенькина гордость, очевидно, лопнула. Значит, можно его временно простить, хотя он ничуть не виноват: ведь она же сама на этих именинах обставила себя, как царица Тамара, двумя пехотными юнкерами, драгунами-вольноопределяющимися и киевским студентом. Нарочно! Чтобы доказать ему, что она не очень в капризных семиклассниках нуждается…
Под аккомпанемент этих мыслей она, затаив дыхание, как загипнотизированная, прошуршала за ним неземными шагами по паркету до дверей физического кабинета.
Васенька легче ветра приоткрыл толчком дверь, пропустил вперед Нину и, балансируя на носках, вошел в большую, уставленную шкафами с приборами комнату. Плотно прикрыл за собою дверь. Тишина… Внизу глухо кашлянул Никита, в зале деловитым баском отозвалось эхо.
Они уселись по-приятельски рядом на широком черном столе – и в то же мгновенье, схватив друг друга за руки, как вспугнутые воробьи, соскочили на пол. Из простенка за шкафом шевельнулись и застыли на фоне морозного окна – два силуэта.
– Господи помилуй! Классная дама Ниночкиного класса, Анна Ивановна и… учитель пения Дробыш-Збановский… Хризантема с луком!
* * *
Разговор был короткий. Учитель пения крякнул, будто рюмкой перцовки поперхнулся, провел обшлагом вицмундира по толстым усам и, подойдя вокруг стола к Васеньке, обратился к нему с не совсем подходящим по обстоятельствам дела вопросом:
– Как поживаете, вьюноша?..
И, не дожидаясь ответа, последовал к дверям. В дверях, чтобы подчеркнуть свою независимость и показать, что в физический кабинет его занесло по совершенно неотложному делу (камертон свой, должно быть, там забыл), он не спеша вынул портсигар, закурил и вразвалку пошел вдоль зала к лестнице, плотно придавливая шашки паркета.
Но Анна Ивановна своей роли не выдержала. В шкафу, к которому она прикоснулась, нервно задребезжало какое-то стеклянное сооружение. Разливающегося зарева на плотных щеках, ушах и шее в полумгле видно не было, но короткое взволнованное дыхание походило на приближающийся самум… Ей бы, конечно, надо было если не закурить, то хоть спросить Ниночку обволакивающим голосом старой подруги:
– Кстати, Ниночка, у кого ваша мама себе ротонду шила?
В крайнем случае, можно было промолчать и разойтись, как облака расходятся в вечернем небе – каждое своей дорогой. Но вместо того классная дама, словно индюшка на утенка, зашипела, налетела на гимназистку, хотя та и без того в позе умирающего лебеденка беспомощно прислонилась к столу.
– Вам что здесь нужно, госпожа Снесарева?! В такой час?! В стенах гимназии! Не-слы-ханно!! Что?!
Гимназист, как опытный стрелочник, перед самым носом летящего на всех парах не на тот путь поезда, круто перевел стрелку. Быстро наклонился к Ниночке, взял ее за локоть, встряхнул и слегка подтолкнул к дверям…
Трепетные шаги смолкли. Обморок в физическом кабинете со всеми своими бездонными последствиями, – слава Богу, прошел над головой, не разрядился. Наедине справиться с Анной. Ивановной было совсем уже не трудно.
– Виновата не госпожа Снесарева, виноват я, милая Анна Ивановна. И то только в том, что был вежлив. Нина Васильевна забыла в физическом кабинете Краевича, – и вот он у меня в руках, видите? А я в зале ловил нашего кота, чтобы он в форточку не выпрыгнул… Вы знаете, как бабушка его любит? И так как у меня были спички, я и предложил вашей ученице проводить ее в физический кабинет и посветить ей… Посветить не успел, а остальное вам и господину Дробыш-Збановскому (подчеркнул он) известно.
Что скажешь? Гимназист, разумеется, говорил правду. Разве таким тоном лгут? Да и упоминание рядом с ее именем фамилии учителя пения по многим соображениям не было классной даме приятно.
Васенька, впрочем, это и сам понимал и прибавил, пропуская Анну Ивановну мимо себя в зал:
– Все это, конечно, останется между нами… У меня, кстати, есть для вас чудесный альбом болгарских народных узоров. Вы ведь интересуетесь рукоделием. Да?
Дверь из гостиной скрипнула и мягкий бабушкин голос спросил:
– С кем это, Васенька, ты там разговариваешь?
– С Анной Ивановной, бабушка. Она забыла в физическом кабинете Краевича, и я посветил.
Бабушка поздоровалась.
– Добрый вечер, Анна Ивановна. А у меня и чай на столе. Не зайдете ли?
– Добрый вечер… Спасибо… Голова болит ужасно. Простите, пожалуйста, не могу…
Васенька, не жалея спичек, жег их одну за другой до самой швейцарской, в позе пажа подчеркнуто любезно освещая классной даме дорогу. Простились молча. Оба с трудом сохраняли светское выражение лица: она – потому что буквально задыхалась от злости, он – с трудом сдерживая душивший его смех.
* * *
В столовой клокотал самовар, – пузатый заварной чайничек, белый с розаном, окруженный облаками пара, нетерпеливо позвякивал над конфоркой крышечкой: «Неужели дадут перестояться?» Бабушка щедро наполняла хрустальное голубое блюдечко рябиновым вареньем, – любимым Васенькиным.
Гимназист вернулся и, кусая губы, сел в тени, полузаслонясь от бабушки самоваром.
– Так никуда и не пойдешь?
– Никуда, бабушка. Мне и с вами хорошо…
Начальница гимназии ласково покачала головой. Вот бы хоть иным юлам-гимназисткам, непоседам, вертушкам, пример с него брать.
А он за самоваром раскрыл физику Краевича, – так она сегодня и не попала на книжную полку к своей хозяйке. Стал перелистывать, затаив дыхание, – точно часть души Нины Снесаревой в его руках осталась. И в главе о теплоте нечаянно наткнулся на промокашку, вдоль которой синим карандашом отчетливо были выведены буквы:
с-х-в-В
Вспыхнул до слез! Да и как не вспыхнуть, если в его вдохновенной расшифровке буквы эти совершенно ясно означали:
«Смертельно хочу видеть Васю»…
1928 Декабрь
Париж








