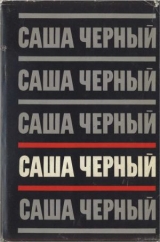
Текст книги "Том 4. Рассказы для больших"
Автор книги: Саша Черный
Соавторы: Анатолий Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 38 страниц)
(РАССКАЗ ОФИЦЕРА)
Русский полковник посмотрел на лежавший на столе томик рассказов Эдгара По и усмехнулся:
– Ужасов с три короба наворочено… Другая старая дева всю ночь ворочаться будет, не уснет. То ее будут в подвале живьем замуровывать, то стальным маятником сердце перепиливать. Театр Гиньоль, пять франков за вход, нижние чины и дети платят половину. А между тем милая наша жизнь, с четырнадцатого года начиная, такие полотна разворачивала, что никакому Эдгару По, – даром что он себя наркотиками подстегивал, – не угнаться… Война хороша, а революция и того хуже.
– Вот здесь, среди нас, разные личности пребывают. Иные, помоложе, только по краю прошлись, в самом котле не кипели. Порой сам себе удивляешься: как шкура выдержала, как сердце не озверело, как в добрые будни опять вошел не на четвереньках, а на двух ногах, как человеку полагается. И не в ужасах, разумеется, дело, будь они трижды прокляты, а в том вечно волнующем вопросе, о котором много лет назад еще Короленко писал: каким образом средний, обыкновенный человек, – скажем, солдат Рябошапка, – милый и сердечный человек, а порой и самоотверженный герой не хуже любого спартанца, вдруг превращается в бешеную свинью…
Так вот, если угодно, позвольте для иллюстрации привести некоторый эпизод, в котором я был главным действующим лицом… Выскочил я, правда, благополучно, как рыба, которой удалось через сеть перелететь, – и вот сижу с вами, разговариваю, пью чай. А сколько иных-прочих в неволе застряли, одному Господу Богу известно…
– Было это осенью семнадцатого года, в самую карусель между двумя жерновами: война – революция. Впрочем, первый жернов тогда еще еле двигался, а второй уже стал молоть вовсю. Полк наш только что сменился с позиции. Как сменился – и вспоминать не стоит, – пожалуй, одна прореха на нашем участке осталась. Расположились мы на расползающейся грязью на этапном пункте в каком-то эстонском городишке. Власти у меня никакой, – вроде безрукого капельмейстера в волчьей стае. Солдатня вся чужая. Пополнение за пополнением. Свои все либо перебиты, либо ушли. А кто и остался – зубы оскалил, точно это я, подполковник Каблуков, и войну объявил, и кончать ее не желаю… Заправлял всем полковой комитет, а я при нем подневольным консультантом состоял по строевой и хозяйственной части. Не отпускали. Манера такая тогда была: мозги свои нам отдай, а сам сократись до макового зерна. Чем мог, я им, комитетчикам, помогал, – ведь русский корабль ко дну шел, какое уж тут самолюбие. И сам комитет, власть получив, подтянулся, и кое-как линию выпрямить хотел. Ничего, разумеется, не вышло: поджечь – всякий дурак сможет, а потушить – попробуй… Так и осталось у меня в памяти до последнего часа серая эта тогдашняя расхлябанность: рев, митинги, казармы и двор вроде всеобщего отхожего места в доме сумасшедших… И все порасстегнуто: хлястики, уши на папахах, крючки, погоны, глотки… Даже до сих пор тошнит, чуть вспомнишь.
Понял я твердо – надо какое-либо решение принимать, если не хочешь для каждого бесноватого холуя в ватных штанах плевательницей быть. Другой, черт, даже и на позициях не успел побывать, а уж он, изволите видеть, жертва мировой войны, и ты из него, как вурдалак, всю кровь высосал… Кругом расправы пошли одна другой подлее и бессмысленнее. Офицер? Будь ты хоть святого Себастиана невиннее, с ног долой и каблуками по черепу. А уж там, в свое время, история разберет, в какой процент законных жертв революции ты попал и на каком основании…
– Что ж делать? Стреляться?.. В Орле меня жена да дети ждали. Ужели их в самый шквал бросить? Да и гордость на дыбы встала: не все место под солнцем им принадлежит, – авось и для меня останется. Долг свой до конца исполнил, лямку дотянул, а в этой дрызготне ни мозгам, ни совести делать нечего. Переговорил я с некоторыми из комитетчиков: так и так, нужен я вам теперь, как гвоздь в печени. Грузовик кверху колесами в канаве лежит… Руль на крыше… Желаю вам полного успеха, а меня увольте… Народ был неглупый, кой-кто из писарей наших да из вольноопределяющихся. Тоже и им несладко было, и сердца еще не потеряли. – «Ладно. На завтра назначим комиссию… В самом деле, уходите, господин полковник, от греха подальше…»
– Честь честью освидетельствовался. Не обошлось без курьеза… Полковой врач мне «невроз сердца» придумал, год отпуска, лучше и быть не может. А у нас в комитете был такой гнусавый солдат, вроде пугачевского адъютанта, из самых раскаленных. Никому не доверял, во все сам лапами совался… Подошел он ко мне после врача… С ПРАВОЙ СТОРОНЫ груди сердце выслушал и каракулю свою, сопя, под листом вывел. Революционно-сердечный контроль, так сказать. Выскочил я из капкана, в два счета маскарад свой докончил: выменял полушубок на солдатскую овчину, сапоги на валенки, папаху с ушами на лоб надвинул, – сам бес не разберет, какой ты масти, какого звания. Свидетельство свое в тулуп зашил. Чемодан с бельем врачу подарил, авось у врача не сразу скрадут… И вбуравился в солдатскую гущу, себя потерял, выражение глаз даже переменил, – тьфу, мерзость какая! Узелок на плече, хлеб под мышкой. Так и дошагал этаким кашеваром свободно-собачьего батальона до станции… Позвольте, господа, чай допью. Очень уж на душе смрадно стало…
* * *
– Да… На станции – столпотворение. Как стадо баранов в загоне, то в одну сторону метнутся, то в другую… Комендант голос потерял, мечется, словно загнанная крыса. Машинистов прикладами в шею толкают – гони состав за составом, хоть сам в топку ложись, «попили нашей кровушки»! Прут сплошной воблой, на подножках, на буферах раскоряченные висельники, в воздухе мат, свист, смрад, рычание… Как в подвижном зверинце… Сестры какие-то милосердные в эту кашу попали, – лучше и не вспоминать…
– Стиснул я зубы, потолкался, план кампании обдумал, В полуверсте на запасных путях поезд теплушечный стоял, пары разводил. Поговорил я с машинистом, покурили. Узнал, что через час тронемся незаметным порядком, к вокзалу все равно не подкатит. И хоть теплушки еще с раннего утра были солдатней вплотную набиты, однако протиснуться кое-как можно было. Не в Монте-Карло ведь едешь… Посмотрел на меня машинист внимательно и посоветовал: «А не лучше ли вам на крыше будет? Вакансии еще не все заняты? Полагаю, что там много спокойнее». Понял я его, конечно. Поблагодарил. Тихим манером на средний вагон взгромоздился, бечевкой себя к вентилятору прикрутил, – морозов еще настоящих не было, однако крыша покатая и легкой ледяной глазурью покрылась… Запахнул я тулуп, небо надо мной васильковое, тихое, отрезал краюшку, прикусил, на душе как-то покойнее стало. Дай Бог машинисту здоровья!..
– Тронулись мы без свистков, без сигналов. Кой-какие поотставшие за нами вприпрыжку к вагонам бросились. Однако психология тогда была массовая, упрощенная, ни одному Лассалю, думаю, она и не снилась: кто в вагоне – тот пан, господствующий, так сказать, класс… А кто в наружную дверь на ходу карабкается, того валенкой в зубы… Подвигаемся мы потихоньку, смотрю, поверх крыш тоже всякие пассажиры разместились. Индивидуалисты, так сказать. Отъехали мы верст с пять. Остановка в поле: лошадь дохлая на путях лежала… Тем временем здоровенный солдат, шагавший вдоль дороги в неизвестном направлении, свернул наперерез, – обрадовался случаю, – и прямо к моему вагону. Внизу галдеж, братские диалоги с поминанием родителей обеих сторон. Не пустили… Глянул он вверх, на скобу встал и на крышу. Я же ему и руку помощи протянул. Перевалил он брюхо, сундучок зубами за ремень придержал, – влез. Поехали.
– Представьте вы себе теперь такую акварель. Сидит против меня этакий хмурый, рябой печенег. Вдоль головы по ушам грязная тряпка обмотана, сукровица проступает. Смазал его кто-нибудь в драке, что ли. Глаза, как у бурятской каменной бабы, – всматривается в меня, не мигает. За плечом винтовка, для хозяйственной надобности в деревню прихватил. Поперек рваной шинели офицерский ремень. Сидит и молчит. А росту такого, что другой средний солдат и стоя с ним только-только сравняется. Дал ему папироску. Головой не кивнул, взял, как чугунный; и в пасть. Попутчик, нечего сказать, веселый. И все меня исподлобья осматривает, безбровыми складками шевелит… Спросил его, какой части, молчит. Не слышит, что ли?.. А поезд тем временем все бойче да бойче развертывается, внизу песни орут, вроде контрабасной рапсодии, – будто шваброй по контрабасу водят… Кто-то в задней теплушке сорвался: распластался под откосом, руки крестом… Гремим дальше. Где уж на такие подробности внимание обращать. И вдруг мой идол ноги скрестил, варежкой по крыше хлопнул, папаху на затылок остервенело передвинул и начал:
– Ахвицер? Втикаешь, сволочь?.. Думаешь, тулуп надел, так и концы в воду? Солдатская власть не пондравилась?.. А солдат по зубам дуть ндравилось?.. Денщик тебе лаковые сапожки чистил, растак твою душу! Другие воюй, а ты по тылам солдат суду предавать… За неотдание чести, растак твое сердце! Я тебя сразу узнал. Погоди, хлюст, до станции доедем, там тебе до победного конца покажут… Денежный ящик, небось, вскрыл, солдатскую кровь продал. Домой захотелось? На парадный диван? Сладкие чаи распивать… Погоди, сволочь, доедем, будешь сыт!
– Вот и сейчас у меня сердце, как бешеное, прыгает, когда вспомню про эти минуты… Вы понимаете… Отвечать? Оправдываться?.. Уши у него завязаны, слова не дойдут. Да если бы и дошли, разве можно гиену убедить?.. За кого он меня принял, не знаю. Вернее всего, ни за кого. Просто был он налит злостью и темнотой до самых глаз. Просто я попался ему на пути, и он с зоркостью зверя угадал, что я «ахвицер». Для таких тогда больше и не надо было. Знает ли он, что я трижды был ранен и трижды по своей воле на фронт возвращался? Что я со своими солдатами всю тяготу этой проклятой войны нес до последнего часа, пока они меня сами же не столкнули в сторону… Что каждая их рана была и моей раной, что делился с ними последним грошом. Да что говорить… Понял я только, что передо мною на крыше вагона, в образе этого здоровенного печенега с каменными глазами сидит сама Смерть. Тысячу раз проходила она над головой на фронте и не коснулась. А вот тут, когда вырвался из-под обвала, когда завтра-послезавтра родной Орел, и жена, и дети, – вместо того через час узловая заплеванная станция и… самосуд… Вы знаете, как в русских деревнях конокрадов бьют?.. Не смерть страшила, за годы войны каждый день была она в обиходе, никто не отказывался. Но под брань и вой этой хриплой гориллы, которая исступленно будет орать, что «он тебя знает», что ты «денежный ящик вскрыл» и солдат тиранил, – мотаться под прикладами русских солдат, стонать под их каблуками и потом где-нибудь у нужника застыть окровавленной тушей… О Господи!
– Подобрался я весь, как стальная пружина. Спрыгнуть с вагона? Но даже если и не переломаешь рук и ног, моя судьба в образе рябого солдата с завязанными ушами меня с крыши вагона из винтовки прикончит. Ухлопать его? Но и наган, и шашку давно у меня отобрали – зачем «ахвицеру», отстраненному от командования, оружие… А поезд летит-гремит, и с каждой шпалой узловая станция все ближе и ближе. Не знаю, приходилось ли господину Эдгару По такие минуты переживать…
– Да. Ослабла моя пружина. Опустился я как-то весь, как осужденный, когда его под мышки на эшафот волокут… И вдруг… свист! Над всеми крышами – сплошной свист. Поднял я голову, вижу, подбегает поезд к мосту: сквозные железные квадратные балки над рекой повисли… Это, значит, верхние пассажиры свистом друг другу сигнал подавали, чтобы ложились все плашмя на крышах, чтобы не задело. Взглянул я на своего попутчика, вижу, сидит он спиной к мосту, свиста не слышит, моста не видит. Уставился на меня и бурчит что-то свое, похабное. Вздрогнул я. И сам не знаю, как меня угораздило, полез я в карман, вытянул фляжку с водкой и сую своему попутчику – пей!.. Схватил он флягу, думать и секунды не стал, вытянулся на коленях, запрокинул голову и стал пить. А я в тот же момент ничком на крышу лег, да и время было: передняя балка в десяти шагах чернела…
– И когда я по звуку колес понял, что мост мы проехали, поднял я голову: на крыше, кроме меня, никого не было. Фляжка только каким-то чудом уцелела… До сих пор цела, – память ведь, в некотором роде…
* * *
Полковник вытер холодный пот платком.
– Вот и весь мой эпизод. Выводы делайте, какие вам угодно. А я выскочил. Сижу с вами, пью чай, и какое-то место под солнцем пока что занимаю…
<1930>
ФОКС-ВОРИШКА *Каждый раз, когда спускаешься к колодцу мимо радостно-изумрудных косматых лоз за водой, фокс Микки появляется из-за дома и идет за мной по пятам с таким видом, будто он получает за это жалованье.
Трудно понять собачью душу… Что за охота в жару глотать рыжую пыль, подымающуюся из-под веревочных подошв человека. На тропинке ничего интересного: вялые муравьи и щербатые, надоедливые камни. Стоило ли выползать из-под тенистого дуба, под которым снятся такие сладкие собачьи сны…
Или он так влюблен в своего хозяина, что, заслышав звон ведра, повинуется зову сердца и тянется к моим выгоревшим штанам, как мотыльки к горящей свече? Едва ли. Ведь когда сидишь на краю холма, где со всех сторон обдувает жаркую спину прохлада, его, черта, ты не дозовешься. Сидит в кустах, и, несмотря на свою аристократическую породу, облизывает, как самый простой собачий сын, коробочку из-под сыра… Какая уж там любовь?
Сегодня я наконец понял, в чем дело. Когда я поравнялся с толстой почтенной смоковницей и обернулся, – белая собачья спина исчезла. Я индивидуалист и в чужие дела вмешиваться не люблю. Быть может, собаке захотелось почесаться в тени вырезанных виноградных листьев, – ведь это гораздо приятнее, чем задирать лапу смычком выше головы на прибитой голой тропинке, с которой блоха опять же на собачью спину и прыгнет…
Но, возвращаясь с полным ведром, я остановился: белое пятно застыло в зеленом туннеле под лозой, потом продвинулось дальше. Опять застыло. Густые листья вздрогнули и зашипели. Свиданье? Но второго пятна – ни желтого, ни белого рядом не было. Странно. Я беззвучно опустил ведро на землю и прокрался ближе. Боже мой! Мой эмигрантский фокс, мой честный интеллигентный пес нагло нарушал добрые провансальские нравы: переходил от лозы к лозе, выбирал самые спелые гроздья и ел чужой виноград…
– Микки! – крикнул я возмущенно. – Что ты делаешь, Микки?! Разве ты хочешь, чтобы я тебя отправил в колонию малолетних преступников?..
Микки вздрогнул и исчез, будто в преисподнюю провалился. Через минуту он появился с другой стороны дорожки из зарослей сухих колючек. Посмотрел на дикую грушу – зевнул, потом на меня: «Ах, вот ты где»… и, прикинувшись наивным простачком, сбил с морды приставший к бороде сухой виноградный лист. Он нагло лгал всей своей позой, невинными детскими глазами, беспечно играющим обрубком хвоста.
– В чем дело, хозяин? Я был в колючках по своим маленьким гигиеническим делам… Почему ты поставил ведро на землю? Тебя наверху давно ждут… Ведь нельзя ставить на огонь пустой чайник. Дай-ка, дай-ка веревку, я потяну, и тебе легче будет нести ведро в гору.
Но я вытаскиваю из зубов Микки веревку, опускаюсь на камень и со всей строгостью, которую мне удалось из себя выдавить, говорю:
– Какой срам, Микки! Ты когда-нибудь видел, чтобы я срывал у дороги чужой виноград или фиги? Или надевал сохнущий на заборе чужой купальный костюм?.. Как ты смел? Разве во время обеда я не отдаю тебе самые сочные ягоды? Ты не собака, ты свинья, и я до самого ужина не буду с тобой разговаривать…
Увы. Должно быть, строгие ноты моего голоса не были убедительны. Микки нехотя переворачивается на спину, нехотя подымает кверху лапы, – это ему заменяет белый флаг, – и скулит. Но ни тени раскаяния я в его голосе не слышу. За два года совместной жизни мы хорошо научились понимать друг друга, и мне совсем нетрудно перевести его жалобу с собачьего языка на русский.
– Отчего ты такой симпатичный и такой несправедливый? Я ведь один из дому в виноградник не бегаю. Только с тобой. Ты идешь за водой, а я пасусь. Почему сороки клюют виноград? И осы его едят? Почему вчерашняя гостья, от которой пахнет желтыми папиросами, отщипнула самую толстую виноградину, а ты видел и промолчал? И коза сегодня натянула веревку и слопала целую кисть вместе с листьями и букашками?.. У ферм я никогда не трогаю, прохожу мимо, даже стараюсь не смотреть… А здесь на холме – виноград общий. Можно мне перевернуться и стать на лапы?
Что поделаешь?.. Пусть уж переворачивается. Мы мирно подымаемся рядом к дому. Когда я отстаю, чтобы хорошенько обсудить отвратительный собачий поступок, Микки останавливается на пригорке и снисходительно меня дожидается, иронически вскинув ухо. Он молчит, но его молчание я научился понимать:
– Иди, иди… Тоже строгий… Даже не шлепнул. Вот я полакомился, к самому мускату пробрался. И ничего ты со мной не поделаешь. Не то что виноград, и утенка слопаю, если он сюда на ничейный холм с фермы приковыляет… Потому что я дикий охотничий фокс, и мне скучно всегда тебя, комнатного человека, слушаться… Понял?
1930
La Faviere
МОРСКАЯ ПОДУШКА *Море порой приносит нам прекрасные дары. То выбросит доску, из которой можно смастерить за домом для всего населения нашей дачки уютную скамейку; то прочный ящик из-под рома, – вон он стоит у кровати, покорно исполняя обязанности ночного столика. На днях утром мы получили совсем необыкновенный подарок: к берегу пригнало большую квадратную подушку… Сначала мы даже не поняли, что это за штука. Вся пестрая, как букет из разноцветных мальв, лоснясь всеми вздутыми водой стегаными квадратиками, она была похожа на детскую перинку для маленького моржонка. Или, если вам угодно, плавательный прибор для Гаргантюа… На пляже никого не было… Быть может, кто-нибудь из соседей забыл это сокровище на воде. Но все наши соседи люди нормальные. Кто и для чего притащит огромную пеструю подушку и бросит ее в море? С таким же успехом можно учиться плавать и на письменном столе, однако, слава Богу, никто еще этой симпатичной мебели на берег не приволакивал.
Мальчики, – самое загадочное племя в мире, – честно выдумали, что они давно уже видели подушку в волнах. Младший мальчик даже видел ее за мысом, далеко от берега в открытом море, – решил, что это наша толстая итальянская лавочница, поздоровался с ней, но она ему почему-то не ответила. Глаза у него возбужденно блестели, жесты были исполнены пафоса и подкупающе искренни. Когда несовершеннолетний человек так симпатично врет, – невольно увлекаешься сам и веришь. Тем более что все мы, не сговариваясь, сразу по беспроволочному телеграфу обменялись одной фразой: «А ведь подушка-то теперь наша».
Втроем вытащили мы грузное сокровище на песок. Подушка была так тяжела, словно ее налили ртутью. Мы долго ее мучили: бросались на нее животом, били пятками, скручивали в бараний рог, пока она немножко не похудела и не стала тихонько шипеть. У подушки тоже, очевидно, были нервы.
Младший мальчик, захлебываясь от радости, вытер мокрыми трусиками ноги и лицо и стал думать вслух:
– Во-первых, случилось несчастье… Аэроплан накренился, сиденье выскользнуло из-под пилота и шлепнулось в море. Он теперь сидит на голой сквозной решетке. Совершенно ясно.
И он плюхнулся на подушку с такой силой, что у меня дрогнуло сердце.
– Совершенно неясно, – поправил я мальчика. – Когда говорят «во-первых», надо что-нибудь сказать и «во-вторых».
Но он сказал все, и смешно было требовать, чтобы вдохновенное слово изливало себя по пунктам.
Старший мальчик расковырял угол подушки, вытащил оттуда клочок мокрой дряни, понюхал и вдумчиво определил:
– Черная шерсть. Подушка стоит не меньше сорока пяти франков.
Романтический уклон был ему совершенно чужд. Но прейскурант меня интересовал мало, и мои мысли завивались в варьяции, которые младший мальчик не досказал «во-вторых».
Свежий ветер. Моторная красного дерева лодка. На корме, хрупко облокотясь о стеганую пеструю подушку, сидит какая-нибудь мисс-Кис, романтическая спаржа со светло-сиреневыми глазами… Пузатый штофик с джином, граненая рюмка столбиком. Девятая рюмка. Темно-фиолетовые глаза… Девятый вал…
Толчок! Мисс-Кис летит от двух бортов в середину в объятья коренастого механика, подушка – в море… До подушки ли ей и ему, да хранит их Господь на море и на суше…
Мы встаем. Как дотащить бесценный груз до нашего холма? Младший мальчик великодушно снимает со штанов ремень. Перетягивает подушку поперек тальи, – фигура у нее все-таки не совсем модная, но что поделаешь. Продеваем сквозь нее весло и, восторженно задирая ноги, тащим. Дачники на пригорке останавливаются. Всматриваются. Кого это там внизу волокут: утопленницу или свежеободранного барана?.. И почему младший мальчик все время левой рукой подтягивает штаны?..
Пятый день сохнет наше сокровище, то на циновке, то на раскладном кресле. Переволакиваем его с места на место по солнцу. Кретон слинял, покрылся ржавыми пятнами и напоминает цвет лица подагрической дамы, которую вы невзначай застали врасплох до утренней реставрации. Ужаснее всего то, что днем подушка высыхает, а к вечеру преет и обливается потом: внутренний сок выступает наружу и, должно быть, начал бродить. Потому что подушка издает странный и не совсем приятный запах разложившейся русалки.
Мальчики давно в ней разочаровались, проходят мимо, будто это не чудесная подушка, упавшая с аэроплана, а старый сморщенный бурдюк. Да и по форме своей на что она пригодна: для кресла велика, для тюфяка мала… Седло для верблюда из нее вышло бы неплохое, но где взять верблюда? Пробовали мы бросать ее, импровизируя олимпийские игры, друг другу на голову, – тяжело и неудобно.
Утешение только одно: мальчики с соседней дачи купили на каком-то казенном аукционе за три франка огромный пропеллер, привезли его на лодке в наш залив, приволокли, пыхтя, на веранду. И вот третий месяц лежит у них поперек веранды гигантский, несуразный предмет. Родители в отчаянье, – пропеллер им нужен, как корове пишущая машинка… Мальчики давно к своей покупке остыли, но выбрасывать ее не позволяют.
А нам что ж… Пусть еще дня два наша подушка повоняет, – снесем вниз и бросим в море. Авось в соседнем заливе кому-нибудь она такое же удовольствие доставит.
1930
La Faviere








