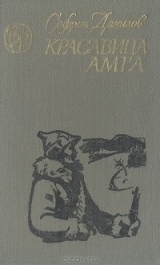
Текст книги "Красавица Амга"
Автор книги: С. Данилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
– То-то и оно! – По всей видимости, Ойуров продолжал какой-то не законченный с кем-то спор. – Не знаем ни истории, ни культуры своего народа, зато страсть как любим об этом рассуждать! Да ещё чем больший невежда, тем больший знаток! Прочти-ка мне вот это… – перелистал страницу и ткнул в неё пальцем Ойуров.
– Анемподист Софронов, «Родина». – Томмот послушно взял в руки журнал и прокашлялся:
О, Родина! Родная ширь!
Ты, как пленённый богатырь,
Лежишь под тяжестью веков
У ледовитых берегов.
Но верю я, твой час придёт,
Проснётся бедный мой народ,
И разлетятся силы мглы,
Оковы зла и кабалы.
Кто раньше встал, тот громче пой!
Счастливый поднимай прибой.
Труби, весенняя вода!
Пусть содрогается беда…
– Э, парень, не так эти стихи читал Михась Урчусов! Не так… Глаза его горели, голос звенел.
Бедный Томмот поник головой: что поделаешь, если он ничего не знал об этом журнале и если он не умеет читать стихи так хорошо, как Михась Урчусов! Но он, однако, не спешил обижаться. Он понимал, что старик Ойуров долго-долго носил в себе какую-то большую боль (не такую ли большую, с которой Томмот пришёл к нему сам?), и спокойно ожидал, во что выльется их разговор.
– А знаешь ли ты Анемподиста Софронова, который десять лет назад это стихотворение написал? Не знаешь… А он сейчас участвует в организации отряда против Пепеляева. Михась робел перед ним, говорил – мне бы хоть частичку его таланта. А сам талант был! Такой гражданский талант, ищи – не сыщешь…
Не смея поднять глаз на разгорячившегося удручённого старика, Томмот сказал:
– Я знаю, что похоронили сегодня Михася Урчусова. Скажите ещё что-нибудь про него.
Тут и хозяин в свою очередь немного смягчился.
– Чайник вскипел!
На полке, в заиндевевшем углу он отыскал ломоть чёрного хлеба и несколько кусочков варёного мяса, сдвинув локтем миски-склянки на край стола, положил еду на чистое место и, подумав, вышел за дверь. Вскоре он вернулся с кусочком масла на блюдечке, поставил на стол позеленевшую жестяную кружку, гранёный стакан и, натянув рукав на ладонь, переставил кипящий чайник с плиты на стол.
– Чай пить будем! – С кусочка кирпичного чая он состругал в кипяток заварку и шумно помешал ложкой. – Садись-ка, раз в гости пришёл. Про Михася спрашиваешь? Так вот. С особым заданием он был послан на восточный берег и не вернулся. Вчера нам привезли его мёрзлый труп, нашли его в сугробе по Амгинскому тракту. Лошади на тебеневке вырыли его из-под снега. Когда и кто убил парня, неизвестно, но дай срок, узнаем, всё узнаем! Вот так и погиб на «безопасной» работе в ГПУ чекист Михась Урчусов…
Томмот понял, что последние слова адресовались ему: старик всё помнил, ничего не забыл.
– Люди всё убывают, а работы всё прибавляется. Поешь-ка вот, вижу, голодный, с утра, поди, не ел. А работы всё прибавляется… Не пора ли тебе, мой друг, приступить к работе?
Вот так попросту и сказал Ойуров, как видно, он не сомневался в том, что парень обязательно придёт в ГПУ. Томмот смутился, но постарался скрыть это. Сейчас, после смерти Михася Урчусова, не скажешь про ГПУ, как про место, где протирают штаны. Однако и о желании своём он тоже не мог заявить: вряд ли в сотрудники ГПУ примут человека, который потерял революционную бдительность…
– Дела сложились у меня нехорошо, – признался Томмот. – Теперь, пожалуй, вы и сами меня к себе не возьмёте.
– А в чём дело? – без особого удивления поинтересовался Ойуров. – В беду какую попал?
Томмот отставил в сторону недопитый стакан и во всех подробностях рассказал злополучную историю с Кычей.
– Как фамилия твоей девушки?
– Аргылова.
– Дочь известного бая?
– Да.
– Та-ак… Действительно, уехала она к своим. Слыхать, уже доехала. Хамначчит отца её привозил в город грузы по развёрстке ревкома, а обратно увёз, как видно, её. Несколько дней назад наши патрули останавливали повозку, в которой, как говорят, была больная женщина. По-видимому, это и была твоя Кыча. Старший брат её Валерий арестован – ты знаешь об этом?
– Нет…
– На похоронах двух убитых красноармейцев был?
– Да.
– Выяснилось, что убил их Аргылов.
– О-о!
– Вот тебе и «О-о!». Девушку винить не торопись, оснований пока нет. Но что пришёл ко мне сам – за это спасибо. Хотя обо всём, что ты рассказал, я уже знаю, ничего нового для меня ты не сообщил. Между прочим, соседи Ыллама Ыстапана дали показания, что Кыча была увезена связанная.
– Как связанная?
– Удивляться тут нечему. В рот – кляп, связали, бросили в сани – всего и дел. Но соседи могли и ошибиться. Правда, непонятно, почему она не подала никакого знака нашим патрулям, когда они остановили сани на дороге. Сказать что-нибудь определённое пока затруднительно. А брат её несомненно враг, и лютый враг. До сих пор на допросах ни слова.
«Арестован брат Кычи… – лихорадочно сопоставлял факты Томмот. – А может, она потому и ударилась в побег, что узнала об аресте брата? Или правда, что она о брате не знала? А вдруг она тайком встречалась с ним? Допуская, что Кычу увезли силой, старик всё же сомневается, и резонно: как это взрослый человек может позволить себя увезти силой? Друзья твои не знают ещё об аресте Валерия Аргылова. Узнают – не жди пощады…»
– Дело серьёзное, – сквозь табачный дым вглядывался в Томмота Ойуров. – Но казнить себя заранее тоже не торопись. Исказнишься попусту – да будешь потом мучиться ещё и оттого, что зря мучился. Попади она к белым и по своей воле, твоя вина лишь в том, что ты ей доверял. Ну, а если её увезли силой, я тебя не стал бы особенно винить, просто слегка поругал бы. Не за доверие, а за то, что товарища покинул в беде, не пришёл на помощь. Звать человека к добру, тянуть его к свету – совсем не вина. Уводить от добра – вот вина…
– Виноват, что не помог ей… – с недоумением пожал плечами Томмот. – В чём? В побеге, что ли?
Допив свой чай, Ойуров стал покачивать на пальце пустую кружку. Жар в печке убавился, от заиндевелых углов и от двери заметно потянуло холодом.
– Не в побеге, а в том, чтобы и мыслей не было о побеге. Легко отвадить человека, отказаться от него, когда ошибётся. А ты не упусти его! В молодости у меня случай был похожий! Хорошая есть у нас пословица: «Старца носи с собой в суме и спрашивай совета». Расскажу я тебе, пожалуй. В ту пору я был, как и ты, девятнадцатилетним, и была у меня любовь, девушка, с которой учился, священника нашего дочь. И вот настало время, пошёл я к попу в дом – сватать его дочь. Поп и слушать меня не стал – выставил за дверь. А возлюбленная, давшая мне обещание настоять на своём, почему-то стояла молчком. Мне даже показалось, что она одобрительно кивала головой, когда отец орал на меня. С тех пор, считая себя уязвлённым, я с нею не захотел видеться. А чтобы рассеяться, нанялся я к одному купцу писарем и подался на Север, в устье Лены. Возвращаюсь оттуда и узнаю, что любовь моя вышла замуж за сына бывшего князька нашего наслега. Ладно. Проходит эдак лет десять, я уже начинаю забывать, что было, как вдруг нынче летом ко мне на службу заходит женщина. Оказалась она. Конечно, подобрела, потолстела. Зашла и – в три ручья. Взяли отца, а он ни в чём не виноват, говорит. Спаси его, молит. Не виноватых мы не трогаем, говорю. Будет доказана его непричастность, освободят. А она никак не уймётся, вспоминает прошлое, дружбу нашу, да ещё начала меня корить: мол, оставил тогда меня одну, а сам удрал. Говорит, выдали её замуж почти насильно, сопротивлялась она отчаянно. Если б ты не покинул меня тогда, может быть, жизнь ко мне повернулась иной стороной – вот как говорит. Как мне рассказывали, она собиралась в побег на Север, вслед за мной. Я разжалобился, пообещал поинтересоваться делом её отца. Это обещание она, кажется, поняла тогда по-своему, ушла сильно обрадованная. Я сдержал слово, расспросил людей, занимавшихся делом того попа. Старик оказался из самых ярых. Зять его, то есть муж моей первой любви, был в белобандитах, сам поп сотрудничал с белыми, по его доносу были расстреляны трое ревкомовцев. Поп по приговору ревтрибунала был расстрелян, о чём было напечатано в в газете «Ленский коммунар». На другой день на улице навстречу мне та женщина, она меня подкарауливала. Как увидела, подскочила ко мне и плюнула в лицо. «Это за отца, это за твою помощь! – кричит. – Отца расстреляли, а теперь расстреливайте меня!» Чекисты тоже люди, имеют нервы. Не помня себя, схватился я за кобуру, да опомнился. Так и состоялась моя встреча с первой любовью. Теперь уже мало надежды, что взгляды её изменятся. Ненависть – очень стойкий яд. Боюсь, откровенно говоря, третьей встречи с ней – чего доброго, или в тюрьме, или в комнате трибунала. Не дай бог мне такого! На первый взгляд, во всём вина её. Но потом, рассудив, во многом я обвинил и себя. Если бы в своё время я сдуру не ударился в побег, а стал бы отстаивать свою любовь, её судьба действительно могла бы стать иной. Может, другие меня и не обвинят. Но есть самый неумолимый судья – это твоя же совесть. От этого суда никуда не уйдёшь и нигде не скроешься.
И Томмоту вспомнилось: «Не ходи за мной. Оставь меня одну!» И он, глупец, оставил её одну!
– Ну, я пойду… – растерянно пробормотал Томмот, поражённый этой новой мыслью: был, оказывается, момент, когда он её упустил!
– Ну, а служба-то? С какого же дня тебя зачислять?
– Я не знаю… Я завтра к вам приду, – неопределённо сказал Томмот.
– Ну, добро!
– До свидания… – он хотел, как обычно, сказать «товарищ Ойуров», но это почему-то уже не выговаривалось. – До завтра, Трофим Васильевич.
Глава десятая
Через неделю в кабинете Ойурова они сидели втроём. За столом у окна сам Ойуров, за небольшим столиком сбоку Томмот Чычахов в качестве секретаря, а между ними – Валерий Аргылов. Посторонний человек, войдя, не сразу бы догадался, кто кого здесь допрашивает – Ойуров Аргылова или тот обоих сразу: ни в облике, ни в манере держаться не было у него ни малейшего признака растерянности или хотя бы смущения – сидел он развалясь, вытянув обутые в курумы ноги, в пиджаке нараспашку, независимо подбоченясь левой рукой. Наступал вечер. К окнам снаружи уже вплотную подступила тьма, в коридоре давно затихли шаги последнего, ушедшего домой сотрудника, а они всё сидели. Удивительно, который уж день они с утра до глубокой ночи ведут допрос этого Аргылова и ни на вершок не продвинулись – Томмот не мог этого уразуметь. Ни очные ставки со свидетелями, ни явные факты – ничто не могло его сломить, на всё у него лишь один был ответ: «нет», «не знаю» да ещё брань, когда его припрут к стене. Кажется, он и сам понимал, что ведёт себя безрассудно – ведь сколько свидетелей, столько и показаний прошло перед ним, но выйти из этой колеи, как видно, уже не мог. Томмот дивился невозмутимости Ойурова: за все эти дни ни разу не повысил голоса, кажется, эта его манера и вынуждала Аргылова бесноваться. Как бы даже заинтересованно, подперев щеку ладонью, Ойуров вслушивался в поток брани, а когда арестованный иссякал, он как ни в чём не бывало продолжал с того же, на чём прервался.
– Вы кончили? Тогда, пожалуйста, ответьте на такой вопрос…
И опять всё начиналось сначала: очные ставки, предъявление фактов, споры, запирательства и ругань арестованного.
Это было уже невыносимо не для одного только Аргылова. Но Ойуров, когда Томмот признался ему в этом, невесело усмехнулся:
– А ты врагов представлял себе иными? Должен вытерпеть! Здесь тоже своя борьба.
И опять, в который уже раз, снова и снова Томмот с утра до ночи заносил в протокол одни и те же отрицания.
– Гражданин Аргылов, утром я уже предупреждал вас: сегодня последний день следствия, завтра передаю дело в ревтрибунал.
– А куда хотите: в рай ли отправьте, в ад ли – для меня всё равно. – Валерий забросил ногу на ногу. – Говоря по правде, мне на ваш трибунал плевать.
– Напоминаю, что чистосердечное признание облегчит вашу участь.
Аргылов молча уставился в потолок.
– Так. Отвечайте: какое задание вам дал генерал Пепеляев?
Аргылов, не меняя позы, перевёл глаза с потолка на стену.
– К кому вы ещё заезжали по пути, кроме отца? С кем имели встречи?
Взгляд Аргылова, задерживаясь на каждом бревне, начал сползать по стене вниз.
– По Амгинскому тракту вы убили двух красноармейцев. Как сумели ускользнуть от погони? В Якутске вы заходили к Титтяховым?
Теперь Аргылов стал внимательно глядеть во мглу за окном.
– Откуда вы знаете Соболева? Кто вам дал его адрес? Какое задание вы ему доставили?
Рассматривать Аргылову в этой убогой комнате было уже нечего, тогда он смерил взглядом самого следователя.
– Послушай, Ойуров, неужели тебе не надоело долдонить одно и то же?
– Теперь, кажется, всё, Аргылов. Я уже кончил. Товарищ Чычахов, уведите арестованного.
Держа руку на кобуре, Томмот подошёл к Аргылову. Тот вскочил на ноги.
– Хамначчит! Нищий! «Всё», говоришь, собака! Как бы ты сам, голодранец, вскоре не стал бы валяться у меня в ногах, вымаливать пощаду! Станешь мне ещё пятки лизать, а я с тобой, сукиным сыном, разделаюсь, как захочу! У живого стану жилы вытягивать! Ну, погоди уже! Властвовать вам осталось несколько дней…
Томмот вытолкнул его в коридор. Едва захлопнулась дверь за ними, Ойуров, дав себе волю, изо всей силы ахнул кулаком по столу:
– Контра! Бандит! – и, обессиленный, сел, положил руки на стол, опустил голову.
Вернувшись, Томмот застал Ойурова уже спокойным, тот убирал бумаги в ящик стола.
– Боюсь, с арестом этого стервеца мы поторопились. Будь время чуть спокойнее, дать бы ему порезвиться. Где возьмёшь людей, чтобы наблюдать за ним? Вот в чём загвоздка… Рискованно оставлять без присмотра очаг пожара. Чуть появятся искры, спешишь сразу пригасить. Из-за этого их агентура остаётся так и нераскрытой до конца. Жаль! Но на Аргылове крест ставить ещё рано…
Из общежития педтехникума Томмот перебрался теперь в казарму Чека, где в комнате на восьмерых получил он топчан, постель и новое общество, которое за все эти дни ни разу ещё не было в сборе – кто на собрании, кто на дежурстве, кто в патруле.
Ушли, как видно, недавно: чайник на столе не успел ещё остыть. Томмот достал из своего ящичка остаток хлебного пайка, кусочек прогорклого масла, поел и стал укладываться, надеясь, что авось в этот раз удастся выспаться, авось не разбудят среди ночи: «Чычахов, вставай – вызов!» Может, повезёт и не придётся, едва глаза продрав, мчаться очертя голову куда-нибудь в другой конец города?
Томмота на этот раз никто никуда не вызвал, было спокойно, а сон всё не шёл к нему. Как он ни считал до сотни, до тысячи, как ни вызывал в воображении своём радостные случаи, какие только задержались в его памяти, из своей ли жизни, из чужой ли, как ни старался отвлечься он от реальности – всё было напрасно.
Томмот хорошо знал, что у революции столько же врагов, сколько защитников и приверженцев. Он знал, что враги непримиримы, коварны, жестоки, и все, которых он знал и о которых слышал, сложились в его воображении в один хотя и зловещий, но бесплотный образ врага. Валерий Аргылов в отличие от других был из плоти и крови. Но такого нечеловечески ярого, такого до неестественности однозначного и законченного врага Томмот до этого не представлял себе. Поколебать его, взывая к совести и разуму, казалось делом столь же напрасным, как молитвой тушить пожар в сухом смоляном лесу. В этих случаях люди пускают встречный пал, потому что такой огонь можно погасить лишь огнём же.
День ото дня и с утра до ночи, наблюдая Валерия Аргылова, Томмот, сам того не желая, думал о его сестре Кыче, и дума эта, как ни петляла по сторонам, неизменно возвращалась в одно и то же русло: от волка родится только волк…
Кто же ты, Кыча? «Кто же я?» – выглядывая из-за спины брата, в свою очередь спрашивала Кыча. В её вопросе было столько простодушного недоумения, в её улыбке было столько чистоты, искренности и доверчивости, что Томмот, застонав, уткнулся лицом в стену, как бы отвернувшись от этого мучительного видения.
О Кыча! Как поверить, что тебя родила та же мать от того же отца? Как поверить, что ты кормилась той же грудью, росла под одной крышей с этим волком, из года в год сидела с ним за одним столом и ела из общей посуды? Белый зайчик по ошибке родился в волчьем логове – бывает ли такое? Как в такое чудо поверить? Скажешь, что глаза её были чисты? Но что её глаза, когда собственным глазам и то не всегда веришь. Положа руку на сердце: веришь ли ты Кыче до самого конца? Колеблешься… Да, ты колеблешься, иначе бы сразу вскричал: «Верю, и за свою веру готов сложить голову!» Нет, Чычахов, как бы ты ни желал, тебе не дано обойти стороной тот факт, что Кыча твоя баю Аргылову доводится дочерью, а бандиту Валерию Аргылову – родною сестрой. Её исчезновение можно лишь так объяснить: сколько волка ни корми, он всё в лес смотрит.
Вспомнился Ойуров: сказал, что Кычу вроде бы увезли силой. Сказал, да с сомнением. Может, для того только, чтобы успокоить Томмота? Слова эти в тот вечер и вправду обрадовали Чычахова. Он стал переосмысливать всё, но эту надежду без следа развеял потом Валерий Аргылов. Чем дольше тянулся допрос, тем меньше доверия и приязни оставалось у Томмота к его сестре. Теперь, кажется, от былых его чувств ничего и нет…
И тут, словно бледный рассвет, мысль, зародившаяся у Томмота, стала всё больше светлеть. Как малограмотный с усилием читает, дивясь, что из слогов чудом складывается слово, Томмот принялся складывать эту мысль по частям, прислушиваясь сам к себе. От волка рождается волк, от овцы рождается овца. От любви рождается любовь, пусть даже трудная, какая угодно мучительная, но всё же только любовь. А ненависть порождает лишь ненависть.
Силой ненависти Валерий Аргылов породил в нём ответную ненависть. И она, назови её какой угодно, священной, убила в нём любовь. Вот что, к удивлению своему, рассмотрел в душе у себя Томмот. Его не покидало чувство, что кто-то со стороны пришёл и вынул из его души что-то многоцветно богатое.
«Любовь – та же моральная сивуха, что и религия».
Так сказал на днях в техникуме лектор. Может, это правда? Как бы то ни было, но он прежде всего комсомолец. Он должен быть беспощадным к классовому врагу! Он должен отдать борьбе все свои силы и, если понадобится, – жизнь. Всё!
Томмот повернулся лицом к стене и, словно скрепляя своё бесповоротное решение печатью, размашисто стукнул по стене кулаком, рывком натянул на голову полушубок.
Через несколько дней Валерий Аргылов предстал перед Революционным Трибуналом Республики.
– …К расстрелу.
Приговор Валерий выслушал невозмутимо, будто он относился не к нему. Заключительные слова приговора почему-то вызвали у него улыбку.
– Уведите!
Точно он не помнил, как одевался и как был выведен на улицу; ему стало казаться, что сознание отделилось от него, всё происходило будто во сне.
И только на полпути к тюрьме он очнулся.
Прежде всего он постарался загасить на лице своём глупую улыбку, но это, к удивлению его, оказалось не просто: рот свело, губы не слушались. Потом стал он жадно, со всхлипом, втягивать в себя морозный воздух; холодная волна, хлынувшая в грудь, разлилась по телу, ум прояснился, и до слуха его наконец донеслись звуки жизни. «Чего стоишь, распрягай давай лошадь!» – кто-то забасил рядом, за ближайшим забором. Чуть поодаль во дворе ритмично шоркала и позванивала пила, скрипели полозья саней. «Чертовка, где у тебя глаза были?» Обернувшись на этот крик, Валерий увидел посреди улицы женщину с девочкой, обескураженно стоящих над опрокинутыми санками с бочкой. Двое молодых ребят, проходя мимо, помогли поставить саночки на полозья. Их раскатистый смех уязвил Аргылова жизнерадостностью. «А я что? Куда это они меня? Зачем? Ведь я…»
– Шагай давай! Пошевеливайся! Кому говорят, контра! – Конвойный ткнул Аргылова дулом винтовки в бок.
До сих пор с ухмылочкой на лице, с высоко поднятой головой, руки за спину, Аргылов, не будь конвойных, сошёл бы за беспечно прогуливающегося господского сынка. Но тут неожиданно произошла с ним разительная перемена: голова его ушла в плечи, он ссутулился, шаг его стал сбивчив.
Остановились во дворе ГПУ, у ворот тюрьмы. Конвойный с караульным что-то долго выясняли между собой. Пока стояли, дожидаясь, глаза Аргылова остановились на шапке Чычахова. Белая, заячья, на затылке чернеет проплёшина. Увидев эту проплёшину, Валерий вздрогнул: после похорон двух убитых им красноармейцев Кыча ушла с парнем точно в такой шапке. Он, это он!
– Скажи-ка, парень…
– Давай заходи! Да быстрей!
Очутившись в камере, Валерий довольно долго стоял, бессмысленно уставясь на захлопнувшуюся за ним дверь. «Что же это такое?» Он откинул шапку на затылок и стал тереть лицо рукавицами. «К расстрелу! Меня к расстрелу? Просто-напросто застрелят из ружья? Как же так… До смерти, совсем? Это чушь какая-то! О, нет! Только не это! Что угодно, только не это!»
Аргылов вне себя подскочил к обитой железным листом двери и забарабанил в неё:
– Открывайте! Открывайте!
К окошку подошёл караульный.
– Чего буянишь?
– Открывай! Скорей открывай!
Караульный ушёл, вскоре к окошку подошёл кто-то другой.
– Чего надо?
– Открывайте! – Аргылов всё яростнее бил в дверь ногами и кулаками. – Выпустите меня отсюда!
– Ах, вон что! Выпустить… Многого захотел.
– Откройте! Сейчас же откройте!
– Опомнился, гад!
Окошко захлопнулось.
Устав колотить в дверь, Аргылов стал теперь царапаться, потом его перестали держать ноги, и он, как куль, упал на пол, спрятав голову меж колен. Его била дрожь, из груди вырывались нечленораздельные звуки. Выстрелят из ружья в упор, потом бросят в мёрзлую яму… У-у-у! Ы-чча-ы-ы! «К расстрелу!» Слово это засело в мозгу гвоздем, и всё на свете, кроме этого саднящего ржавого гвоздя, исчезло, растворилось, уплыло. О, горе! И зачем он, несчастный, появился на этом свете? Разве за тем, чтобы быть расстрелянным? Проклятье! Неужели свет солнца он видел нынче в последний раз? Что такое он успел узнать и повидать в жизни? Школу, реальное училище и… шальную жизнь у Артемьева. Двадцать с небольшим лет – вот и вся жизнь. Возник в памяти подстреленный, кувырком летящий вместе с конём молодой красноармеец с алеющим на груди красным шарфом. Затем появился весь избитый, окровавленный, с заплывшим глазом пожилой якут-ревкомовец с измождённым худым лицом. Он стоял возле самим же им вырытой могильной ямы и всё старался унять кровь, бегущую струйкой изо рта. Затем… но тут Аргылов закрыл лицо руками: «К расстрелу!» Теперь его самого – к расстрелу…
Он рассчитывал на долгую, почти бесконечную жизнь. Чего ему не хватало? Было всё: и деньги, и скот, и обширные земельные угодья, и образование. Но уготованную ему счастливую судьбу порушили большевики. Оружие в руки он взял для того, чтобы вернуть свою прежнюю счастливую жизнь – разве это не достойная цель? Генерал Пепеляев одержит победу, он с огнём и мечом пройдёт через всю Сибирь, счастливые это увидят, но его, Валерия, уже не будет на этом свете. Живые будут жить, а он будет гнить, и даже могилы его не найдут; рассказывали, что чекисты ровняют с землёй могилы тех, кого расстреливают. Отец с матерью тоже умрут, и не останется никого, кто бы помнил о нём. Всё кончено – завтра он будет трупом…
Аргылов схватился за голову, – ему показалось, что на него уже посыпалась земля. Он попытался заплакать в голос, но из груди вырвался вой, а облегчающих, таких на этот раз желанных слез не было у него ни капли – даже в этой мелочи природа ему отказала. Негодуя на эту несправедливость, Аргылов уткнул голову в колени и, утробно, по-звериному подвывая, долго сидел так.
День клонился к вечеру, и маленькое зарешеченное окошко камеры пропускало лишь слабый сумеречный свет. Выбившись из сил, осипший Аргылов сейчас редко и судорожно всхлипывал. Из путаницы мыслей, круживших в его голове, отчётливо всплыли вдруг слова отца: все они любят, чтобы деревья валил другой, а белки доставались бы им… «И правда – они там остались в безопасности, а меня отправили прямо в пасть смерти. Наверняка про себя решили: если попадётся и сгинет, то потеря невелика. А я, дурак эдакий, был даже польщён, считая себя удостоенным высокого доверия! Теперь в тысяче вёрстах отсюда, ограждённые штыками солдат, таких же дураков, как я, они проводят время в беспечной болтовне, в утехах, в пьянке, а я гибну. Подлецы!.. Почему должен погибнуть именно я? Почему я не стараюсь спасти себе жизнь? Кому нужно было моё упорное молчание во время всего следствия и на самом трибунале? Пуля одинаково уверенно ставит точку на жизни всякого, будь ты хоть начинён идеями, будь ты совсем без идей. Мне нужно быть в живых! В живых! В живых!
Но сказано было точно: к расстрелу!
Зачем я упорствовал? Чего ждал я? На что я надеялся? Сам искал смерти, дурак! А вдруг и теперь не поздно?! О, если бы так! Так скорей же! Скорей же!»
Аргылов проворно вскочил и изо всех сил стал колотить обеими руками в дверь.
– Откройте! Скорей!
В окошке мелькнуло лицо караульного.
Аргылов в неистовстве стал бить в дверь ногой.
– Немедленно открывайте! Следователя!..
Дверь распахнулась. Аргылов, не удержавшись, грохнулся на колени.
– Следователя! Я всё расскажу! Всё!
Глава одиннадцатая
Из-за далёких синеющих гор медным котлом тяжело поднялось солнце. Багровым светом своим оно странно преобразило мир: стылая долина реки Амги, глухая, седая и спящая, как бы проснулась вдруг, но не для тепла, а для холода ещё большего, ибо в зимнем солнце (в солнце самом!) не было ни искорки горячей, а был только холодный свет. Тишина до крайности обнажала стужу, только гулкие выстрелы лопающегося льда на реке, чёткий звук копыт по снежному насту, скрип сбруи да санных полозьев иногда нарушали эту бескрайнюю, вселенскую тишину.
Митеряй Аргылов на больших розвальнях возвращался домой из Амги, куда возил сено по развёрстке ревкома. Старик тешил себя тем, что вместо назначенных ему десяти возов отвёз только один для отвода глаз, и выдумывал способы растянуть как можно дольше эту волокиту, чтобы не везти больше ничего. В слободу он приехал вечером с тем, чтобы остаться на ночлег и, если удастся, что-нибудь разузнать о сыне, да жаль, ничего не узнал.
На этот раз старик оделся нарочно похуже – с трудом натянул на себя не по росту короткое триковое пальто с подобием воротника из обрезков заячьей шкуры, надел старую облезлую оленью шапку, шею обмотал старым шарфом. Согбенный, мотающийся на ухабах старик, казалось, спал, но это было лишь с виду так: был он бодр и зорок. С тех пор как вернулся из города Суонда, он перестал спать даже ночью.
…Дуралей ввёл Кычу за руку и стал столбом посреди дома, наблюдая, как на радостях бестолково тыкаются друг в друга мать с дочерью. Не утерпев, старик подошёл к Суонде и рывком повернул лицом к себе:
– Какие новости в городе?
Не сводя глаз с Кычи, Суонда затряс головой – отрицательно.
– Нет, что ли?!
Суонда слегка наклонил голову – утвердительно.
– Как? Куда же он… делся?!
В ответ послышалось невнятное мычанье.
– Ты что, орясина, совсем онемел, что ли?! Видел ли Валерия, сатана?
Аргылов принялся с силой трясти его за грудки, но Суонда невозмутимо стал разматывать свой старый, весь в заплатах шарф. Пока он размотал шарф, да развернул его, да обтряс и повесил сушиться перед камельком на загрядке, Аргылову показалось, что за это время сварился бы котёл мёрзлого мяса.
– Хотуой, – обратился он к дочери. – Ты что-нибудь знаешь о брате?
– Нет! – отрезала та, даже не глянув в сторону отца.
А Суонда опять вернулся к двери, распутывая завязки шапки.
– Я тебя спрашиваю, видел ли ты Валерия?!
Одно мычание в ответ, и ничего больше.
– Уродина, что это означает: да или нет?
Аргылов оборвал завязки и сорвал с хамначчита шапку, затем посыпались пуговицы его шубы. Захватив одну полу и обежав вокруг Суонды, старик сорвал с него ветхую шубейку. Не обескураженный даже этим, Суонда молча направился к запечью и взял там веник – он собирался ещё обивать снег с торбасов. В ярости Аргылов вырвал у Суонды веник и тычком в грудь заставил его сесть.
– Говори, чёрт: видел его или нет?!
Суонда отрицательно мотнул головой.
– Как это нет? Он что, уехал куда?
– А-а-рест…
– Что? Арестовали? О, абаккам!
Аргылов со всего маху огрел Суонду веником по голове.
– Что тут болтаете? – подошла мать. – Как это могут Валерия… арестовать? Кто?
– Чекисты, дура, чекисты!
Лишиться сына, единственной своей надежды, – возможно ли такое пережить! Кто же теперь унаследует его имя, его богатство, кто продолжит его род? Девка, что ли? Якуты не зря говорят, что девушка предназначена иноплеменникам. Не потому ли Аргылов ещё с рождения дочери был равнодушен к ней и не потому ли они с женой, не сговариваясь, детей своих как бы поделили: отец всё больше водился с сыном, а мать – с дочерью. Годы шли, и чем глубже сын воспринимал отцовское воспитание, тем больше год от года дочь отделялась и отчуждалась от отца.
Прошлым летом из города Кыча вернулась совсем неузнаваемой: с отцом за всё лето ни полслова, только «да» или «нет». И дома – на сайылыке и на лугу в сенокос она только и крутилась среди молодёжи из прислуги и хамначчитов. Здесь она становилась весёлой, говорливой, заливалась песней. А в родной дом будто в неволю идёт. Странно даже, как это она согласилась приехать сюда, бросив свою желанную учёбу. Не иначе как Ыллам Ыстапан сумел уговорить её, пустив в ход какую-нибудь уловку…
С приездом Кычи старик Аргылов перебрался из чулана на большую половину дома, а мать с дочерью поселились вместе. В первую ночь через дощатую перегородку едва ли не до утра слышен был их горячий шёпот вперемежку с плачем. А за утренним чаем, не вдаваясь в объяснения причин, а попросту на правах отца и хозяина Аргылов строго запретил Кыче удаляться с усадьбы хотя бы на шаг.
Этот наказ отца Кыча выслушала молча: понимай как хочешь, то ли покорность, то ли протест. А поскольку скорее второе, чем первое, старик всей прислуге и хамначчитам строго-настрого приказал следить за дочерью во все глаза…
Так, в полубдении, в полусне, покачиваясь, вместе с санями с ухаба на ухаб, под мерный стук копыт и скрипение сбруи думал старик Аргылов то рассеянно обо всём сразу, то раздельно и нацеленно, но про что бы ни думал он, одна мысль не уходила из головы – Валерий… Загубили его, собаки! Как помочь ему, как помочь?! В Якутск поехать – сцапают самого. Послать кого-нибудь? Кого пошлёшь, не болвана же этого немого Суонду? Нет, на такие дела он не годится.
Аргылов понимал, что от беды, в какую попал сейчас его сын, вряд ли теперь уйти. Ни тот, кто с бубном, не спасёт, ни тот, кто с кадилом, не выручит. Тайного доверенного самого Пепеляева чекисты не пощадят, не помилуют! Да оно и без того давно и везде самой обычной мерой наказания стал расстрел: каждый старается опередить врага и каждый считает, что самый лучший враг – это мёртвый враг. Попадись какой-либо чекист в руки Валерия, уж наверняка рука бы не дрогнула. В чём сплоховал Валерий? Был неосторожен? Очень даже может быть. В последний раз он показался отцу чересчур возбуждённым и самонадеянным. Или продал его кто-нибудь из дружков? И так могло случиться… Настало время, когда одним глазом за врагом следи, другим – за другом. Сейчас многих потянуло в сторону красных. По настоянию какого-то Полянского стали они действовать способом увещевания, разъяснения да советов. И вот последствия – многие бедняки стали разбегаться из белых отрядов. Самого-то Полянского этого укокошили, правда, возле Хонхоики, да что толку? И какую штуку выкинул, вражий сын, думай – не придумаешь. Подскакал, рассказывают, к белому солдату и «сдавайся» говорит ему, мы, дескать, не расстреляем тебя. А тот не то сдуру, не то с испугу из-за пня бабах прямо в упор в него из ружья, тот с коня и свалился. Голодранца-якута, конечно, схватили и хотели прикончить, но этот Полянский тут и выкинул свою штуку: велел того накормить, дать табаку, провизии и отпустить домой. Пускай, дескать, на себе самом узнает, за что мы боремся, и расскажет об этом людям. Уму непостижимо! Умирает, вражий сын, а политику свою гнёт, широту души показывает! Да будь на его месте я… Полянский, как рассказывают, тут же испустил дух, а голодранец-якут, увидя это, заплакал навзрыд: «Расстреляйте меня!» Расстрелять-то его расстреляли, только свои же, белые. Пришёл он в свой белый отряд и стал рассказывать всё без утайки, как тот дурак, который, по поговорке, упав, забыл своё имя.








