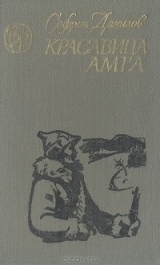
Текст книги "Красавица Амга"
Автор книги: С. Данилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
– Остановитесь! Выслушайте меня!
Пряча лицо в соболий ошейник, возница потянул вожжи к себе, а никем не управляемый конь пошёл обок дороги по целику, обошёл переднюю подводу, вывел сани опять на дорогу и, ударившись оглоблями в дерево, вдруг встал, вывернув сани поперёк. Задний конь не успел ни остановиться, ни отвернуться и грудью толкнул человека.
Только сейчас, упав поперёк саней, старик Чаачар вдруг признал возницу. Удивлённый, он некоторое время лежал без движения, стараясь откинуть наползшую на глаза шапку, затем, опираясь о передние вязки, медленно поднялся.
– А-а! Это ты, старик Митеряй! Ездишь с ними… Думал я, никто о двух ногах не сумеет отыскать, но ты не из таких, от тебя не спрячешь!
– Хватит болтать! Вот они велят-требуют, – Аргылов кивнул на своих спутников. – Я и сам вроде задержанного…
– Тебя задержали? Или ты стал красным? Почему-то я не знаю случая, чтобы волк превратился бы в лисицу-крестовку…
– Поди прочь! Я ничего не знаю и не решаю!
– Он ничего не знает! Наводит, чтобы ограбили, и «ничего не знает». Довольно ты меня, глупого, обманывал, теперь-то уже не обманешь!.. Народ весь от тебя отвернулся, остались у тебя одни бандиты!
– Проваливай!
– Не рычи-ка, лопнешь!
– Ну, с-собака! – Длинным толстым прутом Аргылов изо всей силы ударил старика по лицу. Ещё и ещё раз…
– Аа-ы-ы!..
Сзади подскочил Сарбалахов:..
– Митеряй, успокойся! Так нельзя…
– Я этого чёрного пса… я заставлю его замолчать!
Старик Чаачар вытирал окровавленное лицо шапкой.
– Всю жизнь, паук, тянул из меня соки! Мало тебе показалось, так теперь последнего коня отбираешь?
Аргылов отбросил прут и схватился за кобуру Сарбалахова.
– Дай! Пристрелю собаку, как собаку!
– Стреляй! – Чаачар подошёл вплотную и подставил грудь. – Стреляй, злодей! Не думаешь ли ты, что, убив меня, заживёшь, пуская в небо толстый синий дым? Врёшь, настанет и для тебя час расплаты! Да пусть твой дом родовой запустеет, да погаснет твой очаг!.. Пусть от жилища твоего не останется и пня, пусть имя твоё исчезнет без следа… и да будет так! Пусть я проклял тебя кровавым проклятьем!
Сарбалахов спихнул Чаачара с саней, направив коня Аргылова на дорогу, вытянул его кнутом вдоль спины и тут же сноровисто вскинул своё тело на сани.
Сзади, нагоняя их, нёсся отчаянный вопль старика:
– Проклинаю!.. Проклинаю!..
На большой дороге встретились с Харлампием, поджидавшим их.
– А этот конёк, если совладать с ним, резв на ногу! – с видом знатока оценил Харлампий коня Чаачара. Вдруг, словно полоща рот водой, он забулькал-засмеялся, показывая пальцем на молоденького солдата, с понурой головой сидевшего на санях. – Кого это вы взяли с собой: солдата или детёнка из зыбки? Спустить бы с него штаны, да голым задом на снег. Ха-ха-ха!..
Никто в его сторону даже не глянул. Сарбалахов подошёл к Аргылову:
– Ну, Митеряй, куда теперь двинемся?
Вобрав голову в плечи, Аргылов мрачно молчал. Сарбалахов деликатно кашлянул, и тогда Аргылов нехотя поднял на него глаза:
– Почему ты не дал мне пристрелить этого мерзавца?
– Приказ генерала! До поры до времени население не притеснять, не озлоблять, действовать уговорами.
– Значит, он волен изрыгать на меня всё, что заблагорассудится?
– Если бы мы пристрелили этого старика, то ославились бы. Узнай это генерал…
– А моё доброе имя? Этот чёрт сегодня же зальёт весь свет своими проклятиями! Это как? Вы это берёте в толк или нет?
Сарбалахов промолчал. Аргылов снизу вверх метнул на Сарбалахова злобный взгляд и махнул рукой вперёд. Через полкёса они выехали на чистую луговину, где на опушке леса притулилась избушка. Аргылов знаком показал: едем мимо! Скоро дорога свернула с луговины и привела их к большой елани.
– Что, заедем сюда? – с передних саней крикнул Харлампий.
– Заедем, заедем! – махнул Аргылов.
Сарбалахов пустил своего коня рядом.
– Митеряй, а здесь кто?
– Увидим, когда приедем… Давай быстрей! И без того запозднились.
– Разве ты не останешься поджидать нас?
– Чего ради, когда с твоей помощью раскрыт? Теперь уже нет смысла скрываться, теперь уже всё равно… Здесь живёт старик, сын его подался к красным. Посмотрим, что этот запоёт…
Глава девятнадцатая
Окна в закуте не было. Кычу бросили на дощатые нары, настеленные впритык к стене. В голове у неё было темней, чем в этой глухой норе: мысли её бились, как застигнутый в дупле горностай, ни просвета хоть с игольное ушко, ни искорки надежды. Раньше она думала, что ничего не может быть ужаснее смерти. Но оказалось, что нет беды большей, чем гибель мечты, и человек, хотя и бьётся сердце у него, хотя и не гаснет мысль, превращается в труп.
Здесь, в чёрной половине избы, царила гнетущая тишина. Люди притаились. Замолчал даже говорун Халытар, в обычное время тараторивший без умолку. Или его куда услали? Изредка шёпотом переговаривались женщины да время от времени из белой половины приходила вконец потерянная мать. Барабаня костяшками пальцев в дверь, она шептала:
– Птенчик мой, голубушка! Есть не хочешь ли? Говори же что-нибудь, миленькая…
Кыча не отвечала: что она могла сказать? Сказать, что не может есть? Мать расстроится пуще прежнего…
– Должно быть, спит, – шептала Ааныс батрачкам. – Проснётся, так дайте мне знать.
Судя по звяку посуды, настало время второго полдника. Обитатели чёрной половины чуть забылись и стали разговаривать полушёпотом. И опять лёгкий дробный стук в дверь:
– Голубушка, маленькая моя. Проснулась? Почему не отвечаешь? – Не дождавшись ответа, она вдруг закричала: – Что с тобой, доченька? Да там ли ты? Кы-ыча!
Хлопнула дверь в белой половине, донеслись голоса вошедших, и вскоре на двери чулана загремел замок, а на стену легла слабая полоса света.
– На вот, полюбуйся на своё «золотко»! – раздался голос отца. – Назло мне лежит уткнувшись в стену.
Ааныс припала к дочери мокрым лицом и, беспорядочно, куда попало целуя и нюхая, зашептала, обдавая дочь жарким дыханием.
– Птенчик мой, доченька, не ругай меня, старую. Сама видишь – ничего я сделать не в воле. Не отвернись от матери!
Превозмогая жалость к матери, Кыча молчала.
– Хватит лить слёзы! – Аргылов рывком поднял жену на ноги. – Ты хотела её накормить, так подавай же сюда! Нет у меня времени дожидаться!
Ааныс молча вышла и вскоре вернулась с едой.
– Свечу бы…
– Ещё чего?
– Забыла взять свечу… Темно же здесь, как она будет есть?
– Эй, кто там! – крикнул Аргылов. – Несите сюда жирник!
В тёмном чулане заплясал слабый красноватый свет, остро запахло прогорклым жиром.
– Доченька, поела бы ты, со вчерашнего дня ни маковой росинки… Вот сливки с земляникой. Летом ты сама собирала. Глотни чайку, пока не остыл… Любонька моя!
– Выходи, ну! Пусть не ест! Пусть умрёт с голоду! Вставай!
– Уйди, зверь!
– Ах, и ты туда же!
– До-чка… Оо-о! Горе мне…
Аргылов вытолкал жену из чулана, и опять загремел замок.
– Я вам ещё покажу! – долго грозился Аргылов, топая по избе.
Укрывшись одеялом с головой, Кыча захлебнулась слёзами. О, мама, бедная моя! Могу ли я тебя обвинять? Всю жизнь до старости провела ты в хлопотах ради счастья нас двоих, твоих детей. Всё хотелось тебе, чтобы выросли мы добрыми, чуткими, такими, какая ты у нас. Не оправдали мы твоих надежд. Но это не вина твоя, это беда твоя. Даже сейчас я доставляю тебе одно только горе. Отец хочет, чтобы я не смела поднять на него глаза. Но если упрям он, то упряма и я! И пусть будет так: рога на рога, копыта на копыта! Пока буду жива, не встану перед ним на колени, лучше умру, чем покорюсь!
Выгорев весь, с шипением погас жирник. Участился скрип наружных дверей в чёрной половине избы, загудело пламя в камельке, застучали крышки закипающих чайников, с шумом перетащили стол. «Жирник-то у меня, должно, стол перетаскивают поближе к камельку, – подумала Кыча. – Значит, уже вечер».
– Кыча… Голубушка!
Кыча не ответила. А вскоре опять загремел замок на дверях, и опять заплясали на стене зыбкие тени от пламени жирника.
– Доченька, ты же ничего не поела… Что с тобой? Голубушка, еда – тебе не враг.
– Иди-ка прочь! – опять войдя, оттолкнул жену Аргылов. Рывком за косы он приподнял голову дочери и ткнул ей в губы чашку с молоком: – На, пей! Пей, говорю!
Кыча изо всех сил сжала зубы, молоко пролилось на нары. Тогда Аргылов отбросил чашку, схватил Кычу за щёки и сжал их, силясь разжать ей зубы. Не добившись ничего и на этот раз, разъярённый старик куском жёсткой лепёшки принялся с силой шарпать её по губам и по деснам.
– Раскрой рот! Рот раскрой!
Увидев кровь на губах дочери, Ааныс повисла на руках мужа:
– Убил! Отпусти, зверь!
Аргылов словно куль отбросил дочь обратно на нары, а жену волоком вытащил из чулана, несмотря на её отчаянный крик.
Помнится, в детстве, если приснится дурной сон, Кыча забиралась к матери под одеяло. Там она чувствовала себя покойно, ограждённой от всех бед, и крепко засыпала. Но теперь, как видно, на неё такое надвинулось, от чего не избавит и материнская близость. Без сна этой ночью мучается наверняка и мать. Бедная моя мамочка!.. Она проплакала всю эту долгую, долгую ночь и под утро совсем обессилела. Казалось ей, что люди уходят из жизни вот так…
А наутро опять всё то же:
– О, голубушка! О, пташечка моя! Почему к еде не притронулась? – Несчастная мать опять упала на колени. – Почему ты даже горла не промочишь? Солнышко моё, ну вымолви хоть словечко! О, все, кто там есть: добрые ли духи, злые ли. Почему не различаете, кто бел, а кто чёрен? Почему? Беда – вот она нагрянула! Горе горькое – вот оно надвинулось! – И вдруг вскочила на ноги: – Чего ты встал там как пригвождённый? – крикнула она мужу. – Что натворил? И кто тебе, извергу, только отомстит!
– Замолчи!
– Молчала я, и вот себе намолчала! Любуйся, чего добился: родное дитя при смерти… Ох, горько мне! Ну, смотри же, изверг, я теперь ни перед чем не остановлюсь. Ни перед богом, ни перед людьми никогда не грешила, а вот согрешу… Я бы убила тебя, если б могла! А нет – так себя убью. Ходи тогда по миру, скрючившись, один да вой на луну, как пёс. Пусть тоска и злость сожрут твою печёнку!
Кыча ушам своим не поверила: это ли говорит отцу её робкая забитая мать, вдвойне и втройне батрачка его и раба? У неё и слов-то таких не было.
Аргылов сделал два-три шага назад, пятясь, как от наваждения, затем повернулся и хлопнул дверью.
В тот день дверь чулана он оставил незапертой.
Ааныс приготовила гору всякой еды и долго ещё молила Кычу что-нибудь съесть, но та лишь молча отворачивалась. Ни крошки еды и ни капли воды. Пока её не выпустят из этого заточения – она не отступится… Сколько она ещё выдержит, лёжа вот так? Надо выдержать…
Назавтра Кыча перестала чувствовать голод, силы её вовсе покинули, безразличие ко всему овладело ею. Ей самой трудно стало определить: спит ли она или бодрствует, она перестала понимать, где она и что с нею. Внешний мир стал расплывчат, голоса людей и другие звуки доходили до неё словно из-под воды. «Что это со мной? Неужели я умираю?» Но эта мысль была неопределённой и не вызвала ни сожаления, ни испуга, ни других чувств, будто не с нею всё это происходило. Что-то творилось там, в чужом ей мире, какие-то кипели страсти, а что они такое – ей было уже всё равно.
– Быстрей, быстрей! Шамана или знахаря! Скорей!.. Не видишь разве – совсем угасает дочь! Чего стоишь?.. Я спрашиваю: чего ты стоишь как истукан?
Аргылов не привёз ни шамана, ни знахаря, зато вечером в клетушке появился Суонда. Он бережно взял Кычу на руки вместе со всей постелью и вынес её на господскую половину. «Выдержала!» – слабо подумалось ей. Не испытав торжества, она опять впала в забытье.
Долго, не долго ли была она в таком состоянии, когда, очнувшись, увидела растерянного Суонду. Тот горой высился посреди комнаты. Потом она почувствовала, как кто-то раскрыл её занемелые губы и влил ей в рот что-то густое, и она сделала глоток.
– Доченька, ну ещё! Глотни-ка… Пожалей хоть меня, горемычную… Комочек сердца моего, отрада моя. А теперь вот этого! Ещё глоточек. Ещё…
Легли они вместе. Как в детстве, Кыча уткнулась головой в тёплый материнский бок и, вдыхая родной полузабытый запах, уснула живительным сном.
Во сне она увидела красноармейца, которого они отвезли тогда с Суондой в домик Собосута.
«Как рана?..» – спросила Кыча.
«Ты ведь её вылечила!» – улыбнулся ей парень.
«Разве тебя не схватили белые»?
«Ты же видишь!»
Испуг, который охватил Кычу, быстро прошёл: конечно же, что они могут с ним сделать? Не под силу им.
И вдруг рядом с красноармейцем возник Томмот.
«Вы что, знакомы?» – удивилась она.
«Конечно, мы друзья!» – ответили они вместе.
И русский парень протянул ей целую охапку цветов.
«Это тебе от нас обоих».
«Почему один букет от обоих?» – рассмеялась Кыча.
«А мы тебя любим оба, поэтому и дарим один букет. И ты нас люби обоих».
«Ладно, я люблю вас обоих…»
И тут Томмот поднёс ей другой букет. И закрытые цветы, когда Кыча протянула руку, чтобы взять их, распустились, и букет стал вдвое больше.
«Это тебе от наших ребят».
«Я им всё рассказал, ты просила меня. Помнишь, Кыча?» – сказал русский парень.
«Ну, идём», – сказал Томмот, протягивая руку.
«Пошли», – красноармеец тоже подал ей свою ладонь.
«Куда?» – спросила Кыча.
«Туда, далеко-далеко», – показал вперёд рукой красноармеец.
«Идёмте!» – Кыча ликующе рассмеялась и вложила свои ладони в крепкие ладони парней.
Втроём, со сплетёнными руками, они поплыли по цветущему лугу навстречу ослепительно разгорающемуся золотому солнцу.
И Кыча различала все краски сияющего мира.
На исходе ночи, когда в окна ещё не успел пробиться серый свет, Кыча проснулась с улыбкой и так, продолжая улыбаться, долго лежала, сладко растревоженная своим сном. Близко, за стеной, заскрежетал зубами отец, и Кыча сжала руками вдруг заломившую голову. Сон её отлетел, как пугливый тугут.
За стеной, кряхтя, уже поднялся отец, и наяву осталась лишь голая правда – холод, тьма и жестокость. Вот она вырвалась из заточения… Из темноты закута в светлую комнату с мягкой постелью. Из одной клетки в другую…
Долго отец кряхтел, надевая торбаса, долго хлюпал, затем отдувался, – чай, значит, пьёт. Шубой зашуршал… С рассвета уже собрался куда-то… Нет, эта жизнь не переменится никогда! А если в другую жизнь не вырваться, то стоит ли жить?
Аргылов и вправду снарядился уже в слободу за новостями, как вдруг снаружи ввалился ошалевший Суонда. Задыхаясь и выпучив глаза, он затоптался на месте, что-то по-своему невнятно мыча.
– Чего ты? Лешак тебя напугал? – насторожился хозяин.
– Ко-о-бы… – выдавил из себя Суонда и махнул рукой за дом в сторону скотного база.
– Кобыла? И что с кобылой? Да разродись ты хоть словом каким, образина!
Выйдя во двор, Аргылов кинулся за сеновал, к небольшому выгону, где содержалась яловая кобыла, которую он откармливал около трёх лет. Во времена ревкома эту кобылу он прятал у надёжного человека в соседнем улусе, к себе же привёл её несколько суток назад. Попозже, когда страсти поулягутся и наедет высшее белое начальство, он рассчитывал забить кобылу на мясо. За сеновалом старик остановился, будто его толкнули в грудь: серая кобыла лежала посреди выгона, вскинув копыта вверх.
– Что это… нохо?
– И… из… дох…
– Сдох бы ты сам!
Аргылов перелез через изгородь. Ногами и – вот странно! – даже головой кобыла запуталась в длинной верёвке из сыромятной кожи. Старик попытался было распутать верёвку, но ни конца, ни начала в этой путанице нельзя было отыскать, и тогда, вырвав нож из-за голенища, Аргылов в несколько взмахов разрезал верёвку. Глухо, как полено, стукнув о смежный наст стылыми ногами, труп кобылы свалился на бок.
– Нохо, это ты оставил здесь верёвку?
Суонда отрицательно затряс головой.
– Как же тогда верёвка оказалась здесь и опутала ноги кобыле?
Но Суонда, удивлённый не меньше хозяина, лишь бессмысленно таращил глаза.
– Куда вчера положил верёвку?
Суонда показал рукой на сеновал.
Аргылов осмотрелся. Под утро выпала пороша, и по ней чётко обозначились только отпечатки их с Суондой ног. Других следов не было видно.
– Ну, хватит мычать! Пошевеливайся, не пропадать же добру…
Прислужники, и стар, и млад, высыпали все и, как показалось Аргылову, с радостным рвением кинулись хлопотать над павшей кобылой. Да превратись всё его богатство в дым, они не огорчатся!
Аргылов прошёлся по ближайшим дорогам, но вернулся ни с чем: ничего подозрительного он не обнаружил.
Старик Митеряй присел на сани, уже запряжённые и снаряжённые в слободу, и задумался. Если бы верёвка и лежала на выгоне, то сама так запутаться кобыла не могла. К тому же Суонда, даром лишь с виду болван, а в деле отменно аккуратен, ни за что он не бросил бы куда попало верёвку. Тогда получается, что это козни… Чьи?
Подумав о злых духах преисподней – абаасах, старик Аргылов сейчас же эту мысль отмёл как сор. В молодости он, правда, верил в чертей и духов, но сейчас – ни-ни! Если бы они были, то уже давно бы не сносить ему головы. Немало бедняков превратил он в нищих и раньше времени свёл в могилу, но если станешь жалеть каждого да сочувствовать всем беднякам и неудачникам, разве разбогатеешь? Скорей всего сам пойдёшь по миру. Нет, человек, идущий к богатству, должен иметь трезвый разум и холодную кровь.
К павшей кобыле, конечно же, абаасы никакого причастия не имели: это злодейство земного зверя о двух ногах. Но кто бы мог это быть? Старик перебрал в уме всех ближних соседей, и выходило, что любой из них на это был способен. Ах, как же проклинали его, когда ездил он с Сарбалаховым собирать лошадей.
Ехать в слободу он раздумал: если про Бэлерия появятся благоприятные вести, то «братья» сами прибегут, а за плохими вестями спешить нечего. Старик надумал поездить в черте наслега: навестить знакомых, погостить кое у кого и постараться что-нибудь выведать. Решив так, Аргылов тронул коня и направил его в сторону южной елани.
Морозы чуть убавили в силе, длиннее стал световой день, и стало заметнее, что зима свернула уже на весну.
Котёл мёрзлого мяса уварился бы – столько времени прошло, когда в редколесье перед Аргыловым открылась усадьба, по всему видать, состоятельного хозяина; выгоны были просторны, к добротному дому плотно приткнулся вместительный хотон. Здесь жил с семьёй Байбал Банча, в прошлом подручный у Аргылова, когда тот вёл торговлю среди восточных тунгусов. Но в последние несколько лет Банча завёл собственное дело, закупал товары уже на свои деньги, прибыль стал класть в свой карман и с этого времени пошёл в гору. Войны для него будто и не было: и скота прибавилось, и мошна растёт, даже строиться начал. Из всех передряг он выходил целёхоньким: красные его не трогали, потому что он бедняцкого происхождения, а белые тоже считали за своего – как-никак человек зажиточный.
Если бы Банче в своё время не перепадало кое-что от торговых дел Аргылова, он не пошёл бы так далеко, не слишком бы теперь отличался от нынешних беспортошных батраков. Всё это он понимал и всегда встречал Аргылова с неизменным радушием и по-прежнему склонялся перед ним. Не далее как неделю с лишним назад заезжал он к Аргылову в гости, в виде гостинца привёз медвежий бок, сало – в ладонь толщиной.
Ещё издали Аргылов увидел Банчу возле дома, тот железным скребком чистил коня. Аргылов подъехал, привязал повод к коновязи, но хозяин его почему-то не замечал. Старательно приподнимаясь на носки, тот продолжал чистить спину коня.
– Байбал, здорово!
– Здорово…
Теперь, преувеличенно кряхтя от натуги, Банча стал отдирать ледяные сосульки, намёрзшие на ногах коня.
– Догор, я ведь поздоровался…
Банча медленно поднялся на ноги и только потом взглянул на гостя:
– А что?
– Я поздоровался, кажись.
– Я тоже вроде ответил, – только и обронил Банча.
Аргылова ошарашил такой приём: и лица не хочет показать, всё поворачивается спиной. У Аргылова от возмущения аж в животе закипело, но он сдержался. А Банча между тем принялся чистить ещё и ноздри коня.
– Расскажи-ка, Байбал, какие новости.
– Рассказать не о чем.
Ответ – пощёчина. Банча не удостоил гостя даже обычного в таких случаях ответа: «Расскажите вы».
– Благополучно ли пребываете?
– Слава богу…
Не зная, как продолжать разговор, Аргылов потоптался на месте. Этого Банчу при сборе лошадей Аргылов объехал, а тот на его услугу вон как отвечает!
– А как, Байбал, обстоят у тебя дела со скотом-живностью?
– С божьей помощью.
– Хе, бога приплел! Или зло сотворил? Кто кается, тот и грешник…
– Нет у меня такого! Не помню, чтобы обидел кого-нибудь. Были ошибки в торговых делах, только этим не заслужил кары.
«А я какой? – чуть было не вырвалось у Аргылова. Каждое слово Банчи – жало. – Ишь ты, святой, а во мне так собралось всё зло, что только есть на белом свете. Подумать только – какие обвинения смеет тыкать мне в лицо этот вчерашний голодранец! Ха, ошибки, говорит. Только в торговых делах… Порыться-поискать хорошенько, так и у тебя найдутся грешки!» (Взвинченный Аргылов не мог устоять на месте и всё крутился. Наконец, не попрощавшись, Аргылов уже шагнул было прочь, да вдруг остановился. Постояв, он подошёл к Банче вплотную, лицо к лицу:
– Банча, – он назвал его так, как в былые годы, когда тот был у него работником. – Говори прямо: что случилось? Почему избегаешь меня? Не ври! – заранее пресёк его Аргылов. – Я вижу всё!
Боясь посторонних ушей, Банча огляделся.
– Митеряй, – с трудом произнёс он имя бывшего хозяина. – Кажется, ничто на свете не проходит без возмездия. За всё платим.
– Платим? А кто с меня спросит расплаты? Ревкомовцы?
– Народ…
– Кто такие «народ»? Не эти ли нищие кумаланы да бродяги, которым нечего пожрать перед сном?
– Ненависть народа…
– Вот этот твой народ не позже следующего лета будет ползать у моих ног – сам увидишь! Они будут выпрашивать у меня фунт муки, аршин ситца, щепотку табаку. На этом свете прав тот, кто имеет деньги и силу! Будет мой верх, и этот «народ» твой, как бы ни сильно желал сожрать меня, и не пикнет. Как вол в ярме, пойдёт туда, куда я его погоню. Пойми ты, утиное сердце!
– Почтенный Митеряй, я желаю тебе добра, только потому и говорю…
– Да не режь ты меня тупым ножом! Говори!
– Митеряй, а что, если до поры до времени ты переедешь с семьёй в слободу? Там стоят войска, есть защита.
– Для чего это я перееду, если проживаю в собственном доме, сижу на собственной земле?
– Беда может случиться…
– Какая? Кто меня ввергнет в беду?
– Не знаю…
– Врёшь – знаешь! – Аргылов схватил Банчу за грудки. – Может, по себе судишь, что я такой же трус, как ты? Не испугают они меня! Говори: кто?
– Не знаю! Вот ей-богу…
– Банча, никто не узнает. Говори!
– Не знаю! Не хочу ни на кого показывать, хочу дожить до завтра.
– Будешь хорониться по углам – и до завтра не доживёшь. А ты ведь хочешь пережить меня, целым выйти? Ну, упаду я вниз лицом, но и ты не взлетишь белой птицей!
– Может, это и так, но я…
Аргылов только сейчас опомнился и расцепил на груди Банчи сведённые судорогой руки: если он оттолкнёт от себя даже таких, как Банча, с кем же тогда он останется?
– Не обижайся, что вспылил, хожу сам не свой… Говорят, у потерявшего – сто грехов…
– Что за потеря? – с искренним участием спросил Банча, довольный тем, что старик умерил ярость и переменил разговор.
– Ты видел мою нагульную кобылу? Так она ночью пала. Думаю, что это подстроено. Может, ты что слыхал или подозревать можешь?
– Тыый! – изумился Банча. – Я ничего не знаю…
Аргылов пристально вгляделся в лицо Банчи: сколько ни вытряхивай из него – ничего не скажет!
– Байбал, я тебя считал близким человеком, почти сыном. Ошибся… Но ты меня за дурака не принимай – всё вижу насквозь! Ты что-то знаешь. Ну что ж, и без твоей помощи обойдусь.
– Митеряй! Зла на меня не держи. Тебе же самому желаю добра: не ожесточал бы ты против себя улусников.
– Не мели пустое!
– Дело твоё. Я своё сказал. Что делать, не могу оказать тебе помощь. Впредь ты бы обходил меня…
– Уж не прогоняешь ли?
– Не враг я себе… Народ говорит…
– Я плюю на твой народ! – Аргылов пошёл к саням, но на полпути опять обернулся. – Нохо, Банча, не думай, что солнце Аргылова закатилось. Солнце моё взойдёт! Да ещё как взойдёт – незакатно! И тогда я тебе припомню сегодняшние твои речи. Я тебя предупредил!
Пушенный с места в намет конь Аргылова пошёл вымахивать по дороге, иногда сбиваясь на целик, и вскоре сани нырнули за мысок. Когда гость скрылся, Банча облегчённо перекрестился.
«Дрянь эдакая, – негодовал про себя Аргылов, нахлёстывая лошадь. – Видно, нора его сплошь залита. Ишь, как настороженно оглядывается, разговаривая со мной. Э, чертяка, он всегда был трусоват! Чуть поднимешь голос, он уже дрожмя дрожит. Дурак, это он-то не хочет знаться со мной. Погоди уж, дрянь! Укажу я «братьям» дорогу к твоему дому!»
Через тёмный лес, у опушки небольшой поляны, приткнувшейся к речке, дорога резко взяла на юг. Полянка эта была давнишним обиталищем многодетного бедняка Окейо, с молодых лет изнурённого чахоткой. Окейо ещё сызмальства батрачил у слободских пашенных. В последние годы, как говорили, болезнь у него обострилась: едва ноги таскал, да и то лишь в пределах своего двора. Ревкомовцы, властвуя, распорядились выдать Окейо дойную корову с телёнком – из хозяйства купца, на которого тот когда-то батрачил. Интересно, чем же он кормит такую прорву детей? Или корову ту забили?
Чуть было не проскочив поляну, Аргылов приостановил коня: не мешает всё-таки заехать к Окейо, он из тех, о ком говорят «окно земли». Хоть почти и не высовывает носа за порог, а наверняка наслышан, что происходит в околье.
Аргылов развернул коня и направил на боковую тропку – к жилью Окейо. Подъезжая, он обнаружил крохотный, но ухоженный хотон с маленьким сеновалом, значит, корову не забили. Чем же они питаются?
Хозяин избёнки с ледяным окном и полом из тонких листвяшек сидел перед догорающим камельком и чинил куюр.
Аргылов здесь не бывал: избёнка ох и тесна, нора, да и только! Дышать нечем, хоть кроме стола о трёх ножках, скособочившегося возле нар, ничего не видать. На нарах в куче тряпья маячили три-четыре детские головёнки. На левой половине надрывалась в кашле старуха. Кто же это? Ведь жена Окейо умерла от чахотки ещё прошлой весной. Должно быть, мать хозяина…
– Кирилэ, дорообо.
Окейо удивлённо заглянул в лицо гостя и недоверчиво ответил:
– До… рообо… – Хозяин вытащил изо рта пучок ссученных конских волос – И правда: когда-то я был наречён русским именем Кирилэ – вроде человека… Сызмалу привык к прозвищу да позабыл своё имя. Окейо да Окейо… Спасибо, ревкомовцы помогли вспомнить… Подумал, заехал кто-то из них, ан, оказывается, это ты, Митеряй. Помнится, прежде ты считал за грех переступить мой порог. Должно, наступают времена исполнения последней тысячи, даже меня называют хорошим именем – Кирилэ.
Аргылов сделал вид, будто бы не понял иронии старика. «Пусть себе поболтает напоследок. Видать, всё равно ему не дожить до весны. Что толку спорить с таким?»
Шаркая друг о дружку старыми изношенными торбасами, подошла и протянула сморщенную ладошку старуха в низко повязанном выцветшем платке из сарпинки.
– Добрый человек, не найдётся ли щепотка табаку?
– Нет, бабушка, я не курю.
– Одурела, что ли, старуха? – Окейо покосился на мать. – Знаешь ли, у кого просишь? У этого «доброго» среди зимы не выпросишь и горсточку снега…
Старуха близоруко из-под ладони глянула на гостя и прошаркала назад.
«Ничего путного не расскажет, напрасно заехал», – с сожалением подумал Аргылов. Однако неловко показалось ему просто встать и уехать – можно подумать, что он заробел перед Окейо.
– Кирилэ, хоть ты и сказал про меня недобрые слова, только, помнится мне, не было случая, когда бы мы переходили друг перед дружкой дорогу.
Окейо не так, как следует, завязал петлю, осердясь, бросил куюр на пол и вдруг зашёлся в долгом приступе кашля. Переведя дух наконец, он рукавом отёр пот с лица и сурово взглянул на гостя.
– Слыхал я, что третьего лета на дележе покосов ты сказал про нас: «Нет погибели на этого Окейо – всё живёт ещё, плодится и гадит землю. Ещё и надел ему подавай! Им за глаза и двух аршин хватит!» Заехал глянуть, исполнилось ли твоё слово?
– Что ты, Кирилэ, грех так говорить…
– Про грех заговорил! На днях ищейкой у «братьев» обобрал всех людей – это ли не грех!
– Кирилэ, погоди! Язык у людей без костей…
Но тот кинулся к запечью, приволок и бросил перед Аргыловым старый берестяной тымтай. На пол хлынул поток озёрного гольяна вперемешку с тиной, лягушками и водяными жуками.
– Моя вчерашняя добыча. Может, заберёшь и угостишь своих «братьев»?
Раскосмаченный, распахнув на груди ветхую жилетку с подбоем из облезшего меха, так, что открылись выпирающие острые ключицы, с глубоко запавшими глазами, Окейо был жалок и грозен.
– Бери, господин мой, не жалко. Доброе озеро наше не даст пропасть с голоду. Озеро наше хоть и бедное, но щедрее тебя.
– Кирилэ! Смотри, ты не очень… – Аргылов поддал тымтай ногой. – Не рассчитываешь ли, что опять вернутся твои ревкомовцы?
– Мне уже всё равно, я на свете не жилец. Да и твой век не долог, народ с тебя взыщет! И при белых взыщет!
– Я тебя, языкастого, прикончу!
Аргылов толкнул старика в грудь. Пошатнувшись и падая, тот успел опереться рукой о шесток печи.
– Только меня-то, пожалуй, и подомнёшь под себя! На мне и кончилась твоя власть.
– Истопчу подлеца!
Взбешенный Аргылов уже шагнул с этой угрозой, но старик вдруг схватил попавший под руку топор:
– А ну, подойди!
Глава двадцатая
Набросив поводья на крюк седельной луки, Чычахов дал волю коню. Близился рассвет. Пластал густой, мягкий, как пух, снег.
Этот медленный, торжественный снегопад напомнил Томмоту детство: радуясь снегу, носились взапуски вокруг двора, падали – «куча мала!» – вповалку друг на друга, зарывались в сугробы…
Впереди него, весь с конём вместе запорошенный снегом, ехал Валерий Аргылов. Он тоже, как видно, испытывал чувство раскованности и светлого умиротворения. Валерий то и дело взмахивал кнутом, но конь, понимая настроение хозяина, лишь на короткое время переходил на хлынь и тут же опять сбивался на шаг.
«Осокай! Эсекэй!» – запел Валерий.
А снег всё валил. Ах, отрада души – снегопад! А для беглецов он ещё и укрытие: не остаётся следов позади, звуки все тонут, как в вате, за десять сажен тебя не разглядеть. Чуя благодушие седока, конь под Валерием шёл-шёл неторопким шагом – да вовсе стал. Подъехал Томмот.
– Ты чего? – спросил он.
Вместо ответа Валерий широко раскинул руки и показал вокруг. А вокруг умиротворённо дремали лиственницы, отороченные белым пухом. Стояла такая тишь, что, казалось, слышно было шуршание падающего снега. Томмот, как в детстве бывало, подставил ладонь: не тайте, звёздочки-снежинки, блесните мне на счастье… Хоть и наивное это поверье, но оттого-то, может быть, и милосердцу: если счастье в будущем тебя обойдёт, то снежинки гаснут на ладони, а коли счастлив будешь – они сверкают. Так сверкните же, сверкните, на счастье!








