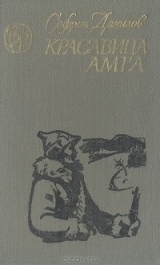
Текст книги "Красавица Амга"
Автор книги: С. Данилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
– Сани малынкай, ты больсой…
– Слушай, парень, – осенило Соболева. – Ты не мог бы попросить у них, – махнул он в сторону жилья, – второго коня?
– Это мосна! – не переставая улыбаться, отозвался кучер. – Ладына, я – чичас! Я быыстара-быыстара!
– А я тебя подожду вон там за мысом. Там ветра поменьше…
– Ладно, хоросо! Я барда…
Харитон соскочил с саней и, оборачиваясь время от времени, припустился бегом к виднеющемуся невдалеке дому.
Дождавшись, когда кучер добежал до середины аласа, Соболев взял вожжи и стегнул коня. Конь, не успевший ещё устать, пошёл резвой рысью. Соболев ни разу не оглянулся. Он был устремлён только вперёд, ибо на всём, что оставалось у него за плечами, пусть хоть минуту назад, он уже поставил крест. Проскакав лесом версты две, он придержал разгорячённого коня: стоп, развилка… Соболев решительно завернул коня налево, и через несколько минут наезженный тракт скрылся за деревьями. Соболев вздохнул: всё, вырвался! Прежнего Соболева, сотрудника Якутского облвоенкомата и красного командира – этого Соболева больше нет! Начинается с этой поры штабс-капитан Соболев!
Короткий зимний день пролетел – то ли был, то ли не было его. Надвигались сумерки. Соболев ехал уже часа полтора, но почтового тракта всё ещё не было, хотя давно пора бы ему появиться, если обходная дорога, как говорил тот лучезарный дурак, должна вывести на главную. Что бы это могло означать? Дорога часто ветвилась, и каждый раз Соболев выбирал наезженную и широкую колею. Может, где-то он дал маху? Может, от почтового тракта он где-то свернул раньше? Хоть и грызли сомнения, Соболев всё же не осмелился повернуть назад. Его безостановочно гнала вперёд надежда, что тракт обнаружится вот-вот. Но большой дороги всё не было. Соболев испуганно поднял глаза на потемневшее небо с редкими звёздами и понял, что заблудился. Он едет не на северо-восток, как полагалось, а прямо на север. Как же быть? Ехать ли дальше вперёд или повернуть назад? Все-таки лучше проехать вперёд. Ещё немного вперёд…
Сумерки густели от минуты к минуте. Ещё полчаса, и ночь!
Конь опять вынес его на алас. По аласу бугрились огромные в сумерках стога сена. Значит, где-то близко живут люди. Соболев утишил бег коня, а вскоре и сам конь остановился, уткнувшись в городьбу вокруг стога сена: дорога тут кончалась…
Взъярившись, но сейчас взяв себя в шоры, Соболев повернул обратно. Чёрт побери! Сколько времени потеряно зря! Да и конь заметно устал… Надо спешить!
Тот кривозубый наверняка уже поднял тревогу, но дозорный пост их остался далеко, вряд ли догадаются они пуститься в такую даль. Как же всё-таки выбраться на большую дорогу? Надо, видимо, держаться тех дорог, которые идут на юг. Спустился вечер, стало почти совсем темно, а Соболев всё не давал передышки коню. Дорога продолжала дробиться на тропки, а раза два ему пришлось возвращаться вспять, потому что облюбованная им колея, казалось, заворачивала совсем не туда, куда он стремился. Время шло, тьма сгущалась, а дорога наконец, совсем исчезла из глаз. Подобралась ночь, небо стало падать на землю, а затем как-то разом наступила такая кромешная тьма, что не стало ни неба, ни земли, всё слилось: на земле ни искорки, на небе ни звёздочки. В сплошной темноте Соболев стал уже терять всякое представление и о времени и о пространстве. Он ехал то вперёд, то, усомнившись, возвращался и, проехав так немного, сворачивал ещё куда-нибудь вбок. В этом кружении он давно уже потерял, где восток, где запад, но с отчаянным упрямством всё куда-то пробивался, надеясь, что когда-нибудь выйдет на большой тракт. Так он бесконечно ехал, ехал и ехал…
Было глубоко за полночь. Выбившись из сил, лошадь перестала слушаться вожжей, и не помогал даже кнут. Соболев уже совсем потерял всякую надежду, когда едва трусящая лошадь и вовсе остановилась.
Привстав, чтобы хлестнуть коня, Соболев с удивлением увидел перед собой неясное очертание подворья с хозяйственными постройками, а рядом маленькую избёнку. Его окатила волна радости. Пусть неясно ещё, что за люди живут здесь, а всё же люди. Держа наготове пистолет, Соболев осторожно обошёл подворье. На выгоне для скота стояла одна лошадь, признаков военных не видать.
Соболев постучался в дверь. Ответа не последовало, тогда он дёрнул дверь на себя – она оказалась незапертой, – и на него изнутри пахнуло застоявшимся теплом.
– Есть кто-нибудь? – непослушными от мороза губами едва проговорил он. – Кто бар?
– Бар… Бар… – из темноты отозвался старческий голос.
– Кто там? Ким бар?
– Мин… мин…
Подойдя к камельку, невидимый пока хозяин выворотил деревянным ожигом россыпь ещё тлеющих угольков и, наклонившись над шестком, принялся раздувать их. Как бы нехотя вспыхнул огонь и выхватил из темноты длинные свалявшиеся волосы, жидкую бородёнку и костлявое измождённое лицо старика в исподнем бельё. Сухие поленья быстро разгорелись, стало заметно светлее.
– Кто такой будешь? – спросил по-якутски старик, пододвинув в огонь закоптелый чайник, и, стоя в тени, из-под руки, как при солнце, глянул на ночного гостя. Кожа да кости, одежонка на старике висела как на шесте.
– Я… мин… – смешался Соболев и неожиданно для себя самого выпалил: – Мин фамилия – Соболев. Соболев я.
«Почему это я не скрыл свою фамилию? – изумился он. – Впрочем, какая теперь разница!»
– Кыраснай? Белэй?
– Что? – переспросил Соболев и огляделся.
Избёнка была тесной, не жильё, а конура. Стены из грубо отёсанных и вертикально поставленных тонких лесин были черны, углы закуржавели, в узеньких, как бойницы, оконцах вместо стёкол – пластины озёрного льда. Пол земляной, кособокий треногий стол, чурки вместо стульев. В стене за камельком чернел вход в хотон. Оттуда густой волной несло духом навозной жижи. Берлога… Как можно жить в таком ужасе?
– Я красный командир… – запоздало ответил Соболев.
– Кыраснай… Хамандыр? – старик подошёл вплотную к гостю, продолжая вглядываться в него, и тут увидел звезду у него на шапке. – Э-э! Чахчы кыраснай! Тут – сулус! Сулус кыраснай, да! – старик осторожно дотронулся до звезды на шапке и весь расплылся в улыбке. – Пасиба! Улахан пасиба!
– Да-да, я красный… – растерянно повторил Соболев, не понимая, за что благодарит его старик.
– Табаарыс… чай, чай! – стал показывать старик в сторону зашипевшего чайника… – Садыыс…
– Нет, нет. Мин барда…
– Холадына… Чай, чай… Лепески бар.
– Нет, нет. Мин – быстро… Мне надо, как это… ат! А ты проводишь до дороги… Мне ат, ат надо! – Соболев пальцами изобразил бегущего коня и ткнул пальцем старика в грудь. – А ты делай вот так! Эн… – он показал, как правят конём.
– Ладно, сеп! – старик поскрёб в затылке. – Ему нужен конь, как я понял, – сказал он, обернувшись. – Просит меня в проводники. Заблудился… Старуха, я провожу этого человека и сразу вернусь.
– Поезжай… – из-за ситцевой занавески отозвалась старуха. – На большую дорогу не выезжай. Не хочет ли гость поесть?
Теперь из-за занавески появилась и сама хозяйка в надвинутом на глаза платке. Она разлила по чашкам чай, поставила жестяную тарелочку с кусками лепёшки.
– Садыыс, табаарыс. Чай нада, – пригласила она к столу.
– Спасибо!
Застывшими пальцами Соболев осторожно взял чашку, но не донёс до рта, не в силах справиться с отвращением к этой посудине со щербатыми краями, во многих местах по трещинам перехваченной тесемочками из замши. В нос ударил кислый запах, напоминающий запах тальникового отвара или жидкой смолы, но только не аромат чая. Отвращение пересилило жажду, и Соболев для виду поднёс стакан к губам, изобразив, будто отпил глоток. В последние шесть-семь лет Соболев через всё прошёл. Теперь он умеет, где и когда бы ни пришлось, упасть прямо на землю и уснуть, завернувшись в шинель. Может легко прожить несколько суток без маковой росинки во рту, переносить страшные якутские морозы. Но к грязи он так и не привык, хотя и понимал, что в таких условиях быть брезгливым по крайней мере непрактично. Недаром в своё время товарищи подтрунивали над ним: не офицер, а барышня… Э, да ну его, чай этот!
Искоса наблюдая за стариком, спешно собирающимся в дорогу, Соболев успокоился и, чтобы утвердить его в доверии к себе, спросил:
– Эн… фамилия как?
– Мамылия? Мин… – не понял вопроса старик.
– Ты… Как имя? Как это сказать?.. А, вспомнил: аат, аат как?
– А, мин… Тытыгынай! Огонер Тытыгынай.
– Значит, дедушка Тытыгынай. Хорошо. Только быстро! Быстро!
Забывшись, Соболев сделал несколько глотков из чашки и со стуком поставил её на стол. Увидев это, Тытыгынай заторопился ещё больше.
– Я чичас, чичас…
Одевшись, сбегав наружу и опять вернувшись, старик с готовностью доложил, мешая русские слова с якутскими:
– Товарищ, я запряг лошадь. Твой конь останется здесь. Он совсем выбился из сил…
– Да-да… Хорошо, молодец!.. – задремав в тепле и не расслышав толком, что сказал ему старик, воскликнул наугад Соболев.
Они вышли. Темень стояла по-прежнему беспросветная.
Выехали на противоположную сторону елани, впереди смутно вырисовывалась развилка дорог, и Тытыгынай стал заворачивать коня вправо, на дорогу, ведущую на запад.
Соболев схватил старика за руки и показал знаками, что надо свернуть налево.
– Того? – удивился Тытыгынай и повернулся к Соболеву. – Красный суда – пирямо…
– Туда надо… – Соболев продолжал настойчиво показывать на восток. – Я… мин, тракт надо… Большой тракт, улахан…
– Там белэй многа… – Изображая, как там много белых, старик растопырил пальцы обеих рук и потряс ими перед собой.
– Говорю, на тракт надо!.. – Соболев вытащил из кармана пистолет и показал его старику, давая понять, что он вооружён и белых не боится.
Старик молча отвернулся и послал коня через целик влево.
– Хорошо, дедушка! А теперь быстрей, быстрей! Ючугяй!
«У-фф! Кажется, уговорил. Не столько словами, сколько пистолетом, впрочем…» – Соболев усмехнулся.
Ехали долго. Убаюканный покачиванием саней и монотонным пением полозьев, Соболев задремал на мягкой подстилке из сена. Подёрнулись дымкой, затем, отделившись от земли, стали куда-то в сторону уплывать придорожные деревья, потом его укрыло что-то бесформенное, мягкое и увлекло в пустоту…
На крутом повороте сани ударились о дерево, и этот резкий толчок разбудил Соболева. Он продрог, отлежал шею. Кажется, он проспал долго, хотя сколько, определить не смог – как на грех, забыл завести часы. Соболев осмотрелся: ехали по прежней узенькой дороге, по лесу. Может, старик побоялся выехать на тракт и везёт его окольно?
– Эй! Куда барда?
– Онно, – возница махнул рукой вперёд.
– Где тракт? – с подозрением спросил Соболев.
– Онно, – опять махнул старик.
– Тьфу! – Соболев, озлобясь, выругался: – Идиот!
Он сжал в кармане рубчатую рукоятку пистолета, но тут же отпустил её и, не вынимая руки из кармана, подтянул полу шубы. Проделав в подкладке дырочку и покопавшись в ней, Соболев извлёк две монеты, две из десяти – последнего своего капитала. «Вот так, только так… Сейчас очумеет от радости. А порешить ещё успею…»
– Дедушка! А дедушка Тытыгынай! Эн… Золото знаешь? Золото биллэ бар?
Старик отрицательно затряс головой.
– Ах, ты! Как ему объяснить? Золото, золото… Ну, это… монета?
– Э, манньета… – и добавил по-якутски: – Откуда у меня свои монеты могут быть? Видел у других людей.
– Руку дай, руку!
Схватив старика за руку, Соболев стянул с неё рукавицу, на сморщенную ладонь Тытыгыная положил две золотых монеты и с силой зажал его пальцы в кулак.
– Эта – твоя! Твоя монета…
Тытыгынай приблизил к глазам кулак и, разжав пальцы, вгляделся.
– Ноо, старинные, золотые. Царские… – заговорил он по-якутски и попробовал монеты на зуб. – Красный командир носит с собой царские монеты?
Он протянул монеты Соболеву.
– Возьми, возьми! Это – твоя! – отвёл тот руку Тытыгыная. – Монета твоя… ылла, эн надо! Понял? – он ткнул пальцем в грудь старика.
– Э-э, кажется, он мне их даёт. Зачем бы? – Чтобы лучше быть понятым, якутские слова старик стал выговаривать на русский манер: – То-го? Того ми манньеты ылла бар?
– Хорошо, хорошо. Я понял. – Соболев похлопал старика по плечу. – Вези меня в Амгу. Прямо в Амгу. Ладно? Только быстро! Сеп?
– Амга бардаа?
– Приедем в Амгу, я ещё монету дам, – Соболев поводил перед глазами Тытыгыная оставшейся монетой. – Ещё одну монету дам. Сеп?
Старик вздохнул:
– Сеп, сеп…
– Ну и хорошо! Только быстро!
Подстёгнутая лошадь резко зарысила, и замелькали перелески, мысы, поляны и озёра…
Время от времени Соболев продолжал торопить возницу:
– На тракт надо. Быстрей на тракт!
– Сеп, – коротко отвечал ему старик всякий раз.
Так молча проехали они довольно долго. Соболев откинулся на спинку кошевки – конь рысил бодро, Амга была где-то уже близко. Старик этот, к счастью, сговорчивым оказался.
«В самом деле, – думал Соболев, – что выгадает старик, если выдаст меня? Ничего. Попросту уйдут у него из рук золотые монеты. Дикари – они ведь не идеалисты…»
– На тракт, дедушка Тытыгынай! На тракт!
– Ладына, сеп…
Верста, вот ещё одна верста – всё ближе и ближе к цели. Терпение, Эраст Константинович, терпение… Отвлекись, подумай о чём-нибудь постороннем. Гляди-ка, кто это там из дальней жизни твоей выплыл, как из тумана, сверкая двумя рядами пуговиц на куртке? Да ведь это ты сам, Эраст Константинович, гимназист Эрик Соболев. Вон он рвёт с клумбы розы и старается добросить их до открытого окна на втором этаже. Ага, добросил-таки наконец! В открытом окне явилось белое платье, в венчике золотистых волос наклонилась к нему сверху хорошенькая головка. Узнав его, девушка удивлённо округлила лучистые глаза цвета волны… Замутилось видение, будто бы рябью подёрнулось и пропало. Вот так же, как видение, как сон, прошла и безвозвратно канула в вечность золотая пора его юности.
Соболев задремал, приснилось ему что-то мерзкое, и он проснулся, спросонок потеряв представление, где он и почему. Некоторое время он исходил в судорожной зевоте, затем, придя в себя, огляделся. Ехали по какому-то аласу. Кажется, уже светало, темень чуть раздвинулась. И тут, ещё не понимая почему, его охватил безотчётный ужас. Соболев обернулся назад и чуть не вскрикнул: над кромкой далёкого леса чуть обозначилась тонкая полоска рассвета. Вся кровь бросилась ему в голову и как бы оглушила его: рассветало не спереди, а сзади! Сзади! Значит, они ехали не на восток, а на запад!
Соболев вырвал из кармана пистолет и ударил им старика в спину:
– Стой! Назад!
Ни на окрик, ни на удар старик даже не обернулся. Более того, он привстал в санях и дал коню кнута.
– Назад!
Вдруг ясно вспомнилось, как давеча просветлело морщинистое встревоженное вначале лицо Тытыгыная, когда он бережно дотронулся рукой до звезды на шапке Соболева.
– Стой!
Соболев, коротко размахнувшись, ударил старика рукояткой пистолета в шею. Тытыгынай вобрал голову в плечи и пригнулся к передку саней.
Соболев бросился отбирать у него вожжи, старик не отдал. Испуганный конь понёс, забивая лица обоих ошмётками снега и мешая Соболеву выцелить голову старика.
И тут откуда-то совсем близко донеслось:
– Стой!.. Стрелять буду! Стой!
Соболев испуганно поднял залепленную снегом голову и боковым зрением успел схватить: на опушке противоположного леса серыми громадами обозначились дома, поближе выступали контуры оборонительных сооружений и окопов, ему уже знакомых.
– Табаарыс! Бандит! Амга! – отчаянно закричал старик. – Таба-а-рыс!..
Соболев, сжав зубы, направил пистолет в его плоский затылок.
Тытыгынай выпал из саней. Конь, испугавшись выстрела, рванулся вперёд, затем, протащив труп хозяина по глубокому снегу, остановился перед изгородью – сыромятные крепкие вожжи, намотанные на руку Тытыгыная, и завернули коня с дороги на снег.
– Стой! – раздалось совсем рядом.
Соболев соскочил с саней и крупными прыжками бросился к дороге.
– Стрелять буду!
Выбравшись на дорогу, Соболев бросился бежать. Сзади громыхнул выстрел, застучали, приближаясь, копыта коня.
«Схватят! Всё… Конец!..» – в последний раз мелькнуло в сознании Соболева. На бегу он приставил пистолет к виску и нажал на спуск.
Глава семнадцатая
Смутно, как давний сон, помнил Томмот: однажды деревянная кровать на левой половине дома оказалась пустой. Рассказывали, что его отец был удачливый промысловик и уже выбивался в люди: обзавёлся семьёй, построил дом, купил коровёнку. Всё шло к достатку, но тут его подстерегло несчастье – в самые лютые январские морозы, когда обычно охотятся в одиночку, сгорела у него палатка со всеми пожитками. Выбираясь из тайги, отец за несколько суток без еды и без крова тяжело простудился. После этого прожил он всего одно лето…
Сыну он дал имя «Томмот», что означает «Немёрзнущий». Он мечтал, что сын удостоится лучшей доли.
После смерти отца мать перешла жить в избу к одной бедняцкой семье. Хотя камелёк и топили без перерыва, в избе постоянно был холод. Подробности той жизни Томмот нынче успел уже позабыть, только до сих пор ощутимы тот холод да тёплые руки матери, которая его обнимала. «О, бедная моя!» – вспоминал Томмот.
Чтобы не попасть в хамначчиты к баям, она работала изо всех сил. Она боялась, что если станет батрачкой, этой же доли не избежать потом и сыну. Как умудрялась она поспеть всюду – ума не приложить! Всех ближних соседей обшивала она. Это она на ручных жерновах молола им зерно, мяла кожи, обмазывала жидким навозом хотоны, косила сено, рубила и вывозила из леса дрова, пахала землю, готовила кумыс. Только и слышалосьз «Хобороос сумеет», «Хобороос сделает», «Хобороос доставит», «Хобороос принесёт». И не было случая, чтобы хоть раз она отказалась: хватит, устала.
Мать воспитала сына в раннем трудолюбии: к этому подталкивала нужда. Кроме сына, у матери не было никого, кто помог бы ей в работе. Первым из окрестных ребят Томмот взял в руки косу, стал возить и сено, и дрова – таков сиротский удел. У Томмота не было желания большего, чем облегчить ношу матери, и не было для него похвалы выше, чем материнское: «О, мой мужчина!»
У матери была заветная мечта увидеть сына человеком «белого труда», улусным писарем или учителем. Не задумываясь, она истратила последние гроши, залезла в долги, но сына всё-таки отдала в школу.
Окончив первый класс, Томмот на летние каникулы вернулся к матери, а та прежде всего заставила его читать по букварю. Не смея верить тому, что видела и слышала, она молча переводила взгляд то с сына на букварь, то с букваря на сына. Затем взяла она из рук Томмота букварь и заставила прочесть отдельные места на страницах, открытых ею наугад. Сын читал. Тогда мать всплеснула руками: «Мой сынок разумеет грамоте! Он читает книгу!» Не удержавшись, она побежала поделиться радостью к соседям, а потом всем гостям своим только и знала, что рассказывала об успехах сына: «Уже читает! Из букв умеет составлять слова!» И всё упрашивала Томмота угостить гостя книжной мудростью. О, мать, мамочка, дорогая…
Прошлой осенью, провожая его в Якутск на учёбу, она вышла с ним за ворота: «Береги себя, сынок!» Да не убереглась сама – зимой скончалась, бедная. Томмот даже на похороны не успел. К её могиле под старой лиственницей он пришёл только летом: прощай, мама, спасибо тебе за всё…
Скрипнула дверь, и пригревшийся у печки Томмот очнулся от воспоминаний. Ойуров вошёл мрачный, как ночь, не взглянув, сел за свой стол и сейчас же скрылся за облаками табачного дыма.
– Трофим Васильевич! – помолчав, напомнил о себе Томмот. – По вашему заданию я ещё раз допросил Аргылова.
И умолк, видя, что Ойуров не слушает его. Тот был раздосадован чем-то. Вдруг, не сдержавшись, он с маху ударил ладонью по столу.
– Эх, надо было сделать не так! Совсем не так!
Томмот только взглянул на него. Он знал, что Ойурова спрашивать ни о чём не нужно: если надо, скажет сам. Проведя обычным жестом – растопыренными пальцами – по волосам, Ойуров поднялся и набросил на плечи полушубок.
– Неудача у нас вышла, – сказал он Томмоту. – Ты помнишь Соболева, сотрудника военкомата? Тайком добирался к белым в Амгу, а один старик из бедняков обманом привёз его обратно к нам. Убил старика, застрелился сам и оставил нас в дураках. Ах, чёрт…
– Почему же? – не понял Томмот. – Разве Соболев… к белым?..
– Вот именно, должен был обязательно перебежать! Казалось, всё предусмотрели, а сорвалось! – Ойуров бросил свою трубку в коробку из-под монпансье. – А мне выговор. Допустил побег – прошляпил, не допустил – ещё больше прошляпил… Такая наша работа…
Он стал будто бы успокаиваться. Опять взял трубку и опять сунул в рот, даже запел что-то тягучее, похожее на олонхо, и долго глядел в темноту за окном.
– Да-а, продумали всё до мелочей, только ошибка-то не в расчётах, – сказал он наконец. – Упустили из виду такую, с позволения сказать, мелочь, как поворот народа в сторону Советов. Этот старик Тытыгынай многому нас научил! Кто освободил бедноту от кабалы богачей? Кто вчерашнего нищего назвал высоким именем человека? Кто наделил его землёй? Кто вчерашних инородцев поставил вровень с народами? Кто вместо шамана с попом сказал им – развивайте свою культуру? Тут только один ответ – Советская власть. Знать-то мы это знаем… А вот на деле… Да, старик Тытыгынай многому нас научил. Ценою жизни своей научил! Спасибо, старик. Вечная память тебе, а нам наука. – И без всякого перехода повернулся к Чычахову: – Что у тебя?
– По вашему поручению допрашивал опять Аргылова, – повторил Томмот.
– И как?
– Нового ничего не говорит.
– И не скажет, – отмахнулся Ойуров, вынул из ящика стола кипу бумаг и углубился в них. – Ему говорить больше нечего…
– Всё же вёл себя необычно: всё примеривался ко мне… – Томмот нехотя усмехнулся. – Старался выведать у меня о сестре: как я к ней отношусь, она ко мне…
– Да, говорить ему уже нечего… – всё больше углубляясь в свои бумаги и уже плохо слушая собеседника, повторил Ойуров. – Трибунал в помиловании ему отказал. Так что ты сказал?
– Я говорю, примеривается ко мне, прощупывает. И всё почему-то сворачивает на сестру. По его словам, она на него чуть ли не молится. Похвастался, что и отец послушен ему во всём. Удивился, когда я ему сказанул, что сестра твоя, дескать, тоже контра, перебежала к белым, в Амгу. Мне кажется, что он примазывается ко мне, что-то ему от меня надо…
– Куда-куда ты сказал?
– В Амгу… – сочтя себя виноватым, повторил упавшим голосом Томмот.
– Кто… перебежал в Амгу?
– Да Кыча, Аргылова сестра! Она, может, и не в Амгу, да какая разница! Я уже со зла…
– Обожди-ка, Томмот. Аргылов, Кыча, Амга…
Чычахов выжидающе замолчал. А Ойуров, будто увидев Томмота впервые, долго не сводил с него глаз.
Валерий Аргылов и впрямь чувствовал себя так, как, вероятно, чувствовала бы себя пустая сума: сколько ни тряси её, ни крохи оттуда не выпадет. Кому нужна пустая сума? За ненадобностью её выбросят, сверху завалят какой-либо дрянью – и всё. Как только подумает Валерий об этом, начинает холодеть от ужаса, метаться, не находя себе места. Каждый день он лез из кожи вон, силясь навести следователей на мысль, будто бы знает ещё кое-что, но, по всему видно, следователи давно уже слушают его вполуха. Значит, дела плохи. Останься он в живых, взялся бы за ум… Тогда чёрта с два толкнули бы его на опасность, хоть сули они трижды славу и богатства! Теперь бы уж он не стал рисковать, теперь-то уже постарался бы взять от жизни всё, что она даёт. Жить аскетом, уповая на будущее, – глупее этого что может быть? Ведь жизнь у человека одна. Да, живём лишь раз… Вот и бейся головой в стену: попал в беду, и все от тебя отвернулись, кончилась в тебе надобность, и тебя выбрасывают. Все таковы! Кто из его бывших друзей протянул ему руку помощи? Кто-нибудь передал ему хотя бы слово поддержки и понимания? Пепеляев и иже с ним обещали помочь, если что… Где обещанное? Собаки…
В двери камеры открылось окошко.
– Бери еду!
Аргылов не отозвался. «Бери еду». Разве это можно назвать едой? И к чему теперь есть?
– Бери еду! – Караульный поставил миску и отошёл.
Ах, загублена жизнь! Загублена… Что вспомнишь сейчас, когда тебе уже конец? Нечего вспомнить! Маленького мать любила его баюкать, целовала в глаза и ласково гладила по голове… Нет, это слишком давно было! И это не то! Лучше вот это: лесная поляна, залитая солнцем, сплошь покрытая полевыми лилиями – ярко-красными цветами сарданы! Помнится, тогда это поразило его как чудо: красная земля! Но к чёрту и это – красная земля. Она и впрямь теперь вся красная. Что ещё? Неужто только и радостного в жизни было, что материнская ласка да эта поляна? Или и не бывает в жизни ничего, кроме маленьких радостей и больших печалей? Нет, бывает! Большие радости есть и у него, только не позади, а впереди. Просто он ещё слишком молод, до самого прекрасного в жизни он ещё не дожил.
– Заключённый Аргылов!
Обернувшись на оклик, Валерий увидел вошедшего в камеру Чычахова: зачем он здесь?
– На вас жалуются, что не хотите есть.
– Э-э… – отмахнулся Аргылов.
– Заключённый, почему не едите?! Сейчас же есть!
Аргылов криво усмехнулся: с чего это он раскричался, власть свою пробует?
– Зачем? Уже всё равно…
– Делайте, что велят! – И вдруг интимно наклонился к нему: – Надо есть, Аргылов. Еда продляет жизнь…
– Хгм… Не еда продляет, дурак! Трибунал продляет!
– Силы нужны человеку всегда.
Сбитый с толку Валерий почему-то не нашёл, что ответить. А Чычахов опять напустил на себя строгий вид:
– Стол грязный! После еды почистите! – И уже на выходе вполголоса: – Ешь, Аргылов. Обязательно ешь…
Загремел навешиваемый снаружи замок, а Валерий не знал, что подумать. Показалось ли ему, или он действительно уловил нечто многозначительное? Ладно, будь что будет. Надо и вправду последовать его совету и поесть.
Неизвестно с чего Валерий почувствовал себя будто проснувшимся после крепкого сна и прямо-таки набросился на остывшую кашу в алюминиевой миске. Уминая за обе щёки, он скосил глаз на лоскуток газеты на столе: «Сводка штаба…» – безразлично прочёл Валерий и вдруг отодвинул миску.
«Сводка штаба вооружённых сил Якутской АССР. В ночь с 1-го на 2-е февраля авангардный отряд белых в 300 человек, под командованием полковника Рейнгардта, напал на слободу Амгу. После боя, продолжавшегося 3-4 часа, наш немногочисленный гарнизон вынужден был отступить. С нашей стороны убито и ранено не более 35-40 человек…»
Аргылов вскочил, набросил на себя пиджак, схватил с топчана пальто и вдруг опомнился: куда это он собрался? Он забыл, что сидит в тюрьме… Тщательно разгладил он смятый клочок газеты и, вникая на этот раз в каждое слово, прочёл сводку вторично. Идут! Они идут! План генерала осуществляется! К Якутску они подойдут со дня на день.
Кто принёс ему этот обрывок газеты – надзиратель вместе с миской каши или Чычахов? И что значило загадочное поведение парня? Парень-то, кажись, не промах – даром, что молодой: красные ещё не разбиты, а он уже ищет, как спасти себе жизнь. Эх, хорошо бы помог! Чычахов определённо выведал что-нибудь обнадёживающее и делает намёки. Не может быть, чтобы такого не было!
Аргылов заметался по камере.
Вечером следующего дня, когда Аргылов сидел, весь превратившись в слух, и напрасно ловил звуки перестрелки, которую, по его расчётам, на улицах Якутска уже должна была затеять боевая дружина Пепеляева, к нему в камеру вошёл начальник тюрьмы. Он объявил, что прошение Аргылова о помиловании ревтрибунал отклонил.
Аргылова словно хватили дубиной по голове. Оглушённый, он сидел, бессмысленно уставя взгляд в пространство. Придя в себя от стука захлопнувшейся двери, он подскочил к ней и забарабанил изо всех сил.
– Ка-ак! Как же это? Я же всё рассказал! Ничего не утаил! Нет, только не это… Не надо меня убивать! Я ещё расскажу!
Дверь не открылась.
Как же это? О чём же тогда болтал этот негодник Чычахов? Можно было подумать, что он обнадёживал… Конечно же, у него, мелкой сошки, какой может быть вес? Кто станет придавать значение его мнению, прислушиваться к его словам? Может быть, Чычахов ждал, что подоспеют пепеляевцы? А им-то не к спеху, как видно. Их, собак, не особенно трогает его участь. О, если бы он знал раньше, хоть бы догадывался, что всё получится так!.. Сто раз прав был отец, когда советовал: «Пусть дерево валит другой, а ты поспевай к сбору белок». Жаль, что этот мудрый совет ему уже не пригодится. Проклятая судьба! Проклятые красные! Всё, всё кончено.
Шатаясь, он пошёл к топчану и повалился на него лицом вниз.
Вывели его из тюрьмы ночью и в окружении пяти вооружённых конных повели по тёмной улице. Затем спустились вниз по какому-то откосу… Смирившийся со своей участью, полумёртвый, шёл Аргылов, ничего не видя и не слыша вокруг и едва волоча ноги. Прошли через Зелёный луг, началась река. Пройдя ближнюю протоку, вступили на лёд главного русла. Впереди и чуть левее зачернел остров.
– Стойте! – скомандовал Ойуров.
Все остановились.
Выше по реке, в морозном воздухе далеко окрест разносился слитный топот коней.
– Кто такие там скачут – догнать и проверить! – распорядился Ойуров. – А вы, Чычахов и Вишняков, приведите приговор в исполнение. На том вон острове. Как кончите – забросайте снегом. Понятно?
– Так точно!
До сознания Аргылова дошло только слово «понятно». «Что ему понятно?» – вяло подумал он. Ко всему, что происходило вокруг, Аргылов был безучастен, люди казались ему бесплотными, а их голоса отдавались в ушах далёким эхом.
– Выполняйте!
– Есть!
Ойуров и ещё двое конных быстро ускакали.
«Выполняйте! Кто и что будет здесь выполнять?» – автоматически подумал Валерий.
С вывернутыми назад и туго связанными руками его привели на остров. Конвоиры сошли с коней и набросили поводья на сухие ветки какого-то дерева.
– Кто-то скачет. Давай я встану тут – на всякий случай. А ты там, за ивой, управься, – сказал Чычахову его напарник, русский.
Чычахов ткнул Валерия стволом винтовки в бок, но Аргылов остался неподвижен. Он не ощутил толчка. Чычахов толкнул его ещё раз:
– Иди! Вон к той иве!
Аргылов вздрогнул на этот раз, и в голове его что-то сработало: «Выполняйте!», «Вон к той иве…» Вдруг до него дошло, что эти слова имеют к нему самое прямое отношение и что настали последние минуты его жизни. Протестуя против такой ужасной судьбы, взыграла каждая клеточка его тела, вскипела каждая малая капля крови, и эта жажда жизни, этот протест против смерти исторгли из его горла хриплый вопль: и мольбу, и плач обречённого, и мстительную злобу, и проклятье:
– Не надо!.. Постойте! О-о-о! Остановитесь! За что? Я всё рассказал… Не убивайте!.. Не убивайте меня!
– Шагай, шагай!
Аргылов упал на колени. В этот миг ему страстно захотелось сделать какой-то ему самому неведомый, самый что ни есть отчаянный шаг, чтобы только вызволить себя из этой ужасной доли. Невдалеке от себя он увидел чернеющие на снегу торбаса Чычахова и подполз к ним на коленях:








