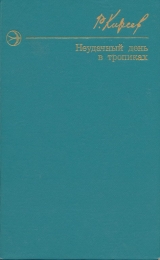
Текст книги "Неудачный день в тропиках. Повести и рассказы."
Автор книги: Руслан Киреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Я рассеянно пробежал письмо. Тая неслышно стояла рядом. От нее веяло запахом реки и свежих огурцов.
– Он когда приезжает? – спросил я, старательно складывая письмо.
– Недели через две.
– Я тоже.
– Ты уезжаешь? – с интересом спросила она.
– Да. Завтра.
– В отпуск?
– Да.
Я не уходил. Наверное, мне было бы легче уити, дай она понять мне, что она желает, чтобы я остался здесь.
Я внимательно посмотрел на нее и встретил доброжелательный, ясный взгляд. В летнем костюме, в тонком, голубоватой белизны джемпере, мягко обтягивающим небольшие груди, – ещё никогда она не казалась мне такой привлекательной. Я глухо подумал, что весь её ангельский облик лжив, что она не такая, какой кажется сейчас, но мысль эта пропорхнула мимо, не задев меня, – словно лгала и притворялась другая женщина, а эта, которая – стояла сейчас передо мной, была невинна и бесхитростна и не подозревала в своем чистосердечии, как хороша она.
– Передавай Мише привет…
Я вышел и плотно прикрыл за собой дверь. «Через два дня я буду в Алмазове».
С нетерпением считал я дни, оставшиеся до встречи со Шмаковым. Я много возлагал на эту поездку.
Временами казалось, что все это – нелепое наваждение, я не отрезвел ещё после вчерашнего празднества в кухне Вологолова, но шла минута за минутой, вагон просыпался, раздвигались двери купе, и люди с перекинутыми через плечо полотенцами шествовали по узкому проходу, а наваждение не исчезало, и я все более убеждался, что, как ни чудовищно мое открытие, —оно верно, и отныне я не смогу жить так, будто его не было.
Я не жалел больше о скандале в доме Вологолова; напротив, я был рад ему, – он открыл мне глаза. Кто знает – быть может, я обрел наконец себя, стал настоящим, таким, каким задуман природой.
Я докурил вторую сигарету, посмотрел на часы и, вспомнив, что не заводил их вчера, стал медленно крутить рубчатое колёсико.
– Самые страшные люди – кристально честные, – процедил Вологолов. – Убийцы из них выходят.
Мать резко повернулась к нему, и раскосые глаза её блеснули, но она не проронила ни слова. Что означало её молчание?
Я вернулся в, купе, лёг поверх одеяла и закрыл глаза. Тогда‑то и привиделся мне стародавний детский сон: толпа длинных теней, они колышутся на одном месте, словно водоросли, гнутся и тянут ко мне тонкие руки.
Наверное, я застонал или вскрикнул, потому что меня разбудили. Внезапно открыв глаза, увидел над собой пожилую женщину в байковом халате.
– Страшное снится, – ласково сказала она, отнимая руку от моего плеча. – Это потому что на спине. На бочок лягте.
Секунду я тупо смотрел на нее. Первобытный дикий ужас быстро оставлял меня – так стекает с тела вода, когда выходишь на берег.
– Извините, —пробормотал я и сел.
Женщина пила чай. Мы были вдвоём в купе. Я больше не думал о своем утреннем открытии. Пока я опал, мое сознание освоилось с ним.
Я умылся и отправился в ресторан завтракать.
На вторую ночь после моего приезда мне опять привиделся тот же сон: столпившиеся призраки тянут ко мне свои тонкие, как стебли, гнущиеся руки. Я понимал, что это сон, и делал усилие проснуться, но не просыпался, и от этого становилось жутко. Наконец я открыл глаза и сел на кровати. На лбу холодно остывала испарина.
Мы опять стояли в сумеречном коридоре – как тогда, накануне моего отъезда, – и сверху, как и тогда, пробивался луч вечернего солнца. Тая переложила торт из одной руки в другую, отперла дверь и внимательно посмотрела на меня. Я прошел в комнату. Мне было холодно. Тая вошла следом, прикрыла за собой дверь и осталась так – прислонившись к двери спиной. Прежде чем мои руки поднялись, чтобы обнять её, её тело прильнуло к моему, я ощутил его гибкость, теплоту, и лицо мое окунулось в сухие, рассыпающиеся, душистые волосы.
Я умышленно задержался в городе – мне не хотелось прощаться с племянницей, которая срочно уезжала к себе, не хотелось выслушивать её наставлений о том, как лучше ухаживать за её дядей.
Возвращаясь, увидел впереди Таю. В руке у нее белела коробка с тортом. Некоторое время я следовал поодаль, но потом вспомнил, что не существует больше ничего, что стояло бы между нами преградой. Я догнал её и пошел рядом. Она с любопытством повернула голову. В этом её движении была спокойная уверенность женщины, привыкшей, что с ней ищут знакомства.
Она не удивилась, увидев меня, – смотрела на меня весёлыми глазами, словно заранее знала, что я приеду раньше времени и вот так подойду к ней на улице.
– У тебя торжество? – спросил я.
Тая вопросительно подняла свои красивые брови – жест наивной девочки. Я показал глазами на торт.
– А… Нет, не торжество. – И объснила доверчиво: – Просто я лакомка. Ты хорошо съездил?
– Нормально.
– Я рада за тебя, – ласково сказала юна.
Я кивнул. До дома мы шли молча.
Тянущиеся к кровати призраки – сон этот, подумал я, нелеп и вовсе не страшен, можно ещё понять его гнетущее действие на мальчика, но как объяснить ужас, который вызывает эта галиматья у взрослого мужчины?
Я повернул часы к окну, откуда падал слабый свет – луны ли, фонаря; стрелки сливались с циферблатом, и различить их я. не мог.
У меня было ощущение, что спал я долго, но я не имел понятия, когда лёг – знал лишь, что от Таи вернулся затемно. Света я не зажигал.
– Торт помнем, – прошептала она. Я опустил руки, но она по–прежнему прижималась ко мне всем телом. Её шея, её голые руки и лицо были по–летнему теплы.
Потом она проворно переоделась в другой ком. нате и вышла в простеньком, без рукавов, халате, на ходу застёгивая его.
– Ужинать будем! – быстро и радостно сказала она.
Её глаза смеялись. Я смотрел на нее вопросительно и серьезно. Что так развеселило её? Тая, засмеявшись, прижалась щекой к моему плечу.
– Ты как все мужчины… Когда женщине хорошо – они важничают.
От нее тонко пахло духами – минуту назад этого запаха не было.
Стрелок я не разглядел и достал зажигалку. Было лишь начало третьего. До утра далеко… Я лёг.
Это как наркотик, подумал я, как цепная реакция. Вначале дурманящий яд отвратителен, организм восстаёт против него, но яд усмиряет боль, и организм, попривыкнув, требует все новых и новых порций. Но разве не убедился я, что болезнь не излечима, разве не испробовал я – все лекарства?
В комнате было душно. Я вглядывался в окно, гадая, открыта ли форточка.
Тая поставила на широкий стол две рюмки и две тарелки– по обе стороны от угла, так, чтобы мы сидели близко, но не рядом, не как школьники за партой. Эта продуманность, явившаяся вдруг в её лёгких быстрых движениях, неприятно задела меня. Тая открыла створку шкафа, где хранилась коллекция Мишиного коньяка, и я видел, как её голая, гибкая рука бережно извлекла оттуда бутылку.
«Ну как же, – услышал я недоуменный голос Миши Тимохина. – Коньяк в доме обязательно надо иметь».
Я смотрел в сторону, чтобы не видеть тарелок, примостившихся в углу просторного стола, – словно кто‑то намеревался украдкой, второпях, утолить голод и исчезнуть, освободив место для законных гостей.
Миша Тимохин пришел ко мне с медом и какими‑то снадобьями. Мельком взглянув на градусник, махнул рукой– все это, дескать, ерунда! – потом бегло посмотрел лекарства, и они рассердили его.
– Кто же антибиотики пьет? Хочешь сердце испортить?
С детства болезненный, перенесший множество недугов, он сделал медицину своим хобби, но медицину не научную, а народную. Химик по профессии, упрямо игнорировал он все фармацевтические средства, признавая лишь отвары да настои. Мечтою его было изучить систему китайского иглоукалывания.
Он сделал мне компресс, заставил выцедить маленькими глотками полстакана кисловатой настойки, а после пополоскать горло теплой, но освежающей, с примесью мяты, жидкостью. Я покорно выполнял все его предписания, а он хлопотал надо мною, как над своим Борькой и так было несколько дней – пока я не выздоровел.
Тая принесла вазу с яблоками и проворно нарезала торт. «Вологолов хоть водку свою привозил…» А впрочем, подумал я, не все ли равно теперь? Пусть ещё один человек присоединится к Шмакову и матери – Миша Тимохин, а завтра или послезавтра, когда я уйду на другую квартиру, среди них окажется и Федор Осипович. Потом ещё кто‑нибудь, и ещё, и все они будут незримо конвоировать меня – чтобы я, не дай бог, не совершил что‑либо добропорядочное. Тогда они с гиканьем набросятся на меня, напоминая, кто есть я на самом деле.
Смеркалось, но Тая не зажигала – света.
Я встал с кровати и подошел к окну, чтобы открыть форточку, но она оказалась открытой. Невидимая луна рассеянным светом освещала двор. Я вспомнил, как стоял ночью на крыльце алмазовского дома, а в комнате спал пьяный Шмаков, и на расцарапанной губе его темнела засохшая кровь.
Действительно ли был он так омерзителен в эти два дня, что я провел у него, или многое дорисовало мое пристрастное воображение?
Даже здесь, возле открытой форточки, было душно.
Когда, собираясь в клуб, я спросил у Шмакова, отчего он не надевает рубашку, которую я привез ему, он смутился и торопливо, но бережно достал её из шкафа. Я уловил на его подвижном лице отсвет внутренней борьбы. Он трогал коричневыми тупыми пальцами полиэтиленовую упаковку, выглядевшую этаким заморским чудом в его запущенной квартире, хихикал и виновато взглядывал на меня. Мне подумалось, что он собирается после моего отъезда продать рубашку.
Помешкав, он нашел заржавленные ножницы и разрезал упаковку.
Я едва сдерживал улыбку – так нелепо выглядел на Шмакове голубовато–просвечивающий нейлон. Ослепительный воротничок резко оттенял темную, морщинистую, как у черепахи, шею, на которой топорщились невыбритые волоски.
Шмаков стоял с оттопыренными по–детски руками, боясь пошевелиться и не зная, что делать дальше.
– Великовато немного, – с улыбкой сказал я.
Я застегнул ему рукава на пришитые изнутри прозрачные пуговицы, к которым он не привык – с готовностью подставил он сперва одну, потохМ другую руку, затем доверчиво поднял голову – чтобы я застегнул воротничок.
Напрасно убеждал я себя, готовясь к поездке в Алмазово, что люблю этого человека, люблю хотя бы из благодарности, из‑за того, что виновен перед ним—это была ложь. В те редкие минуты, когда я не презирал Шмакова, я был к нему равнодушен. Вероятно, даже его смерть не слишком тронула бы меня – будь только спокойна перед ним моя совесть.
Иногда мой ум с любопытством и волнением останавливается на христианских заповедях, известных даже нам, детям чистокровного атеизма. «Возлюби ближнего…» Я думаю над этими словами и удивляюсь: почему не сказано о главном – КАК возлюбить, ради чего? Ради ближнего или ради самого себя?
Во всем дворе светилось лишь одно окно – на лестничной площадке. Мне хотелось пить—наверное после Мишиного коньяка.
Тая, приготовив все, бесшумно и быстро села за стол, но тотчас поднялась и включила радиолу. Я уже слышал где‑то эту мелодию, которую вёл саксафон – должно быть, зимою на катке – и она нравилась мне, но сейчас она меня раздражала.
Тая стояла у радиолы. Может быть, она ждала, когда я обернусь к ней, потороплю её. Я молчал. Она села и внимательно посмотрела на меня. Я достал сигареты.
– У тебя случилось что? —произнесла она. – Неприятности? Ты поэтому раньше приехал?
– Ничего, – усмехнулся я. – Разве что повзрослел. Как ты и предсказывала когда‑то. Помнишь? – Я взглянул на нее с натужной улыбкой и сейчас же отвел глаза. – Курить можно?
– Конечно.
Она подвинула пепельницу. Я предложил ей сигарету.
– Не сейчас, – негромко сказала она. И прибавила – ещё тише: – Когда выпьем…
Я молча положил сигареты на стол. Женщина, которая сидела рядом, была чужой мне. Но я помнил, что мне все дозволено теперь, и не уходил.
Мне хотелось пить, но в комнате воды не было, а дверь, ведущая в коридор, скрипела. Федор Осипович наверняка проснется…
Почему это тревожит меня? Надо быть последовательным. Я всего–навсего квартирант, мне хочется пить, и какое мне дело до того, что скрипит дверь? Я уйду отсюда, как только найду квартиру. Надо быть последовательным. Теперь у меня нет времени няньчиться со стариком– готовить ему, стоять по вечерам в очереди за кефиром. Год пролоботрясничал– хватит. Сразу после отпуска дам понять Императору, что больше не намерен конфликтовать с ним. Он с радостью пойдет на мировую, потому что боится меня. Я получу тему, и мне не придется больше корпеть над канцелярскими выкладками. Все остальное – пустяки и жеманство.
Мои сослуживцы скажут: пообтесался, притерся молодой Кирилл Шмаков. Рано или поздно, скажут сини, это случается со всеми.
Может быть, они правы… Пожившие, опытные люди, они, может быть, знают, что путь, который выпал мне – не случаен, только каждый проделывает его по–своему.
Надо быть последовательным… Но я медлил и не отходил от окна, хотя в горле пересохло от жажды.
В наш город поезд прибывал вечером. Когда я добрался до дома, Федор Осипович с племянницей ещё не спали. Он лежал, до пояса прикрытый одеялом – сильно осунувшийся, но опрятный, выбритый, в свежей полотняной рубашке. Седенький чубчик был аккуратно зачёсан набок. Когда он увидел меня, в его живых, не подвластных болезни глазах, блеснула радость, тотчас сменившаяся тревожным вопросом: почему я вернулся так скоро? Не случилось ли что? Мне было неприятно, что я заметил это.
Племянница бурно обрадовалась моему приезду. Тут Же объявила, что ей срочно надо домой, но она не могла оставить дядю одного, а теперь, если ей удастся достать билет, она улетит завтра же, Я холодно отметил про – себя, что, .по–видимому, она завершила покупки, ради которых и приехала сюда.
– Вы ведь никуда не поедете больше? —прибавила она требовательно и недовольно.
Должно быть, равнодушно подумал я, меня подвела страсть к абсолюту: или – или… В группе никто, кроме меня, не переписывал из‑за ничтожной помарки страницы курсового проекта.
Я осторожно вышел из комнаты. В темноте белела постель Федора Осиповича. Я тихо отодвинул задвижку. Дверь протяжно заскрипела.
– Вы… – обращаясь ко мне, выговорил непослушным языком Федор Осипович. – У вас…
– Он спрашивает, у вас никаких дел нет, – живо перевела племянница.
Федор Осипович болезнено поморщился.
– А что ты спрашиваешь? – удивилась она.
Старик с лёгкой досадой махнул здоровой левой рукой. Я терпеливо ждал. Он ободряюще, жалко улыбнулся мне и кивнул, отпуская меня.
– Но вы хотели что‑то сказать.
– Что ему говорить – он накормлен, напоен! —громко сказала племянница. – Как за ребенком хожу – вон какой чистенький.
Она раскладывала на столе покупки, прикидывая, как лучше упаковать их. Старик неподвижно лежал с закрытыми глазами, но ресницы его чуть–чуть дрожали. Я прошел в свою комнату.
Подождав, пока сольется теплая вода, подставил под струю кружку, наполнил её и выпил до дна. Потом медленно завернул кран. И вдруг я понял, о чем хотел спросить меня Федор Осипович. Он хотел спросить, все ли у меня в порядке. Когда я появился на пороге с чемоданом в руке, в глазах его вслед за радостью метнулось беспокойство– слишком скоро я возвратился.
Капли звонко стучали о раковину. Я туже закрутил кран. Дверь, когда я открывал её, снова противно заскрипела.
Проигрыватель щелкнул и умолк. Наступила тишина. Тая сидела, не шевелясь. Я взял бутылку.
– Выпить надо, – проговорил я. – Коньяк Миши Тимохина.
На втором этаже, над нами, что‑то глухо стукнуло. Я налил коньяка. В полумраке он казался густым и темным.
– Нет, – задумчиво сказала Тая. – Ты не повзрослел. Ты все такой же.
– Может быть. Но я стараюсь.
Она невесело улыбнулась:
– Повзрослеть.
Я пожал плечами и взял рюмку.
Я быстро вышел из клуба. Меня преследовал визгливый голос женщины, поднявшей скандал, когда я ударил мордастого парня.
Навстречу мне летел в клуб Тима Егоров. В алмазов–ской школе мы сидели с ним за одной партой.
– Кирюша! А я к тебе! Мне сказали – ты приехал, я не поверил.
Рыженькое лицо его светилось радостью. Я благодарно пожал ему руку, извинился и прошел мимо.
Через полчаса Тима зашёл ко мне. Шмакова не было– он выклянчил пятерку в компенсацию за оторванную пуговицу и умчался с нею в магазин.
Тима не подавал виду, что знает о скандале в клубе. Он старался развлечь меня. Но победоносно ворвался Шмаков с двумя бутылками вина, и Тима деликатно удалился.
Мы выпили ещё по рюмке и закусили яблоком. Хмель не брал меня, а мне, как и позавчера у Вологолова, хотелось опьянеть. Я закурил. Тая тоже взяла сигарету. Темнело. Мы не смотрели друг на друга, и мы молчали, словно кто‑то приговорил нас к этому тягостному сидению за столом.
Я прикрыл дверь в комнату Федора Осиповича, сел на кровать и закурил. Раньше я никогда не. курил среди ночи.
У Федора Осиповича было тихо, но я знал, что он не спит. Если он и спал, то я разбудил его скрипом двери.
Кто‑то торопливо и не таясь прошел по двору.
– А это наш проспект! – весело объявила Лена. – Имени святого Михаила. – Она хитро взглянула на меня, но смилостивилась и объяснила: – Главврач наш. Михаил Генрихович.
Она вновь была беспечна, как час назад, когда мы добирались до укромной скахмейки в глубине больничного парка.
Я свернул было к лечебному корпусу, но она упрямо замотала головой.
– Я провожу тебя!
Мы вышли за крашеные железные ворота. Вечернее солнце тихо освещало пустынную улицу. Неторопливо проехали на велосипедах парень и девушка.
– Я напишу тебе после операции…
– У тебя нет моего адреса, – сказал я.
– Улица Юбилейная, дом семнадцать, квартира три.
Она улыбалась, поддразнивая меня. Я старался держать себя, как и она – безмятежно и весело, но у меня это получалось плохо. Меня не покидала мысль, что, может быть, я вижу её в. последний раз.
– И за гостинцы спасибо, – прибавила она и смешно поклонилась. – Только все почему‑то фрукты тащат. Они у меня уже вот здесь сидят. Я селедки хочу.
– Я не знал…
– Селедки не разрешают, – сказала она и вздохнула. – Ничего острого.
Было душно, я откидывал простыню, но от окна тянуло прохладой, и я укрывался. Глаза слипались, когда же я начинал забываться, меня будил страх, что Лена умрет. Странное чувство испытывал я в беспокойном своем полузабытье. Мне казалось, что если умру я, в этом не будет и части той чудовищной несправедливости, которую несет в себе смерть Лены. Моя смерть лишь необъяснимым образом очистит меня, превратит в того, кем я стремился и надеялся быть ещё два дня назад. И если после этого кто‑то увидит мою жизнь —всю, без утайки, он скажет, что этот человек жил честно. А предстань я перед тем же судьей живым – иною будет оценка. Но моя смерть касается одного меня, смерть же Лены сделает нелепым все – не для меня, безотносительно ко мне. Она сделает нелепым весь тот мир, который существует кроме меня и кроме нее, кроме каждого человека «в отдельности.
Я снова откинул простыню, но было по–утреннему свежо, и я укрылся. Светало.
Попрощались мы легко и небрежно – словно завтра предстояло увидеться вновь. Ни на мгновенье не посмел я задержаться у больничных ворот, боясь, что Лена обернется и увидит, как я смотрю ей вслед.
Когда, очнувшись после беспокойного короткого сна, я пошел умываться, Федор Осипович уже сидел за столом одетый и выбритый. Он ничего не делал – просто сидел, и, как в былые времена, по–правую руку от него дремала Вера. При племяннице он не позволил бы себе такого.
Я поздоровался. Старик встрепенулся, хотел встать, но остался сидеть и даже не прогнал Веру, как это он всегда делал при моем появлении.
Я вышел в коридор. Что‑то необычное почудилось мне в поведении старика… Я сунул в ручку двери полотенце и открутил кран.
За дверю Таи было тихо. Наверное, она спала ещё.
Я снова налил коньяка—осторожно, чтобы >не пролить в темноте. Тая встала и зажгла свет. Я сощурился. Когда я открыл глаза, она стояла по ту сторону стола. Она спокойно смотрела на меня. Я чувствовал себя виноватым перед нею.
– Уходи, – сказала она.
Я не двигался. Мне трудно было подняться. Я знал, что если уйду, то потерплю ещё одно поражение.
За окном пьяно затянули песню. Я глядел на рюмку с коньяком.
– Сейчас, – сказал я.
Тая молча ждала. Я поднялся. В эту минуту она опять нравилась мне – в своем простеньком открытом халате, спокойная и теперь уже недоступная.
– Извини, – сказал я и вышел.
Я вытер лицо жёстким накрахмаленным полотенцем и снова посмотрел на дверь, за которой спала Тая. Ночью, в хаосе сменяющих друг друга мыслей о Шмакове, матери, о Лене, были мгновения, когда я видел вдруг Таю, её лицо и голые руки, и остро жалел, что все кончилось так. Сейчас я был рад этому.
Федор Осипович, когда я открыл дверь, стоял посреди комнаты с авоськой в руке. В авоське были молочные бутылки. После инсульта он ещё не выходил из дому. Я глухо подумал, что раньше бы я непременно отобрал у него бутылки и отправился в магазин сам.
Молча прошел я мимо. Федор Осипович издал звук, напоминающий мое имя. Я обернулся. Старик бодро ковылял ко мне, улыбаясь и протягивая вчетверо сложенный листок. Он улыбался теперь часто, но не прежней чуть приметной улыбкой, а широко и немного деланно – приободрял меня, чтобы, наверное, мне не было неловко за собственное свое безукоризненное здоровье.
Я шагнул к нему и взял листок. Федор Осипович хотел что‑то сказать, но не решился и лишь закивал, просительно глядя мне в глаза. Потом торопливо засеменил к двери, опираясь о тросточку, которую купила ему племянница.
Я вошёл в свою комнату, медленно сложил полотенце и аккуратно повесил его.
Выйдя от Таи, которая спокойно ожидала у ненужного теперь праздничного стола, когда я уйду, я тупо постоял перед своей дверью и лишь потом открыл её. Федор Осипович старательно писал что‑то. Рядом сидела Вера. Когда я вошёл, старик заторопился, убрал здоровую левую руку с карандашом под стол, и на лице его, мгновение назад напряженно сосредоточенном, виновато затрепетала улыбка. Другой рукой он сталкивал со стола Веру.
– Добрый вечер, —сказал я и прошел в свою комнату.
Я медленно развернул листок. Печатными крупными ученическими буквами – неровными и дрожащими – было нацарапано: «Уважаемый Кирилл! У меня так сложились обстоятельства, что я вынужден просить Вас подыскать себе другую квартиру. Я чувствую себя нормально и вполне могу обслужить себя. Спасибо Вам за все. Извините, что вынужден объясняться с Вами письменно. Ф. О.»
Несмотря на открытую затянутую марлей форточку, воздух в палате был спертым.
– Вам со мной… – выговорил Федор Осипович и умолк, вспоминая слово. – Заботы…
Я успокаивал его, как обычно успокаивают в таких случаях. Полмесяца уже лежал он на этой узкой казённой кровати.
– Я… Я не могу вас… отрезать, – произнес он и тотчас замотал головой. – Нет… От…отрезать, – снова выговорил его язык, но движением головы он опять отверг это слово. – Спасибо, – раздельно проговорил он, умоляя взглядом понять его. – Спасибо не смогу. От…отрезать.
Я прочел записку два, а может быть, три раза. Прошло несколько часов, но я помнил её дословно. На улице хлестал дождь. А утром, когда я, сунув записку в карман, выбежал из дома вслед за Федором Осиповичем, с безоблачного неба пекло солнце.
Я сидел у окна. Серый от густого дождя двор был мертв, как сегодня ночью.
Старик стоял, незаметно привалившись боком к обшарпанной стене дома. Голову он держал прямо – делал вид, будто просто ожидает кого‑то. Я молча отнял у него авоську с – бутылками. Старик запротестовал было, но тут же подчинился и, поддерживаемый мною, послушно двинулся к дому. Он не скрывал больше, как трудно даётся ему каждый шаг.
Опять все было неясно и нелепо, вся моя, с таким тщанием возведённая постройка рухнула, и я не знал, как жить дальше.
Дождь лил отвесно, но отдельные капли залетали в форточку. Я прикрыл её.
Неужели обостренное болезнью чутье старика распознало, что я хочу уйти от него, и он решил помочь мне?
Сейчас в его комнате было тихо. Мне хотелось, чтобы дождь лил как можно дольше.
Я посадил его на кровать, снял с него туфли и, когда о, н прилег, бережно поднял и опустил на одеяло его больную ногу. Он подчинялся мне беспрекословно и доверчиво, как ребенок.
Я взял авоську с бутылками. Они звякнули. Федор Осипович медленно открыл глаза. Вчера он не выглядел таким слабым.
Я вынул из кармана смятую записку и положил её на стол.
– Никуда я не уйду от вас, – сказал я.
Старик молча глядел на меня, потом трудно проглотил что‑то и утомленно прикрыл глаза. Я вышел на улицу. Я не спрашивал, что купить ему – за полтора месяца болезни я изучил его неприхотливый вкус: двести граммов докторской колбасы, бутылку кефира и городскую булочку, которую старик называл по–старому – французской.
Запертый ливнем, я сидел у окна и курил сигарету за сигаретой. В какое‑то мгновенье мне пришла в голову мысль рассказать обо всем Антону – хотелось увидеть все со стороны, бесстрастными и честными глазами. Но нет, я слишком самолюбив, чтобы выворачивать себя перед кем бы то ни было. Удивительное дело: я очень повзрослел за эту неделю, но о том, как жить дальше, ведаю теперь куда менее, чем в любой другой момент моей жизни.








