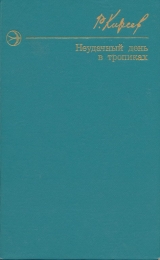
Текст книги "Неудачный день в тропиках. Повести и рассказы."
Автор книги: Руслан Киреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
– Давно в отпуске? – спросил Вологолов после долгого молчания, в продолжение которого мы с матерью курили, а он десертным ножом срезал с крупного яблока белую завивающуюся кожуру.
– В Алмазове я был два дня, – ответил я на вопрос, который, показалось моте, прятался в учтивых словах об отпуске.
Вологолов взглянул на меня и ничего не сказал. Он никогда не лез в мои дела, не делал замечаний, не требовал к себе почтительности – словом, все шесть лет, пока я жил в его доме, не замечал меня, а что могло быть удобнее для меня?
Мы дошли до хозяйственных построек, и я собрался повернуть обратно, но Лена заявила вдруг, что устала, и села на узкую облезлую скамью.
– Не смотри на меня, – сказала она, глядя на сваленный у забора металлолом. – Со мной ничего. Отдохну и пойдем.
Как почувствовала она мой взгляд?
С утра я съел лишь пачку засохших вафель, купленную в придорожном буфете на полпути из Алмазова, да пару пирожков на вокзале, и теперь меня быстро разбирало– от водки, которой щедро угощал меня Вологолов. Я чувствовал, что зреет скандал, и ждал этой минуты – с каким‑то злым сладострастием. Или действительно так уж устроен человек, что невольно ищет, на ком бы выместить горечь своего крушения? Впрочем, люди, сидящие рядом со мной, более кого‑либо другого были причастны к этому крушению. В тот момент я понимал это слишком хорошо.
На перевернутой вверх дном заржавленной автомобильной кабине прыгал и клевал что‑то воробей.
– Семена ищет, —сказала Лена. – С акации.
Акация росла у самого забора – хилое, однобокое деревцо.
– Рано ещё, – сказал я. – Стручки не созрели. – А сам исподволь, с беспокойством следил за ней. Лицо её немного побледнело, или это казалось мне?
– С того года сохранились, – проговорила она.
– Что?
Кажется, я произнес это слишком напряженно. Губы Лены слабо улыбнулись.
– Стручки, – объяснила она. – Семена.
Воробей вспорхнул и перелетел на акацию.
Река круто поворачивала. Табаня, я поднял весло. На лопасть села темно–синяя бабочка. Её тонкое тельце было неподвижно, а сдвоенные продолговатые крылышки то поднимались, вздрагивая, и на секунду замирали так, то снова опускались. Я не шевелил веслом – хотел, чтобы бабочку увидела Лена, но она, притихнув, смотрела вперёд, и что‑то мешало мне окликнуть её.
Она глядела на то место, где минуту назад сидел воробей.
– Тебе, наверное, наговорили о моей операции?
– Да нет… Ну, сказали – операция. – Совершенным идиотом чувствовал я себя.
– Почему ты сразу не пришел ко мне?
– Я ездил в Алмазово. Это двести километров отсюда. Мы раньше жили там.
Лена внимательно посмотрела на меня. И я вновь, как год назад, почувствовал себя маленьким и лживым – словно в чем‑то обманывал её, словно выдавал себя не за того, кто есть я на самом деле.
Стареющий человек с разбросанными по лысине редкими волосами юлит перед пятнадцатилетним мальчишкой, просит пощадить и пожалеть его, норовит поцеловать руку. На подростке тщательно отутюженные брюки, он сдержан и аккуратен, как манекен.
– У меня отец там, – прибавил я, помолчав. – Неродной. Я жил с ним семь лет. Я поступил по отношению к нему подло. Мы с матерью бросили его. Семь лет я даже не писал ему.
Теперь я сказал все – все до единого слова, но ощущение, что я лживый и маленький, не оставило меня.
Хмель действовал на меня избирательно, обостряя лишь то главное, что сидело во мне в эту минуту.
– Хватит бы тебе пить, – сказала мать.
Я поднял голову. Она смотрела на меня грустно и спокойно, и мне показалось, она уже давно так смотрит на меня.
– Пусть пьет, – вступился за меня Вологолов. – Последняя, что ли!
Он поднялся, открыл холодильник и достал ещё бутылку водки. Мать ничего не сказала. Она чиркнула спичкой и раскурила погасшую папиросу.
Почему‑то меня даже не удивило, что чувство, от которого, казалось мне, я наконец избавился, по–прежнему живо во мне, что Шмаков снова явился перед моим мысленным взором и явился не такой, каким я оставил его утром, а тем, прежним, когда он ещё зачёсывал остатки волос с одного бока на другой, маскируя лысину – явился, как ни в чем не бывало, будто не было ни поездки в Алмазово, ни моего трудного искупления перед ним…
Я знал, что за стенами больницы меня ждёт полное и беспощадное разочарование, но в тот момент, рядом с Леной, все мои неурядицы показались мне чем‑то второстепенным– прихотью, к которой стыдно относиться всерьёз.
– Я не знала, что у тебя есть отец…
Воробей, словно притянутый её взглядом, вернулся на прежнее место.
Я смотрел, как запотевает бутылка, которую Вологолов достал из холодильника. Потом протянул руку и поставил эту вторую бутылку рядом с первой, выровняв обе их так, чтобы экспортные этикетки с красной полосой смотрели в одну сторону.
– И ещё одна есть? – спросил я.
Вологолов глядел на меня подозрительно, выпятив губу.
– Что?
– Бутылка.
Он не отвечал. Он ждал от меня подвоха.
– Ещё одна бутылка, – раздельно повторил я. – Вы ведь привыкли тремя бутылками расплачиваться. Я – электрической бритвой, вы – бутылками.
Он не понимал, о чем я, но чувствовал в моих словах скрытую злость. Широко расставленные глаза с белесыми ресницами слегка сузились. Я никогда раньше не замечал, что ресницы у него – белесые.
Перед тем как отправиться со Шмаковым в клуб, я брился, а он стоял рядом и глядел на мою электрическую бритву с преувеличенной завистью. Хихикая, принялся демонстрировать мне свой заржавленный станок. На нем застыла мыльная пена с вкраплёнными в нее волосками. Я узнал этот станок – им я впервые подбривал свои мальчишеские усики.
Тщательно почистив бритву, я опустил её в футляр и положил перед Шмаковым.
– Возьми себе.
Его глаза алчно загорелись.
– А ты… А тебе?
Не отвечая, я протирал одеколоном лицо.
– Три бутылки, – повторил я и, вытянув три пальца, несколько мгновений держал их так. Вологолов внимательно смотрел на них, словно надеялся увидеть что‑то кроме пальцев. – Столько вы заплатили Шмакову за его жену. Три бутылки «столичной». Запамятовали?
Напряжение сошло с лица Вологолова – он понял наконец и почувствовал облегчение. Какие более серьезные и страшные слова ожидал он услышать от меня?
– А ты знаешь, почему я так кузнечика наживляла? Когда на байдарке, помнишь? Ты говорил, что страшная процедура, а я наживляла, помнишь? Это я к работе врача себя готовила. Я врачом хотела стать.
Воробей снова перелетел на акацию. Он чистился, засовывая клюв под крыло, словно под мышку.
– А ты самый–самый умный из них! —порывисто сказала вдруг Лена. —Ты один не успокаиваешь меня. Не спросил, почему «хотела поступать», не сказал, что у меня ещё все впереди.
– Но я действительно так считаю…
Она напряженно размышляла о чем‑то.
– Ты… Вот ты скажи мне… Моя операция опасна?
Я ответил, подумав:
– Да.
– Ты самый–самый умный! – прошептала она. – Они все не понимают, даже мама, что так хуже. Они говорят мне, что совсем не опасно. Ведь так говорят людям, когда очень–очень опасно. А когда маленькая опасность, её не скрывают. Правду я говорю?
Она ждала ответа, и я кивнул, соглашаясь. Лена долго молчала.
– Я так и знала, что ты так будешь. Я ждала тебя. Знаешь, – прошептала она, приближая ко мне лицо с повлажневшими серыми глазами, —они никто–никто не верят, что выздоровлю, даже мама…
Я перебил её:
– Что ты говоришь!
– Одна я верю! Честное слово, верю! Ты думаешь, я потому платье шью, чтобы обмануть себя? Нет, я знаю, что я выздоровлю. Многие не выдерживают такой операции, а я выдержу! У меня предчувствие. Меня никогда предчувствие не обманывает. Я и весёлая потому, что знаю это. Я не притворяюсь весёлой, я правда весёлая. Ты не веришь? Посмотри на меня! Ты не веришь?
Её большой рот смеялся, показывая, какая взаправдашняя у нее радость.
– Весёлая, – подтвердил я. Мне показалось, она не расслышала моего хриплого голоса. Я наклонил, как лошадь, голову и повторил: – Весёлая.
Лена смотрела перед собой.
– Я никому ещё не говорила такое. – Она вдруг улыбнулась – какая‑то забавная мысль пришла ей в голову. – Знаешь, что я хотела тебе сказать? Ну, когда о юбке начала…
– Что?
Мгновение она молчала, ошеломленная тем, что вытворяет её язык.
– Дурочка какая! – прошептала она, засмеялась, стыдливо уткнувшись лицом в ладони, и почему‑то далеко под скамейку спрятала ноги.
До центра из больницы было далеко, но я шел пешком. Мимо, смеясь и болтая, двигались люди, которым ничто не угрожало. А она оставалась со своей болезнью один на один, в отчаянии взяв себе в союзники новое модное платье и испанский язык. Не существовало никого в нашем огромном мире, кто отвечал бы за эту несправедливость. Никого… И оттого, наверное, мир казался мне в эту минуту пустынным и незавершенным, в нем чего‑то не хватало, это было как дом без крыши – голые неодушевленные стены. Я не мог до конца постичь этого ощущения и отгонял его, а оно навязчиво возвращалось, как застрявшая в ушах нелепая мелодия.
– Тебе холодно? – не поворачиваясь, спросила Лена.
Я удивленно посмотрел на нее.
– Нет… Не холодно.
К нам приближались чьи‑то размеренные шаги. Из‑за поворота вышел закутанный в халат худой старик. Заметив нас, повернулся и медленно побрел обратно.
– Ты больше не приходи ко мне, – сказала Лена.
– Почему?
– Не приходи.
Я молчал, стараясь понять её.
– Я не могу тебе объяснить, – сказала она.
– Хорошо, – смиренно ответил я. Я чувствовал, что это не каприз и я обязан подчиниться.
– Ты придешь ко мне после операции.
– Но меня уже не будет здесь.
– Все равно… Ты придешь ко мне после операции. Я опять перестал существовать для нее, я был лишь доказательством в споре, который она вела с кем‑то недоступным для меня – таким же доказательством, как испанский язык и новое платье, заказанное у портнихи. Я был одним из залогов её будущего.
Маленький человечек с покрасневшей от напряжения льгсиной униженно твердит:
– Я знаю, ты не сделаешь этого! Я знаю, ты не сделаешь!
Подросток не замечает его, он на стороне любовника – не из‑за симпатии к нему, не из‑за принципа, а потому, что это ему выгодно.
Когда я добрался до вокзала, уже смеркалось. Я остановился. «Куда я иду?» На привокзальной площади густо двигались люди. Я вспомнил о чемодане и направился в камеру хранения.
Он торопливо входит в дом – спешит предупредить любовников об опасности. Они мило беседуют – он их союзник, и они не считают нужным таиться от него.
– С работы пришел, – бросает он. Ему неприятно говорить это – значит, в душе он понимает, как скверна его роль.
– Кто пришел? – весело и удивленно спрашивает женщина, его мать.
– Ну, кто приходит…
За глаза он больше не называет его отцом.
Я взял из камеры чемодан.
«А дальше? – подумал я. – Что дальше?»
Выходит, ничего не изменилось – как и год назад, я чувствовал себя рядом с Леной обманщиком, как и год назад, меня не покидало ощущение, что она принимает меня не за того, кто есть я на самом деле. Обнажая остренькие зубки, снова ухмылялся тот, прежний, Шмаков: «Так ты теперь стал чистеньким?»
Неужто все останется по–старому? Неужто я не сделал всего, что было в моих силах?
До отправления автобуса из Алмазова оставалось меньше часа. Я собирал чемодан. Шмаков следил за мной, оттопырив губу, на которой темнела зажившая царапина—след пиршества, когда он зубами сдирал с винной бутылки золотистую металлическую закатку.
– Ты чего? – пробормотал он, поняв, что означают мои сборы. – Ты чего?
После вчерашнего скандала в клубе он считал своим правом разговаривать со мной в несколько пренебрежительном тоне.
– Уезжаю, – сказал я. И прибавил: – У меня все равно нет больше денег.
Он не соизволил даже прикинуться оскорбленным. В его глазах это было вполне уважительной причиной: раз у меня кончились деньги – я должен ехать. Бесцеремонно напомнил он, что до пенсии ещё неделя, а у него ни гроша. Две рублевых бумажки, которые я положил на стол три минуты назад, он не считал уже.
Я сказал себе, что осталось меньше часа и я обязан выдержать. Я достал бумажник, прикинул, сколько нужно на дорогу, гостиницу и те несколько дней, что я намеревался прожить в Светополе, и положил рядом с рублями пятерку. Шмаков смял деньги и сунул их в карман.
– Ты мне адрес оставь, —сказал он.
Я вырвал из записной книжки листок и написал адрес. Догадайся он попросить у меня чемодан со всем, что ещё оставалось там, я отдал бы его, не задумываясь. Ведь я был так близок к своему освобождению!
Шмаков прочел адрес, держа листок обеими руками далеко от глаз и шевеля, как школьник, губами.
– Ты мне это… где работаешь, – проговорил он не очень уверенно.
Я закрыл чемодан и выпрямился. Он ждал ответа, но, не выдержав моего взгляда, блудливо отвел глаза.
– Тебе не придется жаловаться на меня, – сказал я. – Я буду высылать тебе деньги.
– Сколько?
– Не знаю. Сколько смогу.
Он хотел ещё что‑то сказать, но не решился, и глаза его снова забегали.
Я вышел с чемоданом на привокзальную площадь, все ещё не зная, куда идти дальше.
До скандала в клубе Шмакову и в голову не приходило прощать или не прощать меня – он просто не считал меня виновным, я был ничто в его глазах, обременительным приложением к женщине, которую он любил. Мой приезд явился для него необъяснимым и счастливым гостинцем, посланным судьбой, которая так скудно баловала его. Я старался сделать все, чтобы этот гостинец пришелся ему по вкусу, я выполнил свое намерение – так отчего же все осталось по–старому, почему тот, прежний Шмаков, живущий в моем сознании, никак не соединяется с нынешним, почему я не могу отделаться от ощущения, что это – два разных человека, и, как бы старательно я не замаливал грехи перед вторым – первому плевать на это? Он по–прежнему зорко следит за мной и, стоит мне на секунду забыться и почувствовать себя свободным и чистым – таким, каким видит меня Лена, – он тут как тут, ухмыляется крысиным ртом и напоминает, как я подленько бежал предупреждать любовников о возвращении человека, которого звал отцом.
Я переложил чемодан из одной руки в другую и направился к дому Вологолова. Гостиница не нужна была мне больше.
Сейчас, когда я уже в своем городе и пытаюсь разобраться в случившемся со мной, меня поражает – что все‑таки за мощная нематериальная сила влечёт нас к нравственной чистоте, как объяснить её неодолимую власть над человеком – ведь это не хлеб и не вода, без которых не может существовать наш биологический организм? И отчего так – чем полнее удовлетворяешь прихоти этой силы, тем с большей жестокостью требует она верности себе?
Странные мысли приходят мне в голову, когда я думаю об этом, но я даже Антону не посмею открыть их: я чувствую, как дико выглядели бы они, сказанные вслух.
Вологолов двигался вокруг меня, говорил что‑то и звал мать, но, кажется, мать так и не вышла. Я не помню ни как взял чемодан, ни как нес его по улице, но память прихотливо удержала момент, когда меня окликнули у железнодорожной кассы, от которой я отходил с билетом в руке. «Молодой человек, чемодан забыли». Голос был женским, и я даже запомнил эту женщину – пожилая, с круглым светлым лицом. С нею была девушка – обернувшись, я застал на её губах исчезающую смешливую улыбку.
–1 Спасибо, – сказал я почему‑то не женщине, а девушке, и она покраснела.
И ещё мне запомнилось, как медленно трогается поезд, а я одиноко сижу в купе, и мне безразличен город, который остается за окнами вагона.
Дальше—темнота, лишь какие‑то кусочки, в беспорядке застрявшие в памяти, и так до тех пор, пока я окончательно не очнулся и не обнаружил с недоумением, что уже утро, что я лежу в чистой постели, но это не кровать, а полка поезда, который торопливо везёт меня куда‑то.
– Три бутылки «столичной», – раздельно повторил я. – Запамятовали?
Вологолов пристально смотрел на меня.
– Что ты хочешь этим сказать?
–• Такие пустяки… – проговорил я. – Но почему именно три? Не четыре, не две, а три? – Мне и впраъду приспичило вдруг узнать, почему три. – А если б Шмаков запросил ещё две?
Вологолов вспыхнул.
– Мать права! Ты и впрямь не умеешь пить.
Я смотрел на свою рюмку, где ещё оставалась водка. Я подумал, что и в опьянении есть свой смысл – как раньше не понимал я этого?
Покачивающаяся занавеска на вагонном окне отсвечивала той особой болезненной бледностью, какую придает белым предметам раннее утро. На соседней полке, закутавшись с головой, спал кто‑то – мужчина ли, женщина… Я осторожно встал и вышел в коридор. Нажимая снизу на кнопку никелированного крана, нацедил в стакан противной теплой воды.
Вологолов взял салфетку и вытер ею запястье руки. Салфетки были веером раздвинуты в высоком стакане из тонкого розового стекла – как в ресторане.
Утром, трясясь в раскаленном автобусе, увозящем меня из Алмазова, я безрадостно и устало праздновал победу. Прошло несколько часов, и победа превратилась в поражение: я понял, что никогда не обрести мне того внутреннего достоинства, в котором доживает свой век Федор Осипович.
– А ты вспомни, – сказал вдруг Вологолов, – не ты ли первый хотел бежать из Алмазова? Шмаков предлагал тебе вернуться – что же ты?..
– Перестань, Семен! – оборвала мать.
На широких скулах Вологолова пульсировали желваки. Он снова взял салфетку и вытер ею то же место на запястье.
– Совесть заговорила, – процедил он. – Самые страшные люди – кристально честные. Убийцы из них выходят.
Мать резко повернулась к нему, и раскосые глаза её блеснули, но она не проронила ни слова.
Я сидел, ссутулившись и положив локти на стол.
– Может быть, вы и правы, – проговорил я. —Но я ведь никого не обвиняю. Ни вас, ни мать. Ни даже Шмакова.
– Ну и себя нечего обвинять, – примирительно сказал Вологолов. – Давай‑ка выпьем лучше.
– Я и себя не обвиняю. – Мысли разбегались, и мне было трудно сосредоточиться. – Вы водкой от Шмакова откупились, а я бритвой хотел. Электрической. Потому что товар, который я приобретал, имел в моих глазах более высокую цену.
Я не видел и не слышал, как встала мать—её движения всегда были по–кошачьи бесшумны. Она сильно ударила меня по щеке. От неожиданности я задел локтем тарелку. Она звонко разбилась.
Вагон спал, за окном летели не зеленые, а какие‑то темно–серые, унылые леса. Мелькали бетонные опоры – значит, нас тянул уже электровоз. Я прижался лбом к холодному стеклу.
«Мой товар имел более высокую цену».
Мать вошла в номер легко и непринужденно, элегантная в своем спортивном платье, но дыхание её было утомленным. Она бросила все дела и помчалась ко мне, едва я позвонил.
Вагонное стекло, к которому я прижимался лбом, нагрелось, и я отнял голову. Пошарил по карманам, ища сигареты, затем тихо прошел в купе, но и в пиджаке сигарет не оказалось. Тягостное, непривычное ощущение похмелья…
Мать затягивалась часто и глубоко, и волосы её были не распущены, как обычно, а подобраны, схвачены приколками и обнажали немолодую желтоватую шею.
В кухне запахло дымом. Вологолов встал и открыл форточку. Он давно уже бросил курить – берег свое здоровье.
Девятилетний мальчик играл в шашки со своим будущим отчимом, они шутливо переговаривались, а мать молчала, глаза её были опущены, и только иногда она раскосо взглядывала на нас. О чем думала она в эти минуты? Шмаков был самым старым и самым скучным из её поклонников, но это был единственный человек, который соглашался поставить свою фамилию и свое имя в голую метрику её сына.
Где‑то в купе заплакал ребенок – все громче, отчаянней, но неожиданно и резко смолк. Я снова машинально похлопал по карманам. Курева не было. Я смиренно положил руки на деревянный поручень, отполированный ладонями неведомых мне пассажиров.
Приложив ладонь к щеке, по которой ударила мать – ладонь была приятно холодной, – я смотрел на белые осколки с золотой каймой. На одном осколке невредимо краснела помидорная долька с белой луковичной дужкой.
– Ничего, – проговорил Вологолов и, кажется, впервые за весь вечер его голос прозвучал дружелюбно и довольно. – Мне тоже перепадало…
Он оказался возле меня, внизу, на корточках, и я увидел, как толстые рыжие руки осторожно подбирают осколки.
– Все уладится. Она как порох. Все уладится…
От торчащих бобриком волос исходил парикмахерский запах «шипра».
Хлопнула дверь в тамбур. Проводник, поеживаясь, возилась с титаном.
Как неуютно и душно жить матери в этом большом доме среди золотых каёмок и по–военному строгого режима! Вологолов выходил из себя, если садились обедать на четверть часа позже.
Хорохорящийся и жалкий Шмаков, долгое смирение, отчаяние, потом – надежда, усилие, рывок – и рядом с ней – безукоризненно одетый памятник себе, который даже в ванне не забывает о режиме и моется ровно столько, сколько отмеривают специально купленные для этого песочные часы. И теперь уже – никакой надежды впереди, никакого выбора…
«Мой товар имел более высокую цену».
Вологолов осторожно отодвинул в сторону черепок, на котором краснела помидорная долька, и взял его последним, положив сверху собранной из осколков пирамиды. Потом все унес в коридор. Через некоторое время он возник сразу за столом, на прежнем своем месте, с рюмками в обеих руках. Одну рюмку он протягивал мне. Я поднялся и надел пиджак. Вологолов двигался вокруг меня, говорил что‑то и звал мать, но мать так и не вышла.
Поезд шел по высокой насыпи. Поодаль, внизу, скученно светлели в зелени домики – миниатюрная. копия Алмазова. Удивительно – я совсем не думал о Шмакове; от вчерашнего отчаяния, обрушившегося на меня, когда я ушел от Лены, не осталось и следа.
Что‑то глухо ударилось. Я рассеянно повернул голову. Проводник, держа на весу ведро, выгребала из титана золу.
По ту сторону больничного забора, громко разговаривая, прошли невидимые люди.
– Ты только маме ничего не говори. Что я тебе здесь… Скажи – Ленка весёлая.
– Я уже не буду у вас. Я уеду завтра.
Лена, не поворачиваясь, грустно улыбнулась.
– Антошку увидишь…
– Он приедет в сентябре, – сказал я.
Она думала о своем и, кажется, не услышала моих слов.
Скрипнула дверь. купе, вышел заспанный мужчина в майке и полотняных шароварах.
– Извините, – сказал я. – У вас не найдется закурить?
Он неохотно вернулся в купе и вынес пачку сигарет. Прикуривая, я заметил, что мои пальцы дрожат.
Какая‑то странная мысль мелькнула в голове у меня, когда пролетали мимо деревушки, (напоминавшей м«не Алмазово… Я не помнил этой мысли, но у меня осталось ощущение, что мысль была новой и непустячной.
У калитки Шмаков догнал меня и, торопясь, пошел рядом.
– Я сам, – сказал я. – Не надо провожать меня.
Но Шмаков, неожиданно утративший наглость, с которой минуту назад требовал денег, отрицательно мотнул головой. Он пытался взять у меня чемодан. Я переложил его в другую руку.
– Я сам… Он не тяжелый.
Мы вышли на улицу. Она была пуста. Шмаков, заправляя в штаны свою залитую вином нейлоновую рубашку, семенил рядом.
– Успеем! Автобус задерживается всегда… Чего скоро так – пожил бы. Курицу зарежем, на обед… Одна все равно, ни туда ни сюда. Зарежем… Я вчера ещё решил. Она жирнее, чем вчерашняя. И на дорогу не поел…
«Сейчас – все, – твердил я себе. – Ещё пять минут и – все».
Затягиваясь, я ощутил пальцами приближающийся жар – сигарета кончалась. За окном мелькали, громыхая, вагоны встречного товарняка. Я чувствовал, что непременно должен вспомнить свою мысль, что для меня это очень важно.
У автобуса я остановился, взял чемодан в левую руку, а правую протянул Шмакову. Но он, поднявшись на цыпочки, торопливо обхватил мою шею, и его губы ткнулись в мое лицо. Я мягко высвободился из его объятий.
В автобусе все бесцеремонно разглядывали меня. Я пробирался между плетеных корзин к заднему сиденью. Едва сел, в окно негромко забарабанили, я повернулся и увидел Шмакова. Он растерянно улыбался, нос его подрагивал, а темные пальцы двигались, не касаясь стекла. Я прощально поднял руку. Шмаков тотчас же встрепенулся весь, словно собака, которой показали лакомство. Он не спускал с меня глаз и улыбался жалко и преданно, обнажая остренькие зубки.
Наконец двигатель заработал, но прошло несколько долгих секунд прежде чем мы тронулись. Шмаков шел, заворожённо глядя на меня, и я с беспокойством думал, что вот сейчас он споткнется и упадет.
Набирая скорость, автобус натужно взбирался в гору. Шмаков оцепенело стоял посреди широкой и пустынной деревенской улицы. Он все ещё махал мне.
И вдруг я вспомнил так поразившую меня мысль. Это была мысль о том, что я совсем не думаю о Шмакове, что я о нем вспомнил, когда лишь мелькнула за окном похожая на Алмазово деревушка. Призрак, от которого я так старательно, но тщетно пытался избавиться, неожиданно покинул меня. И это после того, как накануне вечером я с отчаянием уверовался, что Шмаков– тот, шрежний, когда‑то преданный – нами —будет преследовать меня вечно, что никакими добрыми делами не откупиться от него, что даже самая стойкая праведность не в силах искупить прошлого – напротив, она воскрешает его, и чем честнее ты сегодня, тем безобразней предстает перед тобой однажды содеянное. И вдруг – ничего этого нет, я помню свое давнее предательство, но оно больше не трогает меня, я вижу лишь мать, её немолодую шею, слышу свои резкие, как пощечина, слова, все это давит на меня, но зато Шмаков утратил надо мною свою власть, он не тычет в меня коричневым пальцем, уличая меня и издеваясь над моей добропорядочностью, он совершенно доволен мною.
В марте Тая снова пригласила меня на каток. Я отказался, неуклюже сославшись на дела. Тая смотрела на меня ласковыми добрыми глазами – на мой лоб, волосы, глаза.
– Дурачок ты… Я тогда неверно говорила, что ты взрослый, старше Тимохина. Ты ребенок… Тимохин старичок, а ты ребенок. – Я молчал, и она прошептала вдруг: – Взрослей скорей! А то поздно будет – пожалеешь!
Лицо её вблизи показалось мне лицом незнакомой женщины —грубоватое, откровенное, с глубокими и темными глазами. И она тоже смотрела на меня так, словно с трудом узнавала меня.
Автобус поднялся в тору, и я в последний раз взглянул на Алмазово – внимательно и с беспокойным ощущением, что я, быть может, не понял что‑то, чего‑то не доглядел…
Нестерпимо горячим и едким стал дым, я посмотрел на окурок и сунул его в пепельницу между вагонными окнами. Пальцы попали во что‑то мягкое и сырое. Я отдернул руку. Пепельница была доверху набита почернелыми огрызками яблок. Я с удивлением отметил, что не испытываю того мощного прилива брезгливости, от которого раньше содрогнулся бы весь.
Император выхлопотал Тимохину путевку в санаторий– в благодарность ли за его помощь или просто беспокоясь о здоровье человека, на. которого бессовестно свалил все, что должен был делать сам. Борьку на лето отправили к бабушке, и Тая осталась одна. Встречаясь с нею, я непринужденно здоровался, но непринужденность была деланной – пожалуй, Тая чувствовала это не хуже меня.
Она часто уходила по вечерам – нарядная, яркая – и меня задевало это, хоть я и твердил себе, что мне плевать, как проводит время жена Миши Тимохина. В такие минуты я злился на Мишу, и он уже казался мне не добрым чудаком, а безвольным – глупцом, полумужчиной, лишённым самолюбия. Я ловил себя на желании выйти в коридор и тихо постучать в дверь Таи. Мне рисовалось, как, открыв дверь, – молча, не спросив, кто это, – она пытливо посмотрит на меня и отступит в сторону, чтобы я прошел.
Я был рад, что скоро уезжаю и что увижу Лену. Я много возлагал на эту поездку.
Хлопнула дверь в тамбуре. Я обернулся. Мужчина в полотняных шароварах возвращался к себе в купе. Я смотрел на его помятое со сна, безмятежное лицо, и во мне незнакомо шевельнулось ощущение какого‑то темного превосходства.
– Извините, – сказал я. – У вас не найдется ещё одной сигареты?
Он опять ни слова не ответил, вошёл в купе и вынес пачку, но я почему‑то не шагнул к нему навстречу, как раньше, а остался на месте, и он сам подошел ко мне. Когда я брал сигарету, он что‑то сказал, я не расслышал и вопросительно посмотрел на него.
– Не спится? —повторил он хриплым утренним голосом, и заспанные глаза его сощурились в улыбке.
Я рассеянно кивнул, соглашаясь и одновременно благодаря его, и отвернулся к окну.
– Мария! – крикнул Вологолов, когда я был уже в коридоре. – Он уходит… Мария!
Дверь в спальню была открыта. Мать сидела в кресле. Она в упор смотрела на меня. Она не верила, что я уйду так, уеду – не попросив прощения, без единого слова.
Я толкнул дверь и вышел в темноту.
Недалеко от насыпи круто поднимался откос, заросший кустарником. Мелькали овраги.
Так вот что надо было сделать, чтобы освободиться от Шмакова! Но ведь он не навсегда оставил меня, он дежурит неподалеку – и, вздумай я жить по–старому, он тотчас явит себя – коря, обличая, напоминая, кто есть я на самом деле. Только теперь ещё к нему присоединится мать – не та, какой я знал её всегда – замкнутая, своевольная, молодая женщина, а вчерашняя, с заколотыми волосами и дряхлеющей шеей.
Неужто единственный способ забыть, как низко пал ты однажды – это упасть ещё и ещё раз, и так до бесконечности?
– Миша ничего, – живо ответила Тая. – Кстати, просил письмо тебе передать.
Мы стояли в коридоре, который казался сумеречным после яркого солнца – одни, друг против друга. На ней был белый костюм и широкополая летняя шляпа. Под расстегнутым жакетом выпукло белела в полумраке эластичная тонкая блузка.
Я спросил, когда она получила письмо.
– В четверг, – ответила она и достала ключ. – Или в пятницу—не помню точно.
Я подумал, что уже понедельник…
– Он просит о чем‑нибудь?
– Кажется, о работе что‑то – я не поняла.
Сверху пробивался, серебря пылинки, луч солнца. Он падал ей на шею, на то место, где шея плавно и нежно переходит в плечо.
Она открыла дверь, и в коридоре стало светлее.
– Зайдёшь? – просто спросила она. – Я письмо дам.
Из‑за двери Федора Осиповича доносился самоуверенный голос его племянницы. Я вошёл в комнату.
Итак, я убедился, что совесть не лист курсового проекта, .который из‑за случайного пятна можно перечер–тить набело. Но я убедился и в другом: пятно трогает куда меньше, если чертеж замусолен и посредственен. Разве не знал я этого раньше?
Поднявшееся над лесом солнце било сбоку в окна поезда.
Я подумал, что до возвращения из санатория Миши Тимохина ещё целая неделя.
Я прикрыл за собой дверь. Тая неторопливо сняла шляпу. Лицо её было матовым от загара. Она поправила волосы – небрежно и просто, как это делают при близком человеке.
В вазе стояли белые розы. Мне было неприятно смотреть на них. Я глупо огляделся, словно впервые был здесь.
– Миша спрашивает, как Федор Осипович. По–моему, ему лучше, да?
Её глаза смотрели правдиво и сострадательно.
– Лучше…
– Я напишу Мише.
Она взяла с этажерки. конверт и, подойдя близко ко мне, протянула листок, исписанный бисерным почерком Миши Тимохина.








