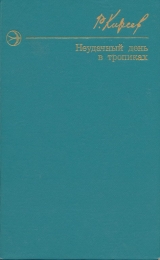
Текст книги "Неудачный день в тропиках. Повести и рассказы."
Автор книги: Руслан Киреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Закон подлости – сегодня он царствует. Промысловики канючат из‑за воды: сами пустяк варят, несколько тонн в день, а танкера не заходят сюда: отшибной промысел. Но их восемь судов, а «Памир» один – приходится строго регламентировать воду. И вот, пожалуйста: летит один из двух опреснителей. Когда же ещё ему лететь, как не сейчас? Пятьдесят тонн воды в сутки…
Сурканов обернулся (увидел отражение в никелированной поверхности), но не объяснил—продолжал делать. Стармех, сопя, всматривался. Он знал, как нервирует, когда суются с вопросами или советами – помалкивал. Была б вахта третьего или даже второго – его, по сути, заместителя – не вытерпел бы, влез, но четвертому верил стармех. Куда только девается его цыганская горячность?
С кряхтеньем присел Рогов на корточки, заглянул через плечо, но не близко: вспомнил, что выпил и пахнет. Вентиль ослабляет, так… А воду перекрыл? Ошпарит ведь. Сдержался, не напомнил. Оскорбительно для механика, когда напоминают такое.
Сидеть на корточках было трудно – живот мешал, да и зад, туго обтянутый парусиной, тяжел – вниз тянет. Обперся о колени, встал. Кажется, ничего серьезного – с прокладкой что‑то. Другой вахтенный механик непременно доложил бы – разыскал, пусть даже и у чифа, попросил указания. С «водой туго – сам не посмел бы и на полчаса – выключить опреснитель. И правильно: разве не требует он немедленно сообщить о малейшей неполадке? Этот не стал, но Рогов не сердился на него. Непослушание, а – не сердился. И Сурканов принимает это как должное. Даже не замечает его, будто вовсе и не стармех он, а так, мебель. Знает, цыган проклятый, что любят его, —верят и любят.
Когда прошлым рейсом—сумасшедший рейс! – домой шли, исподволь, но неусыпно контролировал Рогов механиков: не выходят ли из режима? Всех измотало, вместо полутора месяцев куролесили два, и когда снялись наконец с промысла—только и мысли, что о доме. Так всегда, конечно, но в тот раз – особенно. На стармеха давили: штурмана, первый, радисты – все. Дед – перестраховщик, сквалыга – дед, может ведь узел–полтора прибавить – жмётся. Полушутя вроде давили, но с прицелом, Рогов же прикидывался, что не понимает прицела, отшучивался – в тон. Подобными штучками не возьмёшь его – четверть века плавает, но за механиков опасался: устоят ли? Тоже ведь люди, тоже по берегу истосковались. Присматривал – за третьим, за вторым (ночью вставал!), а Сурканову верил. Цыган умрет скорее, чем обидит машину. И откуда только в его степной крови это понимание техники, эта нежность к ней? Уже в этот рейс, планировал стармех, пойдет Сурканов третьим – не вышло: на живое не поставишь место.
– Как там «Альбатрос»? Много ещё?
Сказал и понял: умница (он, Рогов) —это‑то и надо было сказать. Именно это! На вахте чуть не авария, а стармеха не она беспокоит, а горючее. Уверен, стало быть, в механике. И сейчас же кольнуло: а – вот там, у чифа, несправедлив был и не умница…
– Тонн семь ещё. – Ответил, не оглядываясь, ровным голосом—в пустоту. Черепаху простить не может? Цыган, зараза, ему б резать только! Но вот ведь знает, сколько тонн – с упоением и гордостью за Сурканова подумал Рогов. И не для меня знает– разве учтешь все, о чем спросить вдруг взбредёт на ум стармеху! – для себя. Хозяин! А третий шиш бы ответил, минутку, сказал бы, позвоню донкерманам.
Рогову нравилось следить за смуглыми точными пальцами Сурканова, но нельзя же стоять вот так над душой, сопеть или даже не сопеть – все равно, и он отошел. Задержался у вспомогательных двигателей, послушал. Сурканов тоже хорошо к нему относится, с уважением. И не потому, что стармех – на стармеха ему плевать, не боится он стармеха, вообще никого не боится, а потому что знаю больше. Правда, и задевает это: как так больше его, цыгана, знают! Горд, чересчур даже – это в крови у него.
И опять, как ни уводил себя «в сторону, прорвались в памяти давнишние Петькины слова: «Я сам, Михал Михайлович. Не подсказывайте мне, я сам». Рыжее, выпачканное в масле, кривоносое лицо… Все это время– и когда за спиной Сурканова стоял, и сейчас – сторожил его Петька Малыга. Вот так ведь и он когда‑то был, так же восхищался им Рогов и верил в него, и мог с кем угодно биться об заклад, что механик из него выйдет первоклассный. «Было так или не было?» – спросил себя честно Рогов и честно ответил себе: было. Ошибся, выходит? А сейчас опять и восхищаешься, и веришь, и готов из‑за цыгана об заклад биться – не так разве? Снова ошибаешься?. Нет, сказал себе Рогов, не ошибаюсь. И тогда не ошибался, нечаянно подумал он и запнулся в мыслях своих – так нелепо прозвучало это. Там, наверху, сидит живой Петр Малыга – ты видел его, ты слышал его, неужто тебе недостаточно этого? Недостаточно, сказал себе Рогов. Я ничего не знаю о нем, я даже не знаю, почему он не плавал четыре года, а ведь такое не бывает беспричинно. Что могло случиться? Рогов напрягал фантазию, но ничего не приходило на ум —хила его фантазия и бесцветна. Это ему ещё сын говорил – давно, когда начал вдруг ни с того ни с сего сочинять стихи, а отец недоумевал и сердился: складно, но зачем это? Тогда Аркашка прочел ему чужие стихи, но не сказал, что они напечатанные, и Рогов тоже поругал их. Это успокоило сына. «У тебя просто нет фантазии, пана».
Что там Сурканов? – но не шел, терпеливо томился у пульта, хотя сосало под ложечкой: оставаясь здесь лишние минуты, подвергает он Петьку опасности. Дикость, конечно, но сосало, однако как мог он покинуть машину, не убедившись, что с опреснителем порядок? Как ни верит он своему четвертому – не выдержит, позвонит, или сам ещё раз спустится, а это Сурканова заденет.
Когда наконец Сурканов вышел, спрашивать не стал, другое сказал:
– Черепаху‑то жаль? – с насмешливостью.
Сурканов тоже подошел к пульту, взглянул.
– А чего её жалеть? Мы другую зарезали.
Ну и слава богу! У стармеха от сердца отлегло… Любуясь, глядел сбоку на матовое красивое лицо с белой полосой зубов.
– Меня‑то угостишь?
Сурканов не поворачивался и смеялся.
– А уже съели все.
Мстит!
– Меня должен угостить.
– Почему? – Уже не на пульт смотрит, просто не поворачивается – дразнит.
– Стармех потому что. Все ведь от меня зависит. Возьму да не дам отпуск летом.
Сурканов обернул наконец свое круглое, смеющееся, незлопамятное лицо. Все, делать здесь нечего больше… Ещё побалагурил, хотя мыслями уже наверху был (не сбежит ли Петька там?). Уходя, предупредил, как бы между прочим, что – в случае чего – он у старпома.
10
А салат неплох – омары, сразу видать, не крупные, а если и крупные (на Джорджес–банке до полуметра вымахивают), то мясо не из кончиков клешнёй, где оно слежавшееся и жёсткое. В этом Рогов толк знал. Вот так и сиди себе, щелкай креветки, салат смакуй – ты ведь любишь покушать, стармех… Конечно, так оно и было (гурман, сладкоежка, обжора), но он вдруг ловил себя, что жуёт машинально, и даже не знает толком что: салат ли, креветки или ноздреватый сыр, нарезанный тоненько и ровно. И при этом он не был так уж поглощен разговором—говорили, в основном, они. Он даже тогда промолчал – засопел тихонько, но промолчал, – когда Петр Малыга, отвечая на вопрос Антошина о команде «Альбатроса» —есть ли интересные люди? – уклончиво и унизительно для команды пожал плечами. Рогов понял, что точно так пожал бы он плечами, будь в команде «Альбатроса» и он, Рогов.
Говорили о книге, о которой и об авторе которой он не слышал, но он и не делал вид, что слышал и знает или хотя бы что ему интересно, жевал себе, а время шло, и он начинал тревожиться: успеет ли? Полчетвертого– полдник, а там подвахта до восьми…
Выпил с ними полрюмки, долго занюхивал сыром. Прежде чем сунуть сыр в рот, проговорил тихо и отчетливо:
– А все же почему училище бросил?
Потянулась пауза, точно он неприличное сказал.
Рогов, медленно жуя, глядел на Петра, а тот – со склоненной набок головой, рассеянно изучал пустую рюмку.
– Да как вам сказать, Михал Михайлович/Разонравилось.
Кажется, он не закусил даже, но Рогов не позволил себе отвлекаться на это.
– Плавал три года – нравилось, учился три года – нравилось, и вдруг – разонравилось?
Антошин осторожно хрустнул креветкой. Как видите, я помалкиваю и вмешиваться не собираюсь, так что не обращайте на меня внимания, господа. Ворошите свое прошлое, раз уж вам угодно это. «Угодно!» – зло сказал про себя Рогов.
– Михал Михайлович. – Сейчас гадость скажет, подумал стармех. Петька никогда не говорил ему гадостей, но сейчас – скажет, и толстое лицо его стало медленно наливаться кровью; взгляда, однако, не отвел. – Я вас очень уважаю, Михал Михайлович… Вы мой первый учитель. Больше чем учитель. Я ведь хорошо помню, как жил у вас, когда в порту стояли. И Клавдию Сергеевну помню… – Сейчас, сейчас скажет. – Но я не понимаю. Извините, что я скажу это… Вы двадцать пять лет плаваете, больше даже, и все одно и то же. Форсунки, передачи, датчики… Неужели вам никогда не надоедает? Впрочем, вы любите технику, я знаю. Тут я завидую вам.
Антошин – это он, ой! Последняя фраза выдала, Рогов узнал её, это его, Антошина, фраза. Завидую… Кто же, интересно, тебе мешает?
Не только к Петру относилось это «тебе», но и к Антошину, к некоему среднему человеку, который объединял в себе и чифа и Петра Малыгу.
– По–моему, когда‑то ты тоже любил. Если нет, зачем в училище поступал?
– Мне казалось…
– Что тебе казалось?
Петр поднял голову и посмотрел в глаза Рогову.
– Казалось, что люблю.
– А потом перестало казаться? – Стармех наступал.
– А потом перестало. – Но взгляда не отводил: давайте спрашивайте, на все отвечу.
– И что же теперь тебе кажется? – спросил Рогов.
Антошин аккуратно хрустнул креветкой, и этот хруст, сама эта аккуратность хруста были как снисходительный и насмешливый комментарий к настырному допросу Рогова.
Малыга сказал:
– Теперь ничего не кажется.
– То есть? Ты ведь плаваешь.
– Ну и ито? – Петр понимал его, Рогов мог поклясться, что понимал… Связь была между этим притворным «Ну и что?» и тихим хрустом расщепляемых креветок. Опять они вдвоём были, а Рогов один. Он ненавидел чифа.
– Разочаровался, значит? Цель жизни ищешь?
На Петра смотрел, но слова эти – не ему, Антошину: ,в прошлом рейсе говорили то ли о цели жизни, то ли о чем подобном, – спорили, но тогда это был отвлеченный спор, упражнение, сейчас же – нет. Вот он, Петр Малыга, живое воплощение разрушительных теорий старпома.
В застоявшихся Петькиных глазах мелькнуло любопытство, но погасло, и он сказал без интереса:
– Раньше вы вроде не думали об этом.
Рогов не понял.
– О чем?
Усмехнулся Петр Малыга, но взгляда не поднял.
– О цели жизни. И прочем.
– Я и сейчас не думаю. Я работаю.
Петр задумчиво – вертел рюмку.
– Я это знаю. Работать вы умеете.
– И свинью никому не подкладывал! —неожиданно для себя брякнул Рогов: сорвался. Поязвительнее хотелось сказать, ударить побольнее – не столько Петра, сколько Антошина.
Теперь Петька не понял.
– При чем здесь свинья?
– А при том! Не понимаешь? Чист? Цель жизни… или что ты там ищешь, а. вреда, дескать, никому от этого. Так, да? А – кто чужое место, в училище занимал?
Поладают‑таки в цель его слова, щекочут. Для постороннего это, может, и неприметно, но он‑то уж знает Петьку: глаза сузились, медленно, напряженно пополз кадык.
– Я свое место занимал. Не за взятку туда поступал и не по блату.
Все же он задел его, растормошил, и теперь Петька снова был его – не Антошина, а его.
– Я не говорю, что по блату. Но три года отирал место, которое другой мог занять. Жизнь кому‑то испортил– ты не думал об этом? Человек мечтал на механика выучиться, а ты его место занял. Влез. Ни себе, ни людям. Собака на сене! – Побольней, побольней!
Но Петька уже угас. Проговорил с безразличием:
– Вы же мне сами со–ветовали поступать.
– Я виноват? – Рогов не сдавался, хотя чувствовал: Петька опять ушел от него. – Не отказываюсь: советовал. Даже настаивал, если помнишь. Потому что верил. в тебя, дурака! Верил, что из тебя механик выйдет.
Петька не подымал глаз.
– Я тоже так думал.
Рогов схватился за это прошедшее время.
– Почему – думал? Почему – думал? – В конце концов, юркнуло в голове, ещё не поздно, ему только тридцать, но стармех суеверно отогнал от себя эту торопливую мысль, эту преждевременную и ликующую надежду. – Почему поздно? – сердито спросил он и смолкнул, спохватившись. Не «поздно», нет. «Почему – думал?» – хотел, но оговорился и. выдал себя, свою запретную мысль выдал. И ещё эта испуганная пауза…
Стармех заговорил – бурно и бессвязно, стараясь загладить, увести, как птица от детёнышей уводит.
О машине говорил – если правильно понял, скучны ему нее эти форсунки, передачи. Скучны, да? Как же смеет он о машине так? Ма–ши–на. Это ведь тот же человек, но человек может сказать, что болит у него – печень, рука ли, а машина – нет. Её понять. надо. Она вся перед тобой – вот, вся, делай с ней что хочешь…
Петр слушал рассеянно.
– Вы не правы, Михал Михайлович. Я считаю, что поступил честно. Из меня б не вышло хорошего механика. Я ушел из училища, как только понял это.
– А раньше не понимал?
– Раньше не понимал.
На мгновенье это обескуражило Рогова.
– А если опять поймешь?
Петр Малыга грустно покачал головой.
– Нет.
– Почему? – спросил Рогов и почувствовал, как глуп и ненужен этот вопрос.
– То есть, может быть, и да, может быть, пойму, как вы говорите, но только это будет не техника.
Не техника… Это прозвучало, как оскорбление, – но стармех Рогов перешагнул через самолюбие.
– Что же тогда это сбудет?
– Не знаю. Может быть, ничего. – И вдруг, подняв глаза: —Вы ведь ничего не знаете обо мне, Михал Михайлович. Для вас я шалопай, бездельник, порхаю по жизни, как бабочка. Но ведь вы ничего не знаете обо мне – ничего. Я эти четыре года, пока не плавал, кем только не был! И на стройке, и фотокорреспондентом в газете, даже на станции юных техников… Видите, опять с техникой, только теперь уж наставником. Вроде вас, – прибавил он усмешливо. – Вы, конечно, опять осуждаете меня: какое я имел право – наставником? Я‑то! Ну что ж, я ушел. Вот плаваю теперь. Пошел, потому что деньги нужны. И тоже уйду. Вернёмся в мае, и уйду. Не нравится мне плавать. Ничего мне не нравится. Вот летом в торговый собираюсь поступать, на внешторг. Поступлю, наверное, – учеба даётся мне. А вдруг опять не то? Ну что вы мне прикажете делать? За борт броситься? Жалко. Подумаешь, какие женщины на берегу, и жалко. – Рогов не перебивал. Женщины – не тут ли собака зарыта? Петька всегда был жаден до них. Но – .не перебивал. – Вот женщин мне нравится любить. И они меня любят, не знаю за что только. Сейчас опять пачку писем получил, вы привезли.
Он умолк, и Рогов, подождав, проронил негромко и язвительно:
– Не можешь найти себя?
Петр молчал. В тишине хрустнула креветка.
– И долго ты намерен искать себя? Всю жизнь?
– Может быть, и нею жизнь.
Почему‑то сидел он теперь не за столом, не за самым столом, а на расстоянии, как подсудимый (когда и как умудрился отодвинуть массивное кресло – настолько массивное, что даже в шторм можно не приковывать к палубе – не сползет?); понурый сидел, мысли далеко, и один глаз прикрыт ниже другого: отяжелевшее, как у старика, веко. Раньше – не было… Рогов нахмурился и отвел взгляд.
– Вы счастливый, Михал Михайлович. Вы нашли себя, и не только в работе.
Стармех спросил, сердясь:
– В чем же ещё?
– Во всем. – Будто клещами из него тянули. – И в вас этого так много, что и на других хватает. На меня хватило, во всяком случае. У меня ведь не было… – он поднял глаза, признаваясь, – этой самой любви к технике. От вас это. Вы заразили меня.
Сквозь досаду – на Петьку ли, на Антошина, на себя ли – приятным полоснуло – как зарница в ночи, но Рогов отогнал это.
– Не сифилисом же заразил.
Петька не улыбнулся.
–• Будь вы не механиком, а… – Он поискал. – Поваром, например, я бы в повара пошел. Камбузником бы плавал с вами.
Тут уже темное метнулось, обидное, и это Рогов отгонять не стал.
– По–твоему, для меня все равно? Что коком, что механиком, что… – Он тоже поискал, но ничего не придумалось, и ляпнул: —Что ассенизатором. Просто исправный работничек, которому что ни делать, лишь бы делать. Голодным не сидеть. Так я тебя понял?
Петр ответил терпеливо:
– Нет. Я ведь для примера сказал, хотя… – Он замолчал, и Рогов напрягся весь, ожидая, что же такое это «хотя». – Хотя, может быть, так оно и есть. – Стармех побагровел. Этого он не ожидал от Петьки. Тот заторопился, объясняя: —Как вам… Ну вот, например, я знаю Клавдию Сергеевну и знаю, как вы относитесь к ней. Она очень хорошая женщина, и вы очень хорошо относитесь к ней. Но ведь у вас могла быть и другая жена. И я уверен, что вы относились бы к ней так же. Потому что это – в вас самом. А во мне – нет. Когда я поступал в училище, я искренне поступал, мне нравилась техника, но это ведь не мое было —ваше, и я вам благодарен, что вы хоть что‑то вложили в меня. Но и Евгению Ивановичу я благодарен.
Рогов опустил глаза. Оправдалось‑таки его предчувствие: Антошин во всем виноват. Взял ложку, чтобы положить салата, но увидел, что салат есть в его тарелке, не стал. Трудно было говорить теперь, потому что выходило: не с Петькой спорит, а доказывает, задетый за живое, что ему, стармеху Рогову, Петька должен быть благодарен больше, чем Евгению Ивановичу, хотя тому‑то за что? Не спросил этого, но Петька понял. Помолчав, объяснять стал – что‑то такое про отпечатки пальцев. Теперь уж из него не тянули клещами– сам говорил, убежденно, веря, и Рогов, ещё даже не вникнув, по одной лишь интонации, понял с бессильным чувством побежденного, что учитель‑то вовсе не он, а этот. Все сразу стало на свои места, сошлось и пригналось друг к другу: и почему Петька не к нему пришел, а к Антошину, и королевская креветка, и что Петька водку сам разливал – как дома, как в каюте у себя. Все сошлось… Стармех сидел неподвижно – очень толстый, очень усталый, лишний здесь.
Отпечатки пальцев… Чиф и ему говорил об этом. Как не существует двух одинаковых отпечатков, так нет на земле двух одинаковых людей – все разные, у каждого свое что‑то, неповторимое, и раз уж ты явился в мир, то обязан отыскать это «свое» и жить в согласии с ним.
– А механик для тебя, значит – не свое?
– Я не о специальности говорю, Михал Михайлович. – Оправдывается! Профессиональное самолюбие щадит. Мальчишка! – Свое – это не только специальность. Это все. Вам это трудно понять, потому что… вам это не надо понимать. У, вас есть это.
По головке гладит!
– Ещё бы! Слишком туп, чтобы понять. Читал мало. В абстрактной живописи не разбираюсь.
Петр промолчал, и молчание это было оскорбительным. Так занудливым старикам уступают, потеряв надежду переубедить их, да и не желая.
Антошин отодвинул тарелку с горкой вылущенных панцирей, бережно вытер пальцы накрахмаленным полотенцем. Сейчас скажет что‑то, подухмал Рогов, и все заранее в нем радостно запротестовало.
– Если позволите, я вмешаюсь в ваш разговор. – Стармех не пошевельнулся даже. Как кукла, глядел перед собой, ждал. – Петр много рассказывал мне о вас, Михал Михалыч. Когда ещё мы только познакомились с ним. Если не ошибаюсь, это была его первая практика. И последняя.
Последняя! Третий курс, впереди ещё практики, но уже не для Петра они – Евгения Ивановича встретил. Последняя, последняя… Точно великую победу свою оттрубил чиф этим словом.
– Я ведь только сегодня узнал, что вы и есть тот знаменитый дядя Миша. Поверьте, что мне было приятно это узнать. – Антошин сделал паузу. Благодарности за комплимент ждёт? Рогов плотнее сжал губы. – Вы много вложили в него, посеяли, так сказать, разумное, доброе. И вот теперь он заявляет вам, что пуст, как барабан. Есть из‑за чего расстроиться, но вы не верьте ему.
– С чего вы взяли, что я расстроился? – Баба, рохля, болтун! – не сдержался. Но – поздно уже. – В чем прикажете не верить ему?
– В том, что он пуст, как барабан. Разумеется, у него не все благополучно, но по мне, лучше уж это неблагополучие, чем так называемое счастье людей, которые ни разу в жизни не задумывались, зачем они землю топчут.
Это уж не для него – для Петра, умными и липкими словами обволакивает. Пусть! Стармех насквозь видел чифа. А тот, рикошетом – в него, ибо кто из них троих человек, который топчет землю, не размышляя ни о чем, в счастливом неведении животного? По морде дать, подумал Рогов, по морде бы—*и даже кулаки сжались, но лишь часто, неслышно задышал и – -ни слова. Подождать надо. Он знал, что так не уйдет отсюда, что он ответит им и их не пощадит, но надо подождать.
Больше не слушал, и когда сделалось тихо, произнес негромко и глядя перед собой, аж глаза засвинцевели.
– Вы кончили? – Только бы на крик не сорваться, выговорить все спокойно и веско. – Теперь я скажу. Я скажу тебе, Петр. Ему что говорить, он уже… – «Уже прожил свое», – -но проглотил, не надо. – До него мне нет дела. А до тебя есть. Ты знаешь, как я относился к тебе. Я к тебе относился… Ты знаешь. И я скажу тебе, что ты зря веришь ему. Он ведь тебе всю жизнь исковеркал, неужели ты не понимаешь этого? Для – него это забава, игра, а ты, дурак, за чистую монету принимаешь. Как блоха, по жизни скачешь. На что ты надеешься? Тебе уже тридцать, а что ты сделал? Умрешь сейчас, и ни черта не останется после тебя – ни дела, ни детей—ни черта. На нашего капитана посмотри. Всего на два года старше тебя, а уже пять лет капитанит. А ты? Ты ведь не живёшь, Петр, – разве это жизнь? Небо коптишь. Цель жизни он ищет. Школьницам простительно, они сочинения пишут. А ты? Да ни черта ты не найдешь уже, попомни мое слово. Ни черта! Жить скучно, работать скучно, любить скучно. А война вдруг – воевать скучно будет? Из таких предатели получались. Им все равно – за кого, против кого. Ни шиша за душой – пусто… Не вышло из тебя человека, Петр.
На Антошина не глядел, видел лишь Петра: сначала–спереди, загоревшее лицо с бледными – сомкнутыми губами, потом от двери – черный, разглаженный (голова опущена) затылок над ослепительно белым воротником тропической формы.
11
Смотреть на часы не разрешал себе. И не потому, что матросов стеснялся – перед самим собой. Но даже не глядя на часы, знал, что не прошло ещё и половины подвахтенного срока. Отвык, разучился, разленился, разжирел…
Рогов в охапку схватил твердую, ка<к камень, промерзлую коробку, слегка завлажневшую, пока строп переносили в горячем воздухе с корабля на корабль. Холод проникал сквозь куртку к разгоряченному телу– восемнадцать минусовых градусов. Так недолго и простудиться, подумал он, во подумал отвлеченно, не о себе —о постороннем каком‑то человеке. Сам он не подвержен простудам – и тотчас сплюнул через плечо, но опять мысленно, потому что вся энергия – на коробку, на два пуда свежемороженой рыбы, которые он пер на себе в дальний конец трюма.
Навстречу двигался с ленцой Володька Шатилин, пустой. Отшагнул в – сторону, давая дорогу, и это было не уставное уважение рядового матроса к старшему механику, а солидарность работающих людей: я без груза, вы – с грузом – пожалуйста.
Высоко – на метр примерно – подымались коробки, и класть было легко – не нагибаться. Оттопырив губу, сопя (рядом не было никого), стармех животом подтолкнул коробку, на другие плюхнул её, поправил. Не задерживаясь, за новой пошел, но не торопился, тем же шагом, чтобы с ритма не сбиться. Ритм – главное. Отступил, пропуская Осипенко. Маленький костлявый Осипенко двигался легко, будто и не нес ничего – прогуливался. Высокомерие на прыщавом личике… Костьми ляжет, но не покажет, что устал, что ему тяжелее, чем другим, – Рогов подумал об этом с уважением и удовольствием.
Два ряда оставалось – коробок. Из третьего – одна, посередине. Звеньевой Герасько подошел чуть раньше Рогова и подтащил её к краю, но не взял, оставил так, себе же другую выковырил. Для него оставил – Рогов понял это не то с благодарностью, не то с обидой, и не воспользовался. Нагнувшись и преодолевая живот, тоже взял из неудобного нижнего ряда.
Конечно, он старше их всех, и им не приходится, как ему, таскать дополнительно полцентнера жира туда–сюда, и физическая работа для них привычна, потому что это основная их работа, но это не значит, что Рогову нужны поблажки. Свои три с половиной часа как‑нибудь отработает на равных – с ними.
Поддав коробку животом, плюхнул, поправил, так что синяя этикетка с красной рыбиной оказалась вровень с другим–и красными рыбинами, назад пошел. Неприметно провел холодной, волглой уже – рукавицей по разгоряченному лбу. Поблажки не нужны ему! Когда полтора часа назад спустился по отвесной лестнице в их второй трюм – непроворно, с нарочитой даже неуклюжестью спустился – и объявил, отдуваясь, что подвахта, дескать, прибыла, ребята встретили его шумно и подтрунивая – начальство! —но и другое было – Рогов заметил это по их напряженным улыбкам. Разочаровались ребята: в других трюмах подвахта, как подвахта, а тут… Конечно, дед – свой человек, не занудливый и не вредный, если только дело его техники не касается, но какой, скажите, толк от него в трюме? Ему хотя б себя та–скать… И потом, одно дело, когда ты идёшь на подвахту, потому что тебе приказано – тут уж, будь добр, вкалывай наравне с матросом, а другое, когда тебя не заставляют, сам лезешь – от скуки, надо полагать. Рогов отдувался, вроде очень уж тяжко пришлось ему на этой отвесной лестнице, но в душе посмеивался, довольный и хитрый. Знал: выдержит, как бы туго не пришлось. Рогов есть Рогов. Стармех крепко уважал себя.
Лишь нижний ряд остался, его расхватали, и Герасько играючи, ногой пнув, покатил по рельсам порожнюю тележку.
Все, кроме Герасько, порасселись на таре, и Рогов тоже; медленно вытянул по сухому картону дрожащие от напряжения ноги. Тары полно: весь правый угол забит—сиди, лежи. Прикинул, добраться ли им сюда за два часа. Если да, – освобождать придется угол, а это неплохо: лучше с тарой возиться, чем с двухпудовыми коробками. «Сачок! – уличил себя Рогов. – Скоро полсотни стукнет, а сачок. Что полегче ему». Но —не зло, не всерьёз.
Рукавицы отсырели – тонкая, непрактичная материя. Глянув на четырехугольный выем люка – нет ли стропа? – Рогов стянул рукавицы. Казалось, и руки тоже отсырели – пальцы красные и перетянуты, как сардельки. Стармех слабо пошевелил ими. Скверно, когда сыреют рукавицы, а ведь у него новые, матросу же на весь рейс лишь две пары дают. Экономия!
В четырехугольнике синело небо, и казалось, что далеко оно только отсюда, из трюма, а от палубы близко, потому что и палуба далеко, если глядеть, задрав голову, из этой. промозглой ямы, освещенной средь тропического дня жёлтым электричеством. Уже шесть скоро, а там пекло ещё, в шортах работают. Тело успокаивалось и стыло.
Надвинулась тень, опережая строп, но он сейчас же догнал её, покачался, примериваясь. Рогов следил. Это только со стороны просто: поднять, перенести, опустить– только со стороны, когда же сам за лебёдкой, сложнее все. Под ладонью – полированная теплая округлость рычага, стронешь – и побежит трос, но строп черт–те где от тебя, грузно покачивается себе на весу – попробуй, просунь его в отверстие, которое, кажется, одного размера с ним, если не меньше.
И все‑таки славная эта штука—лебёдка. Вначале, когда строп ещё на промысловом судне, в брюхе его – свободно провисают твои тросы, а подымает и делает все тамошний лебёдчик, но ты уже на стреме: не упустить момент, вовремя перехватить плывущие к тебе полторы тонны. Здесь, на перехвате, между двумя лебёдками, когда та отдала уже, а эта ещё не взяла или, напротив, взяла слишком резко, дёрнула, чаще всего и рассыпаются стропы – в море между бортами летят коробки со свежемороженой. Тут глаз нужен. Ещё та лебёдка несет, а ты уже исподволь принимаешь на себя часть тяжести (не дёргая – исподволь), потом больше принимаешь и, наконец, все. Тросы промысловой лебёдки провисают, выполнив свое – работаешь сам. Несешь к точке, но останавливаешь заблаговременно, за миг до того, как строп отверстие накрыл, пружинишь рычаг– майнаешь. Без паузы перевести из горизонтали в вертикаль, просунуть, не примериваясь, – в этом искусство. Интересно и не уставая работал на лебёдке Рогов, но после неловко было перед остальными, кто тяжело вываливался из трюма. Ведь не после отдыха ныряли в трюм на три с половиной часа, а отбарабанив вахту – механики, штурмана, электрики. Для него же подвахта (когда на лебёдке) вроде развлечения.
Строп застилал свет, покачивался, приноравливаясь.
– Давай, – процедил Осипенко, запрокинув прыщавое личико. – Телишься! —Издевался снизу над не–видимым, далёким – на солнце и на воле – лебёдчиком.
Володька Шаталин, развалясь, тоже поиздевался – сквозь усики на лоснящемся лице:
– Как в бабу все равно.
Наверху Мыкин работал – в рейс лебёдчиком пошел, аттестованный, и опыта больше, а он, стармех, ловчее за лебёдкой. Язвительные стрелы в Мыкина были лестны Рогову, но скрывал, непричастно помалкивал. Шаталин проговорил с ленцой и ухмылочкой:
– Деда вон надо на лебёдку. – И посмотрел на стармеха скошенными нагловатыми глазами.
Рогов вспомнил напряженные улыбки, когда спустился, отдуваясь, и объявил: подвахта прибыла. Нет, не это имел в виду Володька Шаталин, но глаза и поза были запанибратскими, – и это стармеху не понравилось.
Строп просунулся, поплыл, и чем ниже, тем больше в трюм пускал дневного света. Герасько поправил тележку, руку поднял, объявляя готовность. Похмочь встал Егорычев – рябой и уже в летах матрос, за тридцать. Герасько гаркнул предостерегающе, и строп замер в полуметре, покачиваясь. Вдвоём удерживали, направляя на тележку. Остальные тоже поднялись. Рогов натягивал рукавицы.
– Майна! – крикнул Герасько и двумя руками, напрягшись, потянул вниз – чтобы не раскачало, затем ещё крикнул, нетерпеливей и грохмче, но надобности в этом втором крике не было: строп уже сдвинулся. Вышло неожиданно, и Герасько с Егорычевым не успели: строп косо лёг. Пришлось вирать и класть по новой. Рогов опять подумал лестно для себя о Мыкине, но тотчас оборвал себя: он‑то четыре часа в сутки лебедничал, а Мыкин – восемь через восемь: восемь – работа, восемь – отдых, восемь – работа, восемь– отдых, и так весь промысел и все рейсы – какая уж тут охотка!
Герасько вывел крюк, подцепил порожнюю платформу и крикнул вверх, отпуская. Подождали, пока платформа уйдет, и сомкнулись у стропа. Был он больше предыдущих: коробок шестьдесят, по две тонны – не стронуть с места. А тут ещё Рогов – толстяк, медведь неуклюжий! – втиснулся между Егорычевым и Осипенко, так что всем трошм было несподручно. Ге–расько заметил и движением руки перевел стармеха на другую сторону – к Володьке Шатилину. Стармех подчинился торопливо и виновато – как мальчик, налег вместе со всеми, и тут поднатужившийся Шатилин испустил от напряжения звук. Крякнул в удовольствии, и все засмеялись, и взглянули на него, а затем искоса, с неловкостью – на стармеха. Или почудилось Рогову? Он тоже старательно засмеялся, а лицо погорячело, расползлось блином, и все наливалось, наливалось, как ни сопротивлялся он, стыдливой кровью.








