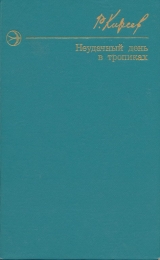
Текст книги "Неудачный день в тропиках. Повести и рассказы."
Автор книги: Руслан Киреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Я возвращался из клуба поздно, с девятичасового сеанса. В темноте звенели лягушки. На крыльце меня ждала мать. Ничего не говорила она мне, ни о чем не – спрашивала. Молча шли мы в дом, где уже давно спал намаявшийся за день Шмаков.
Почему не слышно лягушек? Или ручей, который мы громко именовали рекой Алмазовкой, пересох наконец? Когда‑то мы ухитрялись купаться в нем…
Нелепое желание возникло у меня, когда я стоял ночью на крыльце алмазовского дома, на том самом месте, где много лет назад ждала меня вечерами мать. Желание побывать в Алмазове, посмотреть, как там и что – словно я был в ином, далёком от Алмазова месте.
Шмаков, когда я вернулся в дом, лежал все в той же позе, запрокинув голову, и с присвистом храпел. Было начало второго. Я вспомнил, что раньше – свет гасили в двенадцать, поглядел на засиженную мухами лампочку и тут только сообразил, отчего такая тишина на улице: не работает движок.
Я вошёл в комнату, где недавно шуршала мышь, зажёг свет. На грязном полу валялись газеты – те самые, которыми хвастался Шмаков. Я ногою отодвинул их в сторону, затем приподнял двумя пальцами прожженное в нескольких местах одеяло. Оно лежало прямо на матрасе. Я взял свое полотенце, ещё влажное от посуды, которую мы вытирали им, постелил на засаленную подушку. Потом достал из чемодана тренировочный костюм, переоделся и лёг поверх одеяла. Я решил, что уеду завтра первым автобусом.
Как ни отвратительны были эти два дня – все кончилось, я выдержал, и с каждой минутой все дальше и дальше от Алмазова увозил меня автобус. Виноградники кончились, по обе стороны от раскаленного шоссе тянулось жёлтое сухое жнивьё.
Когда я открыл глаза, было светло. В первой комнате возился и кряхтел Шмаков. Потом зашуршала газета на полу. Я услышал его крадущиеся шаги. Звякнула пряжка ремня, пересыпалась мелочь в кармане. Одна монета упала на пол. Шмаков замер. Я приоткрыл глаза. Он рылся в карманах моих брюк.
Скоро хлопнула входная дверь, и я различил торопливые шаги за окном – полетел опохмеляться.
Я подумал, что если сбегу – сегодня, сейчас, бросив все на полпути, то потом пожалею об этом, потому что все начнется заново.
Мы возвращаемся с косами на плечах: он—с большой, я – с маленькой. Я несу в кепке жёлто–коричневые маслята. На крыльце, освещенная утренним солнцем, стоит мать.
– Красивая она у нас…
Интонация, с какой Шмаков произнес это, преследовала меня весь последний год, а в ту минуту, когда, лёжа на грязной шмаковской постели, я силился припомнить её, она от меня ускользала.
Я встал, снял прилипшее к подушке, разглаженное за ночь полотенце и вышел на крыльцо. День был пасмурным. Пахло саном. На том месте возле перелеска, где мы со Шмаковым косили траву и собирали срезанные косой молоденькие маслята, темнело вытоптанное футбольное поле. Дальше все было по–старому: ореховая роща, пологий склон, некогда засаженный черным виноградом, теперь одичавшим, а наверху– странное деревянное сооружение, назначение которого я не знал. У подножия этого сооружения мы со Шмаковым сбивали камнем кожуру с незрелых грецких орехов. После ладони наши долго хранили темно–бурые несмываемые пятна.
Все это время, вспоминая Алмазово, я неизменно видел Шмакова, наше бегство и подленькие хитрости, которые должны были оградить нас от преждевременного разоблачения. Но Алмазово существовало и само по «себе, и я с удивлением почувствовал, что такое, само по себе, оно мило мне.
Я прикрыл осевшую тяжелую дверь и, перекинув через плечо полотенце, пошел к роще – к тому месту, где мы плескались когда‑то в неглубокой, по колено, воде.
Раздевалка катка была тесной и грязной. Пока мне подбирали коньки, Тая, проворно переобувшись, ждала меня у выхода – яркая в своем свитере и удивительно отдельная от всей той суеты и неопрятности, что царили в павильоне. Мужчины, проходя мимо, задерживали на ней взгляды.
Алмазовка была чуть жива. Я умывался, передвигаясь вверх по течению.
На обратном пути мне встретилась женщина. Она несла эмалированный таз. В нем горкой возвышалось мокрое белье. Она первая поклонилась мне, я смутился и торопливо ответил.
Два или три круга мы сделали вместе, потом она умчалась вперёд, и мы катались порознь. Я старался не замечать её, н–о где бы ни была она, взгляд мой, независимо от меня, выхватывал её из потока катающихся. Я напоминал себе о Тимохине, но думать о нем было скучно, да и как‑то не соединялись сейчас в моем сознании умеренный, серьезный во всем Миша Тимохин и эта девушка, которая плавно, в молодом упоении, скользила по льду. Она знала, куда привести меня!
Скоро я заметил, что к ней пристроился мужчина в черном трико. Когда я снова увидел их, они оживленно говорили о чем‑то и она улыбалась ему. Я преувеличенно ощутил свою неуклюжесть и все тяжеловесное старание южанина, не привыкшего ко льду.
Истошно кудахтала курица. Мгновениями кудахтанье сливалось в короткий панический крик. Я ускорил шаг. Крик доносился от нашего дома, но за скособоченной оградой трудно было разглядеть что‑либо.
С плеча соскользнуло полотенце, я на лету подхватил его.
Шмаков метался по участку, преследуя белую, в пятнах крови, курицу. На крыльце, отдельно друг от друга, валялись топорище и окровавленный, в белом пухе, топор. Из перекошенного рта Шмакова вырывались хрип и ругательства. Курица, хлопая одним крылом, носилась между деревьями. Другое крыло волочилось по земле. Настигнув её, Шмаков хлюпнулся на колени, но в последний момент его жертва выскочила из‑под рук. Шмаков снова бросился за ней.
Наконец птица затрепыхалась у него в руках. Она кричала и сильно била неповрежденным крылом. Шмаков далеко отстранял оскаленное лицо. Потом опустился на корточки и, прижимая коленом к земле здоровое крыло, схватил увертывающуюся голову. Курица захлебнулась и смолкла. Он подержал её так и устало поднялся. Увидев меня, растянул в улыбке дрожащие от напряжения губы.
– Лапшу есть будем… Я для тебя специально.
Курица все ещё билась в жухлой траве. Меня мутило. Шмаков заискивающе спросил, не болит ли у меня после вчерашнего голова.
– А то магазин открыт уже. Могу обегать. Я мигом.
От него пахло потом и дешёвым вином. Я отрицательно качнул головой, повесил на забор полотенце и пошел обратно в сторону Алмазовки.
Мне не терпелось увидеть Лену… Как ни безобразны были эти два дня – все кончено, я освобожден и, разговаривая с Ле–ной, не буду больше ощущать, что обманываю её, выдавая себя не за того, кто есть я на самом деле. Я спешил убедиться в этом и, оттого, должно быть, мне казалось, что автобус идёт слишком медленно.
Я отъехал на коньках в сторону – к месту, где разрешалось курить. Тая вынырнула откуда‑то сбоку и встала рядом, утомленно дыша. Она молчала. В её бессловесности мне почудилось то особое доверие, которое существует между близкими людьми. Но кажется, она вела себя так со всеми; сейчас—со мною, а минуту назад – с мужчиной в черном трико, которого, насколько я понимал, видела впервые.
Я протянул ей сигареты. Она посмотрела на них, потом подняла на меня свои правдивые глаза.
– Спасибо. Не сейчас…
Я сунул пачку в карман и молча закурил.
Когда я вернулся, курица была общипана, повсюду валялись перья.
– Через час закусочка поспеет! – с деланным воодушевлением объявил Шмаков.
Его руки – были по локоть в пуху и крови. Среди этого красно–белого мессива шевелились, как черви, мокрые пальцы. Я сказал, что пить сегодня не буду.
– Понемножечку! Для опохмелочки. Не сейчас, не сейчас, попозже!
Он просительно заглядывал мне в глаза и по–детски моргал. На участок пролезла под забором уцелевшая курица. Шмаков обрадованно засуетился.
– Последняя осталась! Последняя. – Торопя мое внимание, он подталкивал меня локтем. – А та – тю–тю, на закусочку! – Голодать, может, буду, но такой день сегодня!
– Не будете вы голодать.
– Неизвестно! Неизвестно! Раньше как день – яичко или два даже. Для подкрепления – очень даже полезно. Я их сырые прямо, ещё тепленькие…
Я вспомнил жёлтые пятна на подушке. Шмаков заискивающе глядел мне в глаза.
– Понемножечку, – повторял он. – Для опохмелочки.
– Вечером купим, – сказал я и, кажется, лицо мое тронула гримаса брезгливости. – А сейчас убрать бы все.
– Уберем! Уберем! – с готовностью согласился Шмаков. – А вечером в клуб пойдем. Ненадолго.
– Зачем в клуб? – удивился я.
Раньше Шмакова трудно было затащить даже в кино, а тут он принялся с горячностью уговаривать меня. Он спешил похвастаться мною: у него, как и у всех, сын, к нему, как и ко всем, приехал сын. Подтверждалась версия, которой он объяснял наш отъезд: мы покинули Алмазово временно, вынужденные обстоятельствами.
Я отказывался идти с ним, но лишь до тех пор, пока не понял, откуда во мне это упрямое нежелание: я стеснялся Шмакова.
– Хорошо, – сказал я. – Если ты хочешь, мы пойдем.
Тая, утомившись, не могла стянуть с ноги ботинок.
– Помочь? – спросил я.
Она благодарно кивнула, откинулась на спинку скамьи и подняла ногу. Нога была длинной, прямой и сильной. Я чувствовал ладонями холодную сталь конька.
Тая доверчиво следила, как я стаскиваю ботинок. Когда он оказался в моей руке, подняла вторую ногу.
Потом она сидела, устало поставив на пол ноги в белых толстых носках, и смотрела на меня снизу весёлыми глазами.
– Ты не проголодался?
Она впервые назвала меня на «ты».
– Тут буфет есть, – сказал я.
– Я ужасно голодная. У меня есть деньги.
– У меня тоже.
– Устроим складчину! Я всегда ем здесь —иначе не доплетусь до дому.
Я пошел сдавать коньки, а когда вернулся – около нее был тот самый мужчина в черном трико, с которым она каталась. Он улыбался и что‑то говорил ей вполголоса. Она слушала его, смешливо сложив трубочкой раскрасневшиеся на морозе губы. Прошла минута, прежде нем она соизволила заметить меня. Она мягко сказала мужчине:
– Я должна покинуть вас.
– Жаль, – произнес он.
Тая посмотрела на меня с весёлым вызовом.
– А мне —(нет!
Пять долгих часов шел автобус. В нетерпении, с которым я ждал встречи с Леной, была, может быть, и тайная надежда, что Лена освободит меня от жены Миши Тимохина.
Пока мы убирали квартиру, Шмаков ни разу не присел отдохнуть. Мы вытирали пыль, драили полы, выметали из шкафа паутину и заплесневевшие корки хлеба. Шмаков суетился и лебезил. Я отвечал ему односложно, чтобы не выказать подкатывающую к горлу брезгливость– и к этому чужому мне человеку, и к его запущенному жилищу.
Шмаков был щедр: решившись раз назвать меня сынком, вставлял это слово едва ли не в каждую фразу. Но как и я к нему, он, конечно же, не испытывал ко мне ровно ничего. Я неожиданно свалился ехму на голову, и он спешил извлечь из этого счастливого обстоятельства все возможное. Для себя он нашел объяснение моему появлению здесь: я приехал, опасаясь неприятностей на работе, ответственности за то, что бросил его. Он даже чувствовал за собой некоторую силу, но ещё не решался воспользоваться ею – боялся повредить себе. Да и какая в этом была надобность, если я и без того смиренно выполнял все его незамысловатые прихоти?
В буфете мы взяли кофе и сосисок. Тая уплетала их с весёлой жадностью. Потом подвинула тарелку мне.
– Это вам. А то я все съем. – Она опять звала меня на «вы». – Ешьте и не думайте о Тимохине.
– С него вы взяли?
– Я проницательная. Вы думаете о Тимохине и злитесь, что я затащила вас сюда.
Не поднимая глаз, я отпил кофе. Он был теплым и приторным. Я поставил стакан.
– Пойдемте? – сказал я.
– Но вы не доели.
– Я не хочу больше.
– Тогда я их съем. Я ещё никогда не оставляла сосиски. А Тимохин их ненавидит. Он говорит, что от них гастрит.
Я невольно улыбнулся. Это походило на Мишу: он ужасался, если я брал в столовой шницель или борщ на свинине. Миша назубок знал, от какой еды – какие болезни.
Мы вышли на улицу. Шел снег. Тая молчала.
– Послушайте, – сказала вдруг она. – У вас живы родители?
– Живы, – напряженно ответил я. – Почему вы спрашиваете об этом?
Помедлив, она пожала плечами. Снежинки касались её серьезного лица.
– Как странно! Вы моложе Тимохина, и выглядите моложе, но мне почему‑то все время кажется, что вы старше его. И меня тоже. Видите, я даже на «ты» не решаюсь перейти. Наверное, вы много женщин знали.
– Нет, – -сказал я. – Совсем нет.
Мне было неприятно, что она заговорила об этом.
– А я вам верю, – задумчиво сказала она. – С мужчинами, которые знали много женщин, я не так себя чувствую. Свободно. А вас я почему‑то боюсь.
Она повернула голову и внимательно посмотрела на меня.
В проходе между сиденьями примостилась на мешке женщина. Несколько раз я ловил на себе её взгляд, но она тотчас отводила глаза к окну, за которым грузно поворачивалось бескрайнее кукурузное поле. То ли раньше знала она меня, когда мы жили в Алмазове, то ли была в клубе во время скандала, который разразился из‑за нашего. со Шмаковым появления там…
До автобуса оставалось полтора часа. Шмаков епал, но когда я, поднявшись, взял полотенце, он открыл глаза. Яркий утренний свет падал ему в лицо. Осоловело глядел он на меня, соображая, кто я и откуда взялся здесь.
От вчерашних мгновенно сменяющих друг друга выражений то подобострастия, то индюшечьей надменности не осталось и следа. Опустошенное лицо старого и больного человека…
– Плохо? —опросил я и, наверное, не столько жалость прозвучала в моем голосе, сколько брезгливость.
Шмаков не ответил, потер ладонью грудь, и взгляд его удивленно остановился на залитой вином новой рубашке, в которой так и спал он. Кустики бровей сосредоточенно шевельнулись – Шмаков вспоминал. Потом глаза его побежали по неприбранному столу, цепко задержались на пустых бутылках. Я вышел.
Шествуя со мной по деревне в новой нейлоновой рубашке, которую я привез ему, Шмаков снисходительно и небрежно здоровался со всеми и без умолку, с озабоченным видом все говорил, говорил мне что‑то.
На просторном крыльце с неоштукатуренными колоннами из белого камня застыли в ленивых позах неподвижные фигуры. Я холодно скользнул по ним взглядом. Слава богу, ни одного знакомого лица. На нас они смотрели со спокойным любопытством, лишь краснолицый верзила радостно шагнул навстречу. Шмаков остановился, подумал и подал ему руку.
Верзила замешкался на секунду, но руку пожал. Покосившись на меня, торопливо заговорил о чем‑то со Шмаковым, но тот покровительственно перебил его:
– Потом, Петя, потом. – Видишь, с сыном я.
Сидящая на мешке женщина что‑то шептала соседке. Та одобрительно кивала. Мне почудилось, что теперь и она исподволь поглядывает на меня.
Автобус приближался к Светополю.
В клуб Шмаков вошёл первым – неторопливый и важный, скромно остановился в дверях. В тесном фойе, как и семь лет назад, играли в бильярд. Но это был не тот прежний бильярд с обшарпанным маленьким столом и железными шарами, а новый, с шарами костяными. Ребята, лениво держащие в руках длинные кии, странно помолодели: семь лет назад они были старше меня, сейчас – моложе.
Вдоль стен выстроились новые стулья – вместо тяжелых самодельных скамей, новые шторы висели на окнах, но ощущение новизны не возникло у меня, я узнал прежний наш клуб – тот же тусклый, скучный свет, хотя и горели все плафоны, тот же табачный дух, такое же унылое жужжание голосов, звон домино, короткий стук бильярдных шаров.
Шмаков здоровался со всеми за руку, сдержанно объяснял, что приехал сын, и упорно не замечал насмешливых взглядов, которые бросали на его нейлоновую рубашку.
Когда я, умывшись, но не в Алмазовке, как вчера, а под рукомойником – ледяной водой, которую принес из колодца – вернулся в комнату, Шмаков пришел в себя и все вспомнил. Я понял это по тону, каким он пожаловался на головную боль, по нагло обшарившему меня взгляду. Вчера утром он просил купить вина, сегодня – требовал. День начался для него с мысли, на которой он отключился вчера после скандала «в клубе: я виноват перед ним, но он отнесся ко мне с великодушием, и за это я в долгу перед ним.
Я положил на край стола, рядом с почернелыми огрызками яблок, две рублевые бумажки и сказал, что через час уезжаю.
– Кирюха! – услышал я и повернулся.
Парень, который неспешно приближался ко мне и которого я ударил через несколько минут, в первое мгновение напомнил мне Антона. Такое же крупное и толстое лицо, толстые губы и небольшой лоб, только не хмурый, как у Антона, а ангельски разглаженный. Я узнал его – по ясному безмятежному взгляду, бережно пронесшему через все семь лет свою целомудренную незамутненность.
– Здорово, Кирюха, – сказал он и протянул мне руку с вытатуированным якорем. Я пожал её, тщетно пытаясь вспомнить имя парня. С ним был дружок, он тоже протянул руку, и я тоже пожал её.
– В наши края?
– Да… В отпуск.
– Ты где же теперь?
Я исправно отвечал, он бесцеремонно спрашивал, и я снова отвечал. Каштановые волосы его были расчесаны на пробор, у виска влажно блестело колечко.
– Выряди лея‑то! – сказал он, кивнув на Шмакова. – Ты, что ли, обновку привез?
Он хотел пощупать рубашку, но Шмаков оттолкнул его руку.
– Не шебуршись, Табуреткин! – миролюбиво сказал ему парень. – А то расскажу, как в Алмазовке с утками плавал.
Дружок заулыбался. Рядом стояли женщины, они тоже улыбались.
– Ну, хорошо, хорошо, – проговорил Шмаков, волнуясь. – Поздоровался, и хорошо, дай нам с сыном отдохнуть, мы отдохнуть пришли.
Но парень, не слушая его, дружески улыбался мне.
– А маменька что, с тем же или нового закадрила?
Я ударил его. От неожиданности он упал, но тотчас поднялся и несколько мгновений обалдело глядел на меня своими небесными глазами.
– Ты чего? —проговорил он. – Ты чего? Ошалел?
Он новее не думал оскорблять меня.
Кто‑то одобрял, кто‑то сочувствовал – ему ли, мне ли, но, заглушая всех, взорвался вдруг визгливый бабий голос:
– Ишь стоит! Драться сюда приехал! Думает, раз ученый, так драться можно. Не понравилось, что сказали! А что, не правду сказали? И правильно, с хахалем убежала, мужа бросила! Нам‑то не закрутишь мозги! А он, субчик, вырядился, рубашку нацепил! Столько лет знать не знали, – в душу харкнули в благодарность, что чужого воспитывал, – а теперь рубашку нате! Рубашкой отделаться решил! Когда болел – не очень‑то приехал, подохнул бы, кабы не люди, а теперь – сынок, видите ли! Да плюнь ты ему, отдай рубашку – пропьешь все равно.
Шмаков, заносчиво хмурясь, норовил сказать что‑то, но его не слушали. Я вышел.
Автобус въехал в Светополь. Я смотрел на знакомые улицы с чувством, которое в полную силу испытал десять часов спустя, когда сидел в пустом купе отходящего поезда – с чувством, что этот город чужой мне.
Алмазово осталось далеко позади, и я знал, что никогда уже не буду там и никогда больше не увижу Шмакова.
Шмаков прилетел из клуба следом за мной. Правой рукой придерживал левую, словно эта левая была ранена.
– Вот! – по–вторял он, запыхавшись. – Вот! – И совал мне руку в лицо. – Я сына не дам в обиду.
Некоторое время ожидал, какое это произведет на меня впечатление. Никакого. Тогда он ткнул пальцем в расстегнутый рукав, в то место, где должна была быть пуговица.
– Оторвалась? – спросил я.
Шмаков громко засмеялся.
– Оторвалась! – передразнил он. – Оторвали. – Он пригнулся и снизу ликующе заглянул мне в глаза. – Оторвали! Я сына не дам в обиду!
Только теперь наконец я сообразил, что означает все это.
– Спасибо, – сказал я.
Я сел, а Шмаков победоносно выхаживал по комнате и говорил, не умолкая. Больше всего ему запали слова женщины о том, что мы с матерью глубоко виноваты перед ним. Он и не подозревал, что сделал благородное дело, приняв меня и мои подарки. Этим, оказывается, он облагодетельствовал меня! Прежние заискивающие нотки исчезли из его голоса, самонадеянность и бахвальство звучали в нем. Ещё бы! – я был виноват перед ним, другой на его месте не стал бы и разговаривать со мной, а он не только принял меня, зарезал ради меня курицу, но и пострадал физически. Осторожно, как рану, трогал он рукав с оторванной пуговицей. Теперь уже не надо было выклянчивать у меня на бутылку, теперь можно было требовать, и он потребовал. Ни слова не сказав, я дал ему денег.
Вчерашний вечер повторился в точности. Когда вторая бутылка была наполовину опорожнена, Шмаков поднялся и прочел заплетающимся языком монолог об умирающем лебеде. Он пышно жестикулировал. Пострадавший рукав спадал, обнажая костлявую руку. На рубашке темнели пятна вина.
Когда, переодевшись перед сном в тренировочный костюм, я вешал на стул брюки, в карманах звякнула мелочь; с усмешкой подумал я, что завтра утром её не будет.
Тимохин, когда мы вернулись с катка, кормил из ложечки Борьку.
– Накатались? – спросил он, глядя на нас с такой улыбкой, будто «не мы, а он получал удовольствие.
– Я —да! – весело ответила Тая. На ворсинках её малинового свитера блестели искорки растаявшего снега. – Только не с твоим другом, к сожалению. Он южанин, а южане не умеют кататься. Южане ничего не умеют. – Она скосила на меня смеющиеся глаза. – Там был один северный мужчина. Кирилл видел его. Подтверди, Кирилл, что он был достойный напарник. – Она сказала это уже из другой комнаты. – Гораздо лучше вас.
•– Подтверждаю, – сказал я.
Я положил на стул шапочку и шарф, поблагодарил Мишу и направился к двери.
– Обождите! – крикнула Тая.
Она вышла в ситцевой синей блузке с короткими рукавами. Натянутая в груди, она свободно свисала вниз, доставая бёдер.
– Я ведь не поблагодарила вас, – произнесла она. – Спасибо вам за компанию. И за сосиски тоже.
Те десять часов, что я провел в городе, вместили в себя не только свидание с Леной и визит в дом Вологолова, но и всю мою поездку в Алмазово, и трудный год, который предшествовал ей, и путешествие на байдарке, и давнюю подлость пятнадцатилетнего человека, которую взрослый человек пытался искупить. Быть может, так бывает всегда: каждый новый миг человеческой жизни незримо конденсирует в себе все предыдущие мгновения.
Мать, так ни слова и не добившись от меня, осталась с полотенцем на плече возле ванной, а я вернулся в кухню и молча сел на свое место. Вологолов наполнил рюмки. Вид у него был озадаченный.
– Мать что, знала, что ты приезжаешь?
Видимо, пока я мыл руки и ему не с кем было говорить, упиваясь чеканностью собственного голоса, он сообразил, что поведение матери несколько странно.
Я пожал плечами и взял рюмку. На ней, как и на графине, была золотая ресторанная кайма. Стекло запотело.
– За приезд! – сказал Вологолов с неудовольствием, но не выпил, а позвал громко: – Мария!
Мать ответила из другой комнаты:
– Я не буду пить.
Из автобуса я вышел последним. И близко не ощущал я той внутренней необходимости остановиться в гостинице, какая была у меня три дня назад, когда я приехал сюда из своего города. Но все же я не пошел к матери. Я оставил чемодан в камере хранения и отправился на рынок за цветами и фруктами для Лены.
Мы выпили вдвоём с Вологоловым, я положил себе салата из помидоров. Даже помидоры были нарезаны ровными тонкими дольками – так режут их обычно в ресторане.
Больница, где лежала Лена, располагалась в глухом и отдаленном конце города и была отгорожена от остального мира скучным серым каменным забором.
– Ты это… – предупредил Антон, передавая мне сверток для Лены. – Ты виду не подавай…
Я не понял его.
– Ну, что операция такая, – буркнул он. – Что опасно…
Из его отрывочных рассказов я знал, что болезнь сестры прогрессирует, врачи советуют операцию, но счастливый исход её гарантировать не могут.
За глухим больничным забором было много зелени – в ней утопали все постройки. Я ожидал, что Лену не вызовут, а пригласят меня в палату, но Лена вышла. Я удивился, увидев её. Изнеможденной и обессилевшей, какой её рисовало мне воображение, она не выглядела. Серый халат, схваченный в талии поясом, сидел на ней, в отличии от остальных больных, по–домашнему изящно. Своей осанкой и быстрой походкой она тоже отличалась от больных, которые встретились мне во дворе и вестибюле. Лицо её сияло чистотой и приветливостью.
– Здравствуй! – негромко и порывисто сказала она. Она откровенно радовалась моему приходу, и в этом, как и во всем её облике, было что‑то новое, самостоятельное.
– Мне Антошка писал, что ты приедешь.
Я кивнул. Я чувствовал себя не очень уверенно.
– Ничего, что ты вышла? – спросил я. – Разрешают?
Она ответила с – весёлой беспечностью, что ей разрешают все.
– Я даже вино пила! Вечера у нас тут у одной день рождения был!
– Если б я знал…
Она поняла и засмеялась.
– Часто нельзя, —сказала она, укоризненно наклонив голову. – Можно пьяницей стать.
Беря цветы, коснулась моей руки. Ледяными были её пальцы.
Упругое холодное тело плотвы скользко извивалось у меня в руках. Я бросил её в углубление на земле, но не попал, и плотва забилась у ног Лены. Она взяла её. Рыба смирно вытянулась на её маленькой ладони.
– Теплая какая…
– Я отнесу все и – выйду! – быстро проговорила она.
Глядя ей вслед, я с удивлением обнаружил вдруг, что на ней не тапочки, как у остальных – больных, а черные лакированные туфли.
Есть не хотелось, но чем‑то, надо было оправдывать свое молчание, и я, как и Вологолов, старательно жевал что‑то. Я чувствовал, что сегодняшняя наша встреча кончится нехорошо, но, кажется, даже желал этого.
Лена быстро вернулась, и мы вышли во двор. Уверенно вела она меня между одноэтажными корпусами в глубь парка.
– Тут есть одно местечко! – пообещала она. – Если только не занято!
«Местечко» оказалось занятым – на скамейке сидели мужчина и женщина. Он был в пижаме. У ног женнтины стояла базарная сумка с приоткрытой «молнией». Мужчина жевал что‑то.
Лена огорченно вздохнула. Мы прошли дальше.
– У вас не болыница, а дворец культуры, – (сказал я, показывая глазами на её туфли.
– Что же мне, в галошах ходить? Они все в галошах ходят, – презрительно объяснила она. – Чтобы не переобуваться каждый раз. В тапочках‑то нельзя на улицу.
Повернувшись, секунду заговорщицки смотрела на меня, потом вдруг дёрнула за кончик пояса. Халат распахнулся. Я увидел синюю плиссированную юбку и белую блузку.
– Ну, я же говорю – дворец культуры.
Лена завязала пояс и предупредила, взглянув на меня сбоку:
– Только не думай, пожалуйста, что это я для гостей.
– Я не думаю…
– Я уже давно так хожу, – продолжала она, не слушая меня. – Мне так нравится. Я даже новое платье шью. У портнихи. А на примерку она сюда ходит. Рукав в три четверти и свободный покрой. А юбка… – Но, не договорив, закусила губу.
– Что? – спросил я.
– Ничего. Этого я не скажу тебе.
В тот вечер, после нашего с Таей культпохода на каток, я говорил себе, что в моих симпатиях – так же, как и в моей неприязни, – нет ничего зазорного: человека судят по его делам, а не по тому, что и как чувствует он. У Миши Тимохина никогда не будет повода упрекнуть меня в чем‑либо. Ещё и ещё раз мысленно прокручивал я прошедший вечер, придирчиво взвешивая каждое свое слово, и вдруг поймал себя на том, что это прокручивание, где оживает Тая, доставляет мне тайное удовольствие. Я не сделал ничего такого, о чем не мог бы рассказать Тимохину, и все‑таки мне было нехорошо, и я подумал, не уйти ли на другую квартиру. Зато Шмаков в этот вечер не донимал мою совесть, он удовлетворенно притих, убедившись, что не с ним одним я вёл себя недостойно.
– Вы работаете? – спросил я Вологолова, когда молчание стало невмоготу.
Мой нопрос вывел его из задумчивости.
– Разумеется, – ответил он недовольно и взял бутылку. – Мария!
Мать вошла и села на свое место.
– Так когда ты приехал? – спросил меня Вологолов.
Я выпил, отломил корку хлеба и протяжно втянул в себя сырой хлебный запах – как это делал Антон.
– Я в Алмазове был, – сказал я.
Мать закурила. Вологолов не пил. За окно(м прогромыхал грузовик.
– Ну, что ты на меня смотришь! – тихо, со сдерживаемой злостью, огрызнулась мать. – Не я же в Алмазово ездила.
– Я понимаю, что не ты. Но ты знала, что он здесь.
Мать жадно затянулась, поискала глазами пепельницу, не нашла и стряхнула пепел на край тарелки.
– Кто – он? – вдруг спросила она, точно слова Вологолова только сейчас достигли её слуха.
– Он – что я, – сказал я. Затем подошел к стулу, на спинке которого висел мой пиджак, достал сигареты и тоже закурил.
Вологолов все ещё держал в руке рюмку. Спросил, ни к кому не обращаясь:
– С ним случилось что?
В его голосе мне послышалась брезгливость. Три дня назад тот же вопрос задала мне мать.
– Он не умер, – ответил я. – Жив и здоров.
Шмаков суетливо прибирал стол, стараясь не глядеть на перевязанную пышной лентой коробку с бутылками. Я взял с дивана палку, к которой была прикручена алюминиевой проволокой консервная банка и рассматривал это непонятное приспособление. В банке светлело несколько зёрен пшеницы.
Шмаков подскочил ко мне, выхватил палку и с таинственными ужимками, хрипло смеясь, поманил меня к выходу.
К палисаднику примыкал совхозный амбар. В глухой задней стене темнело окошко с решеткой. Шмаков просунул между прутьями свой инструмент, ловко подвигал им и осторожно извлёк полную банку пшеницы.
– За час – килограмм, – похвастался он.
Затем потащил меня в кладовку. За ящиками стоял мешок, набитый зерном.
– Зачем тебе столько?
Я опять едва не сказал «вам».
– Пшеничка ведь, – отвечал Шмаков и скалил в улыбке рот. – Пшеничка!
Он запустил в мешок руку – на фоне светло–жёлтого зёрна рука казалась черной – зачерпнул жмень пшеницы и, любуясь, высыпал её обратно тонкой струйкой. Потом завязал мешок и ласково похлопал его. Я узнал этот жест – когда у нас была корова, он похлопывал её так по тяжелому лоснящемуся бедру.
– Давно на пенсии?
Шмаков вскинул кустики бровей – одни они не изменились за эти годы.
– Как полагается. Ни на день раньше. Как полагается…
Выцветшие глаза глядели слишком правдиво – он что‑то не договаривал. За столом, опьянев, он проболтался, что задолго до пенсии был переведен из ветфельдшеров в рядовые скотники.
Вологолов встал и открыл форточку. Я вспомнил, что он давно уже бросил курить.
– Вы разрешите? – спросил я у него с преувеличенной учтивостью и показал глазахми на бутылку.
– О чем ты говоришь!
Он сам налил мне и даже великодушно чокнулся со мною.
– Благодарю, – сказал я.
Он посмотрел на меня удивленно и с некоторым беспокойством.
– За что?
Я усмехнулся.
– За все.
Идя в больницу, я внутренне подобрался, чтобы не выказать нечаянно жалости или чрезмерной тревоги за исход операции. Я полагал, что Лена тоже догадывается о грозящей ей опасности. Первые минуты разубедили меня в этом, но странно, чем беззаботнее, веселее и дальше от болезни в разговоре и планах своих была Лена, тем настойчивее сверлила меня мысль, что Лена знает обо всем не хуже меня. Тайный женский наряд под больничным халатом, модное платье, которое она шила, планы на будущее (она похвасталась, что занялась испанским языком и что языки ей вообще даются легко) —все то, что, казалось, должно свидетельствовать о полном её неведении, странным образом убеждало меня, что она знает все. Мгновениями мне чудилось, что она забыла о моем присутствии и говорит не для меня, а для кото‑то другого, кого она стремится убедить в чем‑то.








