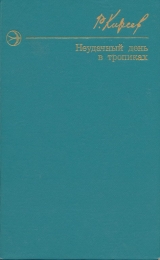
Текст книги "Неудачный день в тропиках. Повести и рассказы."
Автор книги: Руслан Киреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
– От усердия! – браво прокомментировал он: доказать спешил, что ничуть не шокирован – не баба ведь, но плохо и лишне чувствовал себя и совестно за то, что им всем сейчас нехорошо перед ним, пожилым человеком, старшим механиком.
Тележка стронулась, пошла по рельсам, все меньше усилия требуя, потом совсем без усилия, и, наконец, когда Герасько скомандовал, усилие понадобилось обратное– на тормоз. Вцепившись, удержали. Герасько быстро стал ослаблять перевязь, другие ждали.
Стармех хмурился. Разве это дело: в наше время, когда едва ли не на каждой шлюпке – локатор, вручную ворочать эти замороженные булыжники? Семь тысяч тонн припрут на берег, и все, до единого килограмма, на матросских плечах перетаскано. А ведь сколько говорят о пакетных. перевозках, когда автокара подхватывает строп целиком, отвозит и ставит, а в порту– опять автокара. Сейчас уже Рогов на себя досадовал: упустил, не выбил кары, хотя база получила несколько. Ему б дали – Рогову нельзя отказать (Рогов, не кто‑нибудь!) и потому‑то, что нельзя отказать, давить не стал – есть ведь и другие суда. Чистеньким остался, высокосознательным (Рогов, не кто‑нибудь!), зато его матросы спину гнут, а у других – кары. Стармех классифицировал это, как предательство. Коли ты старший механик транспортного рефрижератора «Памир» – будь добр, думай о «Памире» сперва, а потом уж о других судах – во вторую очередь. И о себе, о своей совести – или что там остановило тебя? – тоже во вторую.
Выволок, поднапрягшись, коробку с верхнего ряда, понес… Но ведь кроме «Памира» и впрямь есть другие суда, а кар – меньше десятка на всю базу. Четыре трюма у них – четыре кары, стало быть, и запасная одна. Пять. Пять из десяти. Но почему нам, а не другому кораблю?
Трудно было думать о таких вещах и не любил стармех. Куда проще, когда дело с машиной имеешь, там нет «за» и «против», там открыто все и для Рогова ясно.
Ещё не все повыбрали с тележки, а в люке уже – новый строп. На этот раз лебёдчик опустил аккуратно. Капитан на палубе? Не успели и половину расходовать, как нависли очередные полторы тонны. Теперь уже было не до ритма: когда с грузом – шагом, назад же, к тележке, даже не бегом, а падали будто. Стармех не отставал, пот скатывался по дрожащим, как желе, щекам. Схватить, отнести, положить, бегом за новой. Схватить, отнести, положить… А вверху маячит уже новый строп – над душой стоит, и видишь его не глядя, телом угадываешь, спиной, деревенеющими мышцами. «Последний», – всякий раз надеялся Рогов, потому что чувствовал: невмочь ему больше, потому что знал: там ведь тоже не железные – © трюмах «Альбатроса», где стропы эти рождаются. Но ошибался: ещё нижний ряд не тронут, а уже нависает, затемняя четырехугольник неба, очередная полуторатонная громада. И в себе ошибался: мог, хотя сердце, раздувшись, бухало теперь совсем близко от замороженной глыбы, прямо в нее, в холодный картон, и руки напоминали лебёдку: где‑то внутри нажимаешь на что‑то, и они, далёкие от тебя и чужие, вдруг подчиняются. На секунду он потерял даже усталость – такой неправдоподобной показалась вдруг эта жёсткая согласованность.
Когда наконец очередной строп не появился, хотя тележка была пуста, откатана и приготовлена – сели не сразу. Ждали: то ли перекур на «Альбатросе» и им тоже можно подышать, то ли просто задержка. Если задержка, лучше перестоять минуту, чем, едва расположившись и настроив тело на отдых, снова вскидывать его. Но то был перекур. На фоне синего неба, уже по–вечернему густеющего, высунулась женская голова в белом—счетчица с «Альбатроса». Крикнула и, хотя слов не разобрать, ясно было, что не стармех же нужен ей и не Володька Шатилин, а звеньевой. Герасько взял свои записи и полез наверх —сверять цифры. Остальные повалились на тару. Там, в глубине, тары было больше, целая гора – как угодно располагайся, но Рогов опустился с краю. Ноги дрожали; он чувствовал это, хотя, если смотреть, они были неподвижны, мертвы даже: развалились в разные стороны.
– Михал Михалыч!
Рогов обернулся. Егорычев протягивал сигареты – издалека, так что стармеху не дотянуться, но напряженная поза матроса выражала готовность тотчас же встать – дайте знак только. Рогов поспешно замотал головой.
Курить запрещалось в трюмах, и кто же, как не старший механик, должен следить за этим, но сейчас они не помнили, что он старший механик, и Рогову было приятно это, хотя и грызло: нельзя ведь, а курят.
В теле перемещалось что‑то, текло нескончаемо и приятно. Мыслей не было, а если и были, то где‑то так далеко отсюда. И вдруг. подумал– осознанно и ясно: вот это и есть главное. «Это» означало все, что сейчас было: усталость, молчаливое мужское единение его и этих курящих. контрабандой матросов, бездумность даже: думать, считать коробки, поддерживать связь с внешним палубным миром – все это лежало на звеньевом Герасько, они же освобождены…
Сверху дотянулся гудок – один, другой, третий. «Гелий» отошел? Сейчас «Меридиан» будет швартоваться – предпоследнее судно, что дрейфует с полным грузом в ожидании борта. Теперь лишь «Херсон» остался. С этих двух снимем рыбу полностью, и без умопомрачительной спешки, без подхват: подразгруженные, суда могут спокойно тралить себе и четверо и пятеро суток.
«Альбатрос» отойдет к ночи, уступив место «Херсону» – стармех подумал об этом, и сразу возник перед ним Петька–как понуро сидит он на расстоянии от стола, точно подсудимый, его больное приспущенное веко увидел. «Альбатрос» отойдет, увозя с собой Петьку, которому он вынес нынче страшный приговор. Когда теперь увидятся они?
Что‑то сдвинулось в его массивном теле, и это уже не от усталости, другое. Он обрадовался, когда увидел Герасько. Спускается – сейчас строп пойдет.
Шесть без минут. Ещё полтора часа работать, с минутами.
12
Он ворочался в острых горячих струях душа, шлепал по телу, отфыркивался. Усталость уходила… Конечно, им малость повезло: последние полчаса виралитару, но все‑таки умаялся крепко. Сейчас думать об этом весело, а там, в трюме, из последних сил тянул.
Дистиллят хорошо растворял воду – лёгкая, ласкающая кожу вода, но каково пить её? Пьем… А ведь есть на борту аппарат для насыщения дистиллята солями– прекрасный аппарат! Пока был запас солей (ещё шведский), вода не уступала колодезной. На два рейса хватило, и все – никакими силами не выцарапать больше. В общем‑то, стармех ни при чем здесь (в каждую стоянку обивает пороги отдела снабжения), новее же водичка на его совести. Плохой ты старший механик, коли поишь команду этакой дрянью.
Рогов закрыл краны. Вытирался, наслаждаясь чистотой и лёгкостью тела, свежим духом, что исходил от полотенца, даже чувством голода: .как сладко. поужинает он сейчас! Вот только одно мешало, и обозначалось это – словами: Петька Малыга.
Все вроде было правильно – и в их недавнем бурном объяснении, и в суровости Рогова к бывшему ученику – правильно, но почему тогда не идёт из головы Петька? Стармеху не за что было упрекнуть себя, во всяком случае, ни в едином слове не раскаивался – справедливые и точные были это слова – а Петька все стоял и стоял перед глазами. Почему?
Он прошел в спальню, натянул на распаренное красное тело майку и брюки. К ночи «Альбатрос» отойдет, и когда теперь увидятся они?
Постучали, он буркнул, разрешая (на ужин пора, а тут несет кого‑то), но вспомнил, что перед душем заперся. Открыл. Перед ним стоял Виктор Сурканов – черный, белозубый, глаза смелы и блестят, а в руках тарелки – одна на другую опрокинута.
– Разрешите, Михал Михайлович?
Рогов отступил, пропуская. Сурканов, как фокусник, приподнял верхнюю тарелку, и оттуда стрельнуло паром. Мясной горячий дух вырвался на волю.
– Чего это? – но понял уже, и сжал губы, и не удивился, когда услышал:
– Обещанные отбивные, Михал Михайлович. Пока горячие. – Он протягивал тарелку.
– Черепаха, что ли?
– Ну!
Рогов сопел и не брал. Сурканову было горячо, он перебирал пальцами, в другую руку переложил тарелку.
– Укокошил все же? – спросил стармех, а у самого от желания и аппетита во рту свело.
– Так я же говорил вам. – Сурканов, шагнув, поставил тарелку на стол. – Для того ведь оно и создано.
«Тоже. мне, – подумал стармех. – Философ».
– Кто – оно?
– Оно! – Сурканов, блестя глазами, кивнул на темнеющее в луке мясо, сочный и прекрасный дух которого разросся теперь во всю каюту. —Приятно кушать.
К двери направился, но стармех остановил его.
– На подвахту с восьми. Не забыл? – хотя знал, конечно, что не забыл – такие вещи Сурканов не забывает.
– Меня освободили. – Черные глаза глядели на старшего механика дерзко и весело.
– Освободили? – брюзгливо переспросил Рогов. – Кто же это? – А ведь понимал, что Сурканов, цыган проклятый, дразнит его, и не допрашивать тут надо, а тем же отвечать.
– Вон! – он кивнул на тарелку с отбивными. – Черепашиной откупился. – Засмеялся и исчез за дверью.
Рогов грузно стоял посреди каюгы, и было ему, внезапно нахлынув, тоскливо–тоскливо. О Петьке думал. «И долго ты намерен искать себя? Всю жизнь, что ли?» – «Может быть, и всю жизнь». Но не слова были главными – тон, каким говорил их, поза, опущенное больное веко. «Вы ведь ничего не знаете обо мне, Михаил Михайлович. Ничего».
– А что я должен знать? – вслух спросил Рогов.
Глупо: стоять посреди каюты, один, и беседовать с самим собой. Глупо! Он зашевелился, завозился, словно был окутан чем‑то и предстояло ему выбраться, увидел черепашину, но сейчас она не показалась ему такой аппетитной и не пахла. Подойдя к столу, взял толстыми пальцами щепоть лука.
Как звали ту Петькину девушку? Она встречала его, когда возвращались из рейса, и два или три раза он приходил с нею к ним (Клаве она тоже нравилась). Когда Петька уехал в училище, Рогов не видел её долго. Встретив, обрадовался: сейчас узнает наконец о Петьке, стал расспрашивать, а она вдруг припала к нему и заплакала. Он растерялся. Стоял с растопыренными руками и не знал, что делать. Он все понял (так ему показалось – теперь‑то он знает, что не понял ничего), но как заговорить об этом, да и надо ли? Выдавил хрипло: «Он обидел тебя?» Она подняла на него глаза – они были светлые и хорошие, мокрые. «Если он обидел тебя…» – с угрозой, хотя что он мот сделать, как наказать Петьку? Разве что осудить его в сердце своем, перечеркнуть навсегда? «Нет». Доверчиво глядела ему в глаза и слегка – покачивала головой: нет, нет. Ему полегчало, а потом нехорошо сделалось: как мог он подумать так о Петьке? Она ещё говорила, но ему одно запомнилось: «Он вас очень любил». Вас! Не меня, а вас… Потому так и откровенна с вами.
Как звали её? Она стала бы хорошей женой – верной! – а что может быть важнее для моряка? – но Петька и тут напортачил. Вся жизнь наизнанку! А был бы стармехом уже, хорошая жена, дети —все сам себе напортачил. Перед глазами стояло, как сидит Петька Малыга, отодвинувшись вместе с креслом от стола, опущенные руки, немолодой, невеселый, и нету счастья ему, а он, бывший учитель, крёстный, по существу, отец, хлещет его безжалостными словами.
Стармех натянул рубаху с короткими рукавами (жёсткая от крахмала). Захватив тарелку с отбивными, в салон пошел. Ели вдвоём с Журко: капитан не приходил ещё, а чиф – на мостике и будет там до полуночи. Все – смешалось на промысле… Стало быть, «Альбатрос» при чифе отойдет. Рогов подумал об этом с досадой, и эта‑то не понятная поначалу досада выдала ему его неоперившееся ещё намерение: связаться по УКВ с Петькой. Значит, надо, раз есть в нем такое желание. Он понятия не имел, ни что скажет Петьке, ни как объяснит свой срочный вызов к аппарату. Объяснит… Вот разве что при Антошине неловко – вроде бы на попятную идёт, но было и отрадное в его присутствии: стармех как бы дополнительно наказывал себя за свою незрячую жестокость ; к Петьке.
До вечернего совета оставалось чуть больше получаса. Взяв сведения, стармех засел за составление ежедневной сводки на берег. Он терпеть не мог всю эту писанину, презирал, а она росла год от года – журналы, рапорты, запросы, донесения… В бухгалтера превратится скоро старший механик. На всех береговых совещаниях Рогов обрушивался на эту захлёстывающую море бюрократию, и другие поддерживали, а толку?
Он поднялся в радиорубку. Смыслов настраивал рацию, готовясь к совету. Рогов молча положил перед ним бумаги, грузно опустился на диван, на обычное свое место. Ровно девять показывал хронометр – минутная стрелка вползла в красный запрещающий сектор: три минуты молчания. Вошёл Журко, а следом за ним – капитан, опустился в вертящееся кресло перед аппаратом, и тотчас ворвался голос флагмана промысла.
– «Гелий» в эфире. Добрый вечер, товарищи капитаны, товарищи радисты. Проведем наш вечерний совет. Погода. Ветер остовый, два балла, без осадков. На северо–востоке шторма, так что к утру, видимо, зыбь усилится. «Гелий» в восемнадцать часов отошел от «Памира». Сдали четыреста тонн свежемороженой и – семьдесят тонн муки. Взяли воды, но, конечно, меньше, чем хотелось бы. Гораздо меньше. – Капитан «Гелия» подавил вздох и выдержал паузу – для вескости. – К вам всегдашняя просьба, Алексей Андрианович: посмотрите свои резервы. С водой на промысле туго, подход следующего транспорта ожидается через две недели, гак что вся надежда на вас.
Камень преткновения эта чертова вода – все другие капитаны тоже скулили. Триста тонн продано за двое с половиной суток (триста!), это почти рейсовый план, хотя рейс, по существу, только начался, чего же ещё надо им от «Памира»? Уж не воображают ли они, что у нас тут артезианский колодец? Не транспорт надо бомбардировать – берег: пусть танкер шлют. На берегу головотяпы сидят, а транспортники – отдувайся.
Перещеголял всех капитан «Ай–Петри». Коли на промысловых судах, рассудил он, строгая экономия (лишь шесть раз и сутки включают пресную воду и один банный день в неделю), то не справедливо ли ввести подобный режим и на «Памире»? Временно, разумеется, пока на промысле. Светлая голова! Рогова так и под–мывало взять у Алексея Андриановича микрофон и полюбопытствовать у «Ай–Петри», каким же это образом он мыслит осуществить свою идею? Подключить в систему забортную неопресненную воду, как это у них делается? В таком случае уважаемому «Ай–Петри» небезынтересно, наверное, узнать, что на судах типа «Памир» это исключено: иной принцип водоснабжения.
Алексей Андрианович, конечно, не скажет – слишком тактичен. А жаль! Вот сейчас – жаль! Любопытно, их стармех присутствует на совете? Если – да, почему не подскажет капитану? На посмешище выставляет перед всем промыслом.
В эфир вышел «Альбатрос», и Рогов насторожился. Давали хорошо – триста тонн уже снято, но что‑то случилось с лебёдкой и почти час работали на одну точку. Рогов помнил этот час: как раз в трюме был. Стропы сыпались, как сумасшедшие. Поутихшую, но ещё живую усталость ощутил в теле стармех, и одновременно – знакомое быстрое удовлетворение: выдержал!
Капитан «Альбатроса» говорил, что сейчас все в порядке и, можно надеяться, к двадцати двум часам отойдут. Стармех взглянул на часы. Было четверть десятого.
13
Внизу на освещенной палубе медленно и неслышно двигались лебёдки, люди ползали. Матрос в берете и шортах – не Герасько ли? – тащил на плече короб с рыбой – на камбуз.
Рогов мешкал. «Альбатрос» все ещё давал рыбу и, кажется, отходить не собирался. Но по правому борту, меньше, чем в полумили от нас, стоял наготове «Херсон» – единственный пароход, что ещё не швартовался к «Памиру». Его‑то уже будем обрабатывать без торопливости, без подвахт и снимем все. Сэкономит на одной швартовке, но больше потерял, дожидаясь очереди. Впрочем, мог бы и дольше загорать, не объяви они аврал на «Памире». Сам капитан вкалывал с утра на подвахте…
Эти рабочие рассуждения не то что уводили от предстоящего разговора с Петькой, но ставили его в тот же деловой и необходимый ряд – так что и. волноваться вроде бы не из‑за чего.
Справа двадцать открылся огонь – кто‑то из наших тралит. А может, поляки – они тоже работают здесь: во время утреннего совета бегущая польская речь раза два или три врывалась в нашу частоту.
Петр удивится, когда он вызовет его. Или предчувствует и ждёт?
Палуба уже отсырела, хотя ночь только подымалась и. влажность не достигла ещё своих ста процентов. Пришвартованные корабли болтались вверх–вниз, наша же махина казалась отсюда недвижимой. Поразительно, но на сей раз синоптики не ошиблись: зыбь усиливалась. Как же штормит там сейчас, если эхо аж сюда докатывается!
«Не вышло из тебя человека, Петр. Ты ведь не живёшь– небо коптишь. И ничего не найдешь ты уже, попомни мое слово. Из таких, как ты, предатели получаются». Кто дал ему право на эти слова!
Зазвонил телефон, чиф дважды сказал своим бесстрастным голосом «да» и положил трубку. Стармеха, должно быть, не заметил – тот стоял в дальнем углу, за камерой радара.
Жива ли мать Петьки? Где‑то под Костромой жила она, хворала. Возвращаясь из рейса, беспокойно и внимательно вчитывался Петька в её письма..В отпуск ездил к ней (при Рогове раз такое было; почему раз только?), а вернувшись, приволок гору деревенских гостинцев. Очень мед был вкусен, в сотах – ни до, ни после не едал Рогов такого меда.
Не спросил. Черт знает о чем говорил, а главное – мать как? – не спросил. В памяти снова всплыло немолодое нерадостное Петькино лицо, его фигура, отодвинутая от стола, его больное веко – и трепыхнуло вдруг сердце у стармеха, и жарко сделалось лбу и на толстом загривке. Умерла мать… Мгновение он сопротивлялся этой мысли – дурно было думать так, не зная наверняка, но мысль встряла, и никуда. Давно случилось это? По–видимому, не очень, потому‑то и в море опять пошел – забыться. «Вы ведь ничего не знаете обо мне, Михаил Михайлович. Ничего».
Рогов решительно подошел к УКВ.
– «Альбатрос» – «Памиру», «Альбатрос» – «Памиру». – И спросил первого помощника. Боялся услышать: отдыхает Первый, или на палубе где‑то, или в трюме на – подвахте– у них ведь там тоже подхваты.
– Сейчас…
Стармех ждал, сомкнув губы, не вытирая испарину со лба и тем как бы отрицая и испарину, и свое волнение. Все хорошо… Обтекаемая отраженным от палубы светом чернела фигура чифа. Пусть!
– Малыга у аппарата. Прием.
Стармех поспешно отвел взгляд от чифа, нажал клавиш передачи. Внимающая, бездонная пустота эфира.
– Это Рогов. – Его губы почти касались микрофона. – Привет!
Он не знал, что ещё сказать, и отпустил клавиш, но там молчали, его слушали – он ведь не предупредил «Прием», и он торопливо опять нажал. Жарко в рулевой рубке!
– Петя, —сказал он. – Ты меня слышишь?
– Слушаю, Михаил Михайлович. – Будто и не произошло ничего.
Ни единой мысли в голове… Нашелся:
– Пошли на седьмой.
– Пошли, – согласился Петр, и Рогов переключил с дежурного одиннадцатого канала, на котором слушали все, на свободный седьмой. Получилось, будто обещает преподнести Петьке Малыге нечто сокровенное… Не было у Рогова ничего такого.
– Здесь? – деловито осведомился он, будто была все же, и сейчас скажет.
– Здесь, – спокойно подтвердил Петька.
Стармех озабоченно почмокал в микрофон.
– Когда отходите?
– Сейчас.
И все, и ни слова больше. Рогова обескураживала Петькина лаконичность.
– Как же сейчас? Вы ведь даёте ещё. – Но взглянул вниз и увидел, что лебёдки, которые работали на «Альбатрос», застыли в неподвижности. – Понятно. Много скинули? Прием.
– Четыреста… – Судя по тону, ничего странного не было для него ни в этой беспечной разговорчивости стармеха (после недавнего‑то скандала!), ни в его ду–рацких вопросах (если уж так приспичило ему, мог бы разузнать все у – своего второго штурмана, а не засорять эфир).
– Понятно, – повторил Рогов. На чифа не глядел, но знал, что тот здесь, в пяти шагах, и слышит все. – Вы ведь ещё швартоваться будете?
– Да, – сказал Петр.
– Но теперь уже полегче будет. – Как пусто, как необязательно он говорит! – и все из‑за чифа. Рогов с ненавистью поднял глаза. Антошина не было. Огляделся, не веря. Исчез, испарился! – Петя! – заспешил он. – Ты слышишь меня, Петя? – Впопыхах забыл отпустить клавиш, а когда отпустил, Петр договаривал уже:
– …Михайлович. Прием.
Рогов быстро нажал.
– Послушай, Петя, ты вот что, ты не бери в голову. По–дурацки все получилось. Ты слышишь меня? Прием.
Вместе с Петькиным голосом ворвался другой, далёкий, но тоже русский – наши переговаривались на седьмом о каком‑то тросе, черт бы их побрал! Рогов крикнул:
– На девятый пошли. «Альбатрос», але, на девятый. – Перешли, и Рогов, удостоверившись, что, Петька здесь, заторопил: – Ну–ну, Петя, я слушаю. – Сердце бухало в груди и мешало.
– Да я, собственно, ничего. Все нормально, Михал Михайлович. – Не то, не то! Рогов ждал. Может быть, Петька не понял его? Должен же он сказать ещё что‑то. Эфир посвистывал и гудел пространством.
– Петр, —сказал Рогов.
– Да, Михал Михайлович.
Не один он там, сообразил вдруг Рогов – не один, и как может говорить откровенно? Вахтенный штурман на мостике, а возможно, и капитан – ведь они отходить собираются. Как сразу не догадался?
– Петр, я не прощаюсь с тобой. Как пришвартуетесь, сразу ко мне. Ты понял меня?
– Да я не знаю, Михал Михайлович. Как там получится…
Рогов и слушать не хотел. Он требовал, ругался – перед ним опять был прежний Петька, его ученик, и тот уступил, потому что кап мог он. не уступить стармеху Рогову?
– Так договорились. Я жду тебя. Как только пришвартуетесь – связываемся. – И ещё раз, на прощанье– твердо и раздельно: – Ты понял меня – не держи в голове. Выкинь! Ты ведь знаешь меня. Я могу такого наговорить… – Пусть штурман там, пусть капитан – в конце концов, он не о Петьке – о себе.
Выключившись, некоторое время – стоял неподвижно, затем вспомнил и перевел на одиннадцатый. И тотчас:
– «Памир», «Памир», где вы там запропастились? Прием.
Стармех огляделся. Антошина не было, и он ответил сам. Вызывал «Меридиан» – что‑то там насчет тары.
– Минутку, —сказал Рогов и вышел из рубки. Чиф неподвижно стоял спиной к нему.
– Евгений Иванович!
Антошин медленно обернулся.
– «Меридиан», – сказал Рогов.
Но до чифа вроде не сразу дошло – как‑то странно глядел на старшего механика. Затем молча прошел в рубку.
Налетевший ветер приятно обдул широкое разгоряченное лицо Рогова.
14
Цепляли сетку, чтобы переправить счетчиков на «Альбатрос». Рогов рассеянно следил сверху. Вроде бы и бестолковым получился разговор с Петькой, и ничего не сказали друг другу, а – полегчало.
Сетку облепили трое, и она поднялась, поплыла, бережно опустила людей на палубу «Альбатроса». Лебёдки разъединили, и они разошлись, каждая к себе – одна на «Памир», другая на «Альбатрос». По палубе прокатился усиленный репродукторами голос Антошина:
– «Альбатрос» отходит. Звену Никитина стоять по местам швартовки.
А ведь чиф умышленно вышел из рулевой рубки, понял вдруг стармех – вышел, чтобы оставить его наедине – с Петькой. Теперь Рогов готов был простить чифу все, а когда подумал: что все? – удивился: -прощать оказалось нечего. Просто антипатия… Так нельзя относиться к людям – сколько раз стармех строго осуждал себя за это!
У Петьки с Антошиным даже судьбы схожи – оба без семьи, оба неприкаянно болтаются по свету. У чифа, впрочем, есть где‑то жена и ребенок, но он не живёт с ними. Скандал какой‑то был, неприятность, связанная с женщиной, из‑за чего – и капитанства лишился в торговом флоте. Краем уха слышал об этом Рогов – не интересовался, а сейчас подумал. Антошин заразил Петьку своей неудачливостю… Несправедливо думать так, и Рогов, который только что – в какой уж раз! – запретил себе несправедливо думать о людях, прогнал эти мысли. Знакомое чувство коснулось его: не только год тому, но и месяц, день, полдня назад был он глупее и наивнее, нежели в данную минуту. Чепуха! Если б и впрямь умнел, что ни час, в какого бы гения вымахал!
Чиф командовал по радио:
– На носу, елабину дайте…
На мостике «Альбатроса» в жёлтом свете плафона стояли люди. Рогов посмотрел в бинокль. Петьки не было, и это неприятно кольнуло стармеха. Капитан – молодой, хотя, пожалуй, и постарше нашего, —отдавая приказания, всем корпусом поворачивается к рулевому – чтобы голоса не повышать? Совсем другим представлял его Рогов нынче утром, когда тот не сумел пришвартоваться с первого раза – в этакий‑то штиль! Сейчас зыбь, а отходит спокойно и точно. Стармех был недоволен собой.
– На корме, придержите немного, – услышал он негромкий живой голос, и почти одновременно репродукторы раструбили это по кораблю.
Он обернулся. Чиф с микрофоном, за которым тянулся шнур, стоял в шаге от него, следил за корпусом «Альбатроса». Полоса воды между судами ширилась и бурлила, её освещали бортовые огни. Куски картона болтались там, рыбины, консервная банка со вздёрнутой крышкой.
– Хорошо, корма, – еказал Антошин. – Можете отпускать. Смотрите, чтоб конец не ушел.
Рогов снова поднес бинокль к глазам. В луче прожектора голый по пояс человек чистил над чаном картошку.
«Альбатрос» перестал пятиться, замер и, постояв так, двинулся вперёд. Рогов сказал:
– Опять быстро отшлепали. Четыреста тонн за десять часов. – Но в этом возвращении к их утреннему спору вызова не было – напротив, стармех как бы подтрунивал над собой и немного над чифом: стоило ли схлестываться всерьёз!
Антошин, опустив микрофон, глядел на удаляющийся корабль. А может, и не на него, потому что «Альбатрос» уходил в сторону, а чиф не поворачивал головы.
– Знаете, какая мысль пришла мне сегодня в голову… – Но не закончил: три долгих гудка протянулись в густой и липкой тропической ночи: «Альбатрос» прощался с «Памиром».
Антошин ушел в рубку и ответил «Альбатросу» – три, а потом один короткий, как точку поставил.
Что‑то серьезное и откровенное услышит он сейчас, подумал Рогов. Голые выпуклые глаза вспомнил, какими чиф глядел на него сегодня в бассейне.
Антошин вызывал по УКВ:
– «Херсон», вы слышите меня, ответьте «Памиру». «Херсон»…
– «Херсон» слушает, прием…
– Борт свободен, можете бежать, – и принялся объяснять своим ровным голосом, как лучше подойти.
Вернувшись, некоторое время молчал, мыслями собирался. Рогов не торопил.
– Да, так вот. Мне это пришло в голову нынче утром, когда матросы черепаху притащили. Помните?
Насупившийся стармех молча крутил окуляры бинокля. Но чиф и не ждал ответа.
– Есть такой крохотный островок – Вознесения, точка в океане, а черепахи находят его. За тысячи миль приплывают. Как? Современный корабль, оснащенный новейшей навигационной техникой, отыскивает этот остров с немалыми трудностями, а эти животные, твари пресмыкающиеся, – безошибочно. Фантастика, а? Какие только теории не выдвигались тут? Ориентирование по небесным телам. По магнитному полю земли. Даже по так называемой силе Кориолиса, то есть по разности в скоростях, с которой вращаются на разных широтах точки земной поверхности. Чушь все это! Нет никакого математического объяснения – просто черепахи находят свой остров, и все. – Он помолчал. – Вам кажется, я околесицу несу, – закончил он грустно и медленным движением снял, стянул с лица очки.
Рогов, ещё минуту назад раздраженный и недоумевающий (и правда, к чему все это – сейчас?), стих вдруг, осел, успокоился. Плохо Антошину, понимал он, – плохо и одиноко, и то, что он говорит сейчас, очень важно для него.
Стармех сказал со смирением:
– Я слушаю вас.
Не в стеклах очков, а в выпуклых и неподвижных глазах отражался теперь свет палубы – словно они и были стеклами.
– Чутье. Вера. Интуиция. Как угодно назовите, но ведь есть что‑то такое… Я не о черепахах сейчас, – уточнил он с какой‑то даже досадой. – Есть ведь что‑то такое, что заставляет простого крестьянина вести себя нравственно. Бог? Но на наш атеистический взгляд, бог столь же нелепое понятие, как ориентация черепах по силе Кориолиса. Когда стараешься назвать и объяснить такое, выходит глупо. Бога, я думаю, выдумали безбожники. Вроде Льва Толстого. От зависти. В других было, а в них нет, и они изобретали навигационные приборы. – Как ни внимательно слушал Рогов, смысл антошинских речей ускользал от него. И все‑таки у него было ощущение, что он понимает. – Самое ужасное заключается в том, что это нельзя искать и найти, это можно только иметь. Но можно и потерять, если начнешь слишком ковыряться в себе. Впрочем, вам уже не грозит это: вы перешагнули опасный возраст.
На чифа неотрывно смотрел Рогов – только на чифа, – но видел, телом чувствовал, как слева, надвигаясь огнями, приближается «Херсон». Сейчас чиф уйдет швартоваться.
– Я не знаю… – Стармех торопился. Он непременно должен сказать что‑то, успеть. – Мне трудно судить об этом… Не хватает… Вы очень образованны, Евгений Иванович. Я завидую вам. Я, наверное, и одной сотой не прочел вашего…
Губы Антошина поползли и растянулись, и Рогов понял: не то, вру я, все, и Антошин видит, что вру.
– Вот видите. Даже сейчас вам не требуется навн–гационных приборов. Вы не завидуете мне. Но не в этом дело…
И тут – из рубки: «Памир» – «Херсону», «Памир» – «Херсону». Чиф аккуратно надел 041КИ.
– Не в этом дело, – повторил он. – Я о другом хотел… – и подавив вздох, направился в рубку.
Через секунду оттуда донёсся его голос:
– «Памир» слушает. Прием.
15
Рогов лежал в бассейне – на спине, раскинув руки, один: только что ушли два последних. матроса. Корабль кренило, вода выплёскивалась, и держать равновесие было трудно. Если зыбь усилится, придется вирать якорь и работать носом на волну, ведя за собой пришвартованные суда – узел, полтора. Не сладок для машины такой режим, но что делать – не станешь ведь из‑за зыби прекращать работу. Конечно, у них есть теперь небольшой запас времени (за трое суток – недельную норму дали), но в тропиках транжирить его жаль: впереди Джорджес–банка, где не зыбь, а шторма (гнилой угол Атлантики), и уж наверняка выдадутся пустые дни.
Ещё нынче утром, каких‑то двенадцать часов назад, здесь же, в бассейне был совершенно уверен стармех в их недосягаемости для непогоды, дразнил её (непогоду) и нежился, и вот, пожалуйста. Не обмануло предчувствие: неудачный, отвратительный день.
А начался хорошо, и все хорошо было, пока Сурканов не приволок черепаху. Именно тогда, вышвырнув её за борт, понял Рогов, что все теперь пойдет кувырком. Пусть бы лучше зарезал её цыган!
Стармех был недоволен собой. Все, что говорил ему полчаса назад Антошин, – выдумка, ложь, нету в нем никаких черепашьих инстинктов. Вообще ничего нету. Да и зачем ему? – ни к какому острову он не собирается плыть. Заморочили себе голову ерундой – что чиф, что Петька, и сами не знают теперь, чего хотят. Надо жить… Стармех едва не подумал: как я живу, – но испугался этой наглой мысли, отпихнул. Потеряв равновесие, встал на ноги. Вода стекала по лицу, по открытым глазам, и его качало. Он схватился рукой за борт. Звезды расползались в черноте, как золотистые кляксы, сливались в одно, а потом, когда сморгнул, опять разъединились и съежились.








