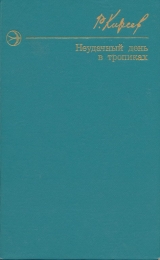
Текст книги "Неудачный день в тропиках. Повести и рассказы."
Автор книги: Руслан Киреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Мать ни о чем не спрашивала, она сказала только: «Делай, как знаешь», – и больше не возвращалась к этому. Но в её молчаливой покорности угадывалось чувство, которое, сам того не желая, я вызвал в ней: она – скверная, она во – всехМ виновата, а я – этакий бодрый правдолюбец и в душе презираю её. Ложь! Хотя в том, что случилось в Алмазове, я играл пассивную роль – мне никогда не приходило в голову обвинять мать. Не знаю, как это объяснить, но мне до сих пор кажется, что тогда я – вёл себя подлее и её и Вологолова.
Для военкомата требовалось свидетельство о рождении, и я залез в старомодную черную сумку матери, где хранились документы. Под руку попался – пухлый конверт, на котором я с удивлением увидел свое – имя: Шмакову Кириллу Родионовичу. Я узнал почерк отца. «Родионович», показалось мне, было выведено особенно крупно.
В сумке лежали ещё два его письма. Это были давние письма, они пришли – одно за одним – сразу после нашего бегства из Алмазо–ва. Тогда мать, оберегая, должно быть, мое «ранимое» сердце, не дала мне их прочесть, —впрочем, я – и не настаивал на этом.
В сомнении, двумя пальцами – кж ценную реликвию или, быть может, мину – держал я распечатанные конверты. В доме никого не было. Зачем, для кого хранила мать его послания?
Помешкав, осторожно положил письма на прежнее место, взял свидетельство и закрыл сумку.
У – калитки я остановился, чтобы пропустить вперёд Шмакова, но он тоже остановился, – и мне пришлось войти первому.
Взгляд Шмакова, суетливо побегав, задержался на светлеющем между деревьями чемодане.
– Это мой, – поспешно сказал я – только бы прервать молчание. Пока что я не вытянул из него ни слова.
Я взял чемодан и любовно подержал его на вытянутой руке.
– Путешествует со мной!
Шмаков молчал. Потом спохватился, достал с высокого подоконника ключ —он и раньше лежал на этом месте – открыл дверь.
Кому оставлял он ключ? Или просто боялся потерять его?
В Алмазове эта мысль, которую я настойчиво прокручивал для себя, звучала как правильный, но абстрактный тезис: я тоже виноват в том, что Шмаков спустился так. Напиши я ему – хотя бы раз за все эти годы – что‑то, может, было б иначе. Ведь ни одного близкого человека на всем белом свете – кроме меня с матерью, если, конечно, меня с матерью можно считать близкими ему людьми.
В кухне пахло плесеню, на грязном окне болталась оборванная штора. Но все вещи оставались на своих местах – топчан, на котором спал пьяный Шмаков, полка с кухонной посудой, самодельный – стол и прожженная клеёнка, .пришпиленная к нему ржавыми кнопками.
В комнате тоже мало что изменилось. На кресле, в котором любила, поджав под себя ноги, сидеть мать, блестела консервная банка. К крышке была прикручена алюминиевой проволокой длинная. сучковатая палка.
Оба портрета висели на прежнем месте, но были в грязных пятнах, и точках от мух – мой портрет и матери: неулыбающаяся молодая женщина с опущенными глазами.
Мы сидели, пока не явился сосед по номеру, и тогда мы ушли. Я проводил мать до дому, как провожают девушку.
Я обещал позвонить сразу же, как вернусь из Алмазова. Она кивнула. Её взгляд задержался на мне, но, так и не сказав ни слова, не пригласив зайти, она коснулась губами моей щеки и быстро пошла к дому. Ей было за сорок, но сзади, освещенная уличным фонарем, она казалась девочкой.
– Все как было, – сказал я и обернулся, но Шмакова рядом не было.
Удивленный, я опустил на грязный пол чемодан, вышел в кухню, затем, помешкав, в коридор. Шмаков неподвижно стоял на крыльце. Почему‑то я чувствовал, что не гордость и не оскорбленное самолюбие были причиной его странного поведения, а страх: зачем я приехал, что хочу от него?
Сделав 1над собой усилие, я позвал вполголоса:
– Папа!
Он тотчас обернулся. Во взгляде его метнулось беспокойство.
– Здравствуй все‑таки, – проговорил я, нагнулся и поцеловал его в жёлтую щеку с мелкими царапинами – следы неаккуратного бритья. – Ты не думал, что я приеду? – Надо же было говорить что‑то.
– Почему? – пробубнил он и взгляд его забегал. Видимо, он ожидал от меня каких‑то неприятных вестей. Какие неприятные вести я мог сообщить ему? Что ещё боялся потерять этот человек?
– Я приехал проведать тебя. У меня отпуск. Я работаю теперь.
Шмаков молчал. Лицо его раскраснелось от вина. Он беззвучно задвигал сизыми губами – раньше я не замечал за ним такого.
– Ты на пенсии? – спросил я.
– Сорок два рубля, – отрывисто и недовольно сказал он.
– Я буду помогать тебе.
Он стрельнул в меня глазами и ничего не ответил.
У ржавого. ведра с выбитым дном возилась курица. Она подняла голову и уставилась на нас одним глазом.
– Надо покормить, – буркнул вдруг Шмаков и прошмыгнул в дом.
Когда он вернулся, в руках у него была та самая консервная банка с прикрученной к ней сучковатой палкой, которую я видел на кресле. В банке оказалось немного пшеницы. Он высыпал её в руку, спустился с крыльца и аккуратно рассыпал пшеницу по земле.
Курица клевала с жадностью.
– Моя, – кивнув, гордо сказал Шмаков. И вдруг заорал хриплым голосом: —Цып–цып–цып!
Я вздрогнул. Курица шарахнулась к засохшему шиповнику. Шмаков торопливо подошел к калитке, открыл её и, высунувшись наружу, прокричал ещё раз: «Цып–цып–цып!»
– Гуляет где‑то, —озадаченно объяснил он, глядя в сторону. – Их две у меня. Через день несутся. – Он помолчал и прибавил: – Сегодня ни одного не было.
– Может, вторая несется сейчас?
Шмаков и на этот раз не удостоил меня взглядом.
Подумав, проворно поднялся на крыльцо и заглянул в кладовку, отгороженную от коридора дощатой перегородкой. Пол в кладовке был изгажен куриным пометом, в углу стояли, один на одном, два ящика, в верхнем было гнездо.
– А что, они не в подвале разве?
– В каком подвале? – спросил он, глядя перед собой.
– Ну, в подвале. Где раньше были.
– Нет, – сказал Шмаков и решительно помотал головой. – Я уступил подвал. Мне здесь удобно. Я Лопатиным уступил. Мы с ними в хороших отношениях. – Он сказал это с гордостью.
Ночью в подвале под нами крякали утки.
– Есть хотят, —прошептал я.
Мать не ответила. Но она не спала – я различал в падающем из окна тусклом свете блеск её глаз. Мне сделалось не по себе. Кажется, никогда ещё я не чувствовал себя так одиноко.
В кухне на топчане храпел пьяный Шмаков. Вологолов не появился ещё в. нашем доме.
– Гуси кричат, – громко сказал я.
Мать молчала. Я приподнялся на локте, встревоженно заглядывая ей в лицо.
– Какие гуси! – устало проговорила она.
Звук её голоса успокоил меня, я лёг на скрипнувший диван и некоторое время глядел в потолок.
– Утки, – поправился я. – Ты не слышишь?
За окном, далеко от нас, протяжно зашумел и умолк ветер.
– Слышу, —сказала мать и вздохнула. – Спать давай.
– Мария! – ещё раз громко позвал Вологолов.
Мать, босиком выбежав из комнаты, порывисто обняла меня. Притворства не было в этом – мой внезапный визит к ним явился для нее, быть может, большим сюрпризом, чем для Вологолова: уезжая, я обещал лишь позвонить после возвращения из Алмазова.
Вид матери поразил меня, но я не сразу понял, что так изменило её. Её черные волосы, обычно распущенные, были подняты, собраны и простенько схвачены приколками. Это домашняя прическа старила её, лицо было утомленным, большелобым, на неприкрытой беззащитной шее темнели морщинки.
Она прижалась щекой к моему лицу, но тотчас отстранилась и взгляд её беспокойно проник – в мои глаза.
То ли выпитое у магазина вино подействовало на Шмакова, то ли он сообразил, что я не собираюсь причинять ему зла, но он как‑то разом ожил, засуетился и теперь держал себя так, словно мы расстались с ним месяц назад.
Когда он снял в комнате кепку, блеснул голый череп: от волос, которыми он прикрывал когда‑то лысину, осталось лишь несколько свалявшихся клочков – на затылке и возле красных ушей. Я спросил, как он чувствует себя.
– Очень хорошо! Прекрасно! А Митрохин помер! – прибавил вдруг он и засмеялся, ощеря остренькие зубки – одного, переднего, не хватало. – А я ничего. Помнишь Митрохина? Возчик, на ферме у меня работал. Помер весной.
Он снова засмеялся и мне сделалось зябко от этого его смеха.
– Что же ты телеграммы не дал, не предупредил? – дружески гудел Вологолов. – Встретили бы. Ты каким поездом?
На его плотной шее белел крестик пластыря.
Я не ответил и шагнул было вперёд, но остановился, глядя на сверкающий пол.
– Ничего–ничего, – сказала мать, и я снова ощутил на себе её быстрый, пытливый взгляд – её беспокоило мое поспешное возвращение из Алмазова. – Проходи. Мы ужинаем как раз.
В автобусе, по дороге в Алмазово, я с беспокойством думал, не обидят ли Шмакова мои подарки, не воспримет ли он их как компенсацию за давнее мое предательство и многолетнее молчание потом. Увидев Шмакова, я понял, что опасения мои напрасны. Я открыл чемодан и молча стал выкладывать на стол все, что было там.
Я огляделся. Те трое или четверо мужчин, которых я заметил среди многочисленных в магазине женщин, были далеки от комплекции Шмакова. Я подождал. В магазин вошёл худощавый подросток.
– Простите, – сказал я. Подросток с неудовольствием повернулся ко мне. – Вы не скажете, какой размер рубашки вы носите? Мне приятелю подарить – он как вы примерно.
Нейлоновая рубашка, шерстяное кашне в черную и белую полоску, безразмерные носки, высокая, тонкого стекла чашка с блюдцем – в былые времена Шмаков любил чаевничать – все это я выбирал тщательно и с сомнениями, но сейчас, в запущенной комнате, на столе, где валялись вверх лапками дохлые мухи, подарки мои выглядели более чем нелепо. Каждый из них Шмаков встречал с каким‑то удивлением, затем принимался суетливо благодарить меня, но ни на одной вещи его взгляд не задержался надолго – нетерпеливо убегал назад, к чемодану.
Успокоился Шмаков, когда лишь я извлёк перевязанную широкой лентой коробку, в которой лежали под целлофаном бутылка водки, вино, какие‑то консервы.
– Ужинать будем, – сказал он и засмеялся, но, тут же оборвав смех, посмотрел на меня с подобострастным вопросом.
Я пожал плечами.
– Это вам все.
И тотчас спохватился, что назвал его на «вы». Но он не заметил этого.
– Ужинать будем! – повторил он, уже утвердительно, торопливо нагнулся и принялся сдувать со стола дохлых мух.
В кухне, на белом столе, сверкала посуда. Вологолов достал из холодильника бутылку водки.
– Ты что же, в отпуск?
Я кивнул и, помешкав, сел. Мать поставила мне тарелку, положила вилку и иож. «Прибор», – вспомнил я и внутренне усмехнулся. Когда перед Вологолозым не оказывалось ножа с вилкой, он лаконично напоминал: «Прибор…» Он питал слабость ко всему ресторанному – посуде, блюдам, я и сейчас заметил на столе графинчик с золотой каймой – официанты в таких подают водку. Графинчик был уже пуст, а Вологолов – красен и возбуждён и задавал мне вопрос за вопросом. Взгляд матери иногда напряженно останавливался на мне, но она молчала, не заботясь о том, что мужу такое её поведение может показаться странным: год не видела сына и ей не о чем спросить его. Впрочем, за семь лет Вологолов, видимо, привык к неженской молчаливости матери.
Отчего раньше не замечал я так остро этот холодный ресторанный блеск в доме Вологолова? То ли потому, что обедал дома, а не в кафе, по дешёвому дневному меню – близ не существующей больше пирожковой Федора Осиповича– и не знал этого специфического казённого духа общепита; то ли после года отсутствия новыми глазами увидел то, с чем свыкся, живя здесь?
Шмаков выставил на стол посуду, все было грязным, на рюмках – это были наши старые гранёные рюмки – темнели коричневые потеки. Я собрался за водой, но он вырвал у меня ведро и, не слушая меня, побежал к колодцу. В доме не оказалось чистой тряпки – посуду вытирали моим дорожным полотенцем. Шмаков многословно извинялся, обещал, что завтра все будет иначе, не позволял мне ничего делать. Перед тем как сесть за стол, юркнул в кухню, и я слышал, как там торопливо зазвенел рукомойник. Когда он возвратился – спокойным шагом, с выражением деловитой сосредоточенности, – то даже остатки волос были приглажены и мокро блестели.
– А этот… друг‑то твой… Антон? Тоже приехал? – опросил Вологолов, беря запотевшую бутылку с импортной, в медалях, этикеткой.
– Нет, – ответил я и поднялся ополоснуть руки.
Следом за мной вышла мать. Она достала свежее полотенце и, пока я мылся, выжидательно стояла в дверях ванной. Я посмотрел на нее в зеркало. Теперь она глядела на меня не таясь, с откровенным и спокойным вопросом.
Почему я так скоро вернулся из Алмазова – ведь я намеревался пробыть там не меньше недели? Чем объяснить мое появление у них – её сын, знала она, не так‑то легко отступает от принятых решений… Мать терпеливо и настойчиво ждала ответа.
Я стряхнул воду с рук, повернулся и, не глядя на нее, взял полотенце. Даже полотенце в этом доме отдавало чем‑то казённым. Так и казалось, что на нем вышит ресторанный вензель.
Вначале, ещё не опьянев, Шмаков держал себя чинно, рассуждал об искусственных спутниках и о лечении рака.
– Совсем излечивают! Совершенно! —И он, поджав сизые губы, горделиво взглянул на меня, словно сам был причастен к этому фантастическому исцелению. С важным видом поднял рюмку, подержал её, умно глядя в пространство, выпил и неторопливо промокнул губы тыльной стороной ладони. Я угрюмо закусывал, выбирая на столе то, чего не касались руки Шмакова.
Он подцепил на вилку шпротину, но она упала на газету, старательно расстеленную им. Он смутился, быстро схватил шпротину и сунул в рот.
Я долго вытирался, потом, не глядя на мать, вложил ей в руки полотенце и хотел пройти, но она неподвижно стояла в дверях. Молча ждал я, когда она пропустит меня. Что я мог объяснить ей?
– Ты ничего не хочешь мне сказать?
– Что я должен сказать?
Длинное полотенце свисало с её руки едва ли не до полу.
– Ты видел его?
– Конечно, – сказал я.
За моей спиной мерно капало из крана.
– И что? —произнесла она.
– Ничего.
Я повернулся и закрутил кран.
– Ты видел его? —тихо повторила мать.
– Я же сказал.
Я не поднимал глаз, но мне ясно представилась её непривычно открытая, беззащитная шея стареющей женщины.
– Это все, что ты мне хотел сказать?
– Все, —ответил я.
Она опять помолчала, потом тихо отступила, пропуская меня. Конец полотенца лежал на полу. Я прошел – осторожно, чтобы не задеть её.
– А ведь я знаю, – хитро сказал Шмаков. – Ты хочешь, чтобы я выпил за эту женщину.
Я посмотрел на него.
– За какую женщину?
– За эту, – сказал Шмаков и захихикал. – За твою мать.
Я пожал плечами – ив мыслях у меня не было такого.
– Но я принципиально не буду пить за нее! Хотя, ты знаешь, я прожил с нею семь лет. И она любила меня, ты знаешь. Ты думаешь, она не вернётся ко мне? Ты не знаешь жизни, она ещё вернётся к Родиону Шмакову! Ты спроси у людей, уважают меня здесь или нет. Люди скажут тебе! Спроси, как зовут меня! Родионом Яковлевичем. Не Мишкой, а Родионом Яковлевичем! – и он значительно поднял палец.
Я глядел на него, соображая.
– Почему Мишкой?
– Не Мишкой, говорю я тебе! Не Мишкой! – гневно повторил он. – Родионом Яковлевичем. «Здравствуйте, Родион Яковлевич!», «Как дела, Родион Яковлевич?» Ты не смотри, что у меня так! – Он небрежно и неопределенно повел рукой. – Шмаков сельское хозяйство поднимал! Тридцать лет в сельском хозяйстве! Мне только взглянуть на телку – до дня скажу, когда разрешится.
– Но а Мишка‑то при чем?
Шмаков насупился, словно одно это имя унижало его.
– Хохлова, возчика, знаешь?
– Не знаю.
– Хохлова‑то – возчика?
Я подумал и покачал головой.
– Не знаю.
– Знаешь! Хохлов, возчик! Ему сколько лет – меньше, чем мне, думаешь? А его все Мишкой зовут. Никто и отчества не знает. А меня – Родион Яковлевич! «Здравствуйте, Родион Яковлевич!», «Как семейные дела, Родион Яковлевич?» Мои семейные дела все знают, я не скрываю. Мне нечего скрывать. Я им все сказал. – Он испытующе взглянул на меня, решая, быть ли со мной до конца откровенным. – Я им правду сказал. Я им сказал, что вы временно уехали. Сыну, говорю, надо в институт, а жене лечиться. Ей климат наш не подходит, и врачей таких нет. Л как вылечится – вернётся. – Он помолчал, поджав губы, и прибавил решительно: – Она вернётся ко мне! Но я не прощу её! Шмаков не простит её!
Он потянулся к бутылке и налил себе – через край, расплескав водку. Таким щедрым был он в эту минуту…
Я сидел с учебником в палисаднике в роли добровольного стража – час назад неожиданно приехал Вологолоз. На меня слетали лепестки отцветшей акации. Возвращающегося с работы Шмакова я заметил издали. Что‑то необычное почудилось мне в его прямой петушиной походке. Я поднялся и поспешно вошёл в дом. Вологолов, расставив ноги, сидел у приемника. Нарядная и какая‑то особенно молодая в эту минуту мать накрывала на стол. Смеясь, что‑то говорила Вслоголову и поглядывала на него через плечо.
– С работы пришел, – буркнул я и положил на этажерку учебник. Последнее время я избегал в отсутствие Шмакова называть его отцом.
– Кто пришел? – весело и удивленно спросила мать.
– Ну, кто приходит…
– А–а, – сказала она и засмеялась. – Ну, хорошо, обедать будем.
Шмаков, против обыкновения, даже не заглянул в комнату. Обеспокоенный, я вышел к нему. Он сидел на табуретке посреди кухни, расшнуровывал ботинки. Стрельнул в меня недобрым взглядом.
–* Семен Никитич приехал, – сказал я.
Шмаков не ответил. До этого он всегда встречал Вологолова с подобострастной живостью.
Он поставил на место табуретку, тщательно вымыл руки, потом, сосредоточенно глядя в угол, долго вытирал их. Так и не проронив ни слова, пошел в комнату.
Я не двигался. Я думал о том, что кто‑то оказался прозорливей Шмакова и открыл ему глаза. Сейчас гря–нет скандал… А ведь от заветного дня нас отделяла всего неделя, два пустяковых экзамена и—прощай навсегда опостылая деревня Алмазово! В своем воображении я давно уже жил в городе – со всеми его радостями и возможностями, так преувеличенными мною.
В комнате было тихо. Решившись, я открыл дверь. Шмаков пасмурно сидел за столом. Мать, поддразнивая его, беззаботно допытывалась, отчего он такой грустный.
– Обыкновенный, – бубнил Шмаков.
– Не обыкновенный, а надутый, – весело поправила мать и кинула на меня быстрый вопросительный взгляд – думала, знаю что‑то.
Она поставила на стол водку, прямо перед Шмаковым. Он взглянул на нее мельком, исподлобья и отвел глаза.
– Опять балует нас Семен Никитич, – с ласковым упреком проговорила мать.
– Мелочи, – оттопырив губу, бросил Вологолов. Распечатал бутылку, неторопливо наполнил рюмки.
– За приезд, Семен Никитич! – сказала мать.
Шмаков молча выпил, интеллигентно закусил долькой редиски.
– У вас такая же погода? —озабоченно спросил он, подняв на Вологолова свои синие глаза, но тут же опустил их, делая вид, что ищет что‑то. – У нас сохнет все… Огурцы сохнут.
Вологолов сдержанно кивнул. Он не снисходил до того, чтобы запутывать Шмакова и юлить перед ним – предоставлял это нам.
После третьей рюмки от насупленной сосредоточенности Шмакова не осталось и следа. Он горячо и высокопарно рассуждал о чем‑то, жестикулировал, хвастал, какой он незаменимый специалист, и именовал Вологолова лучшим другом. Успокоенный, я вышел на улицу.
Шмаков снова уронил шпротину, но теперь это не смутило его; он тыкал в нее вилкой до тех пор, пока она не развалилась на мелкие кусочки. Тогда он нагнулся к самому столу, со свистом втянул кусочки в рот. На газете расплылось жирное пятно.
Я решился задать свой вопрос.
– А ты догадывался, что она с ним… с Вологоловым… Когда он приезжал к нам?
Шмаков хихикнул.
– Ты думаешь, Шмаков дурак? Шмаков все знал! Ещё когда он водку привозил, я знал! Ты думаешь, он так водку привозил? Но я молчал. Я все молчал! – с гордостью повторил он. —И когда она в город ездила, я молчал.
– Потому что и она привозила? – спросил я, усмехнувшись.
Шмаков смотрел на меня с высокомерным удивлением.
– Что привозила?
– То же самое… Водку.
– И она привозила! – с достоинством подтвердил он. – Но я молчал. А ты думаешь, я не знаю, почему ты приехал, и вот это… – он проницательно сощурился.
– Что это?
– Все! Все это! —он обвел рукой стол.
Я внимательно посмотрел в его выцветшие глаза.
– Почему?
– А потому, что на работе могли сказать. Где ваш отец, могли сказать, и почему вы ему не помогаете? Дети должны помогать родителям – есть даже закон такой. Я все законы знаю! Меня даже на улице спрашивают. Как лучше, спрашивают, Родион Яковлевич, так или так…
Он вдруг вскочил со стула и метнулся во вторую комнату– бывшую нашу спальню. Возвратился с кипой газет; две или три упали, шелестя, на пол.
– Я все их читаю! Все! О чем хочешь Опроси!
Мое появление в доме Вологолова было неожиданно не только для Вологолова и для матери – я сам не ждал от себя этого. Когда я уезжал из Алмазова, у меня и мысли не было, что уже вечером я буду сидеть за семейным ужином в сверкающей кухне Вологолова.
Автобус взбирался в гору. Я обернулся. Алмазово лежало в лощине. Видна была лишь главная улица, остальные дома тонули и зелени. Посреди этой единственной улицы неподвижно темнела фигурка Шмакова.
Я подумал, что сегодня же пойду к Лене в больницу.
Кроме нас с Леной, Антона и его стариков танцевали, кажется, все. Лена смотрела на них со взрослой снисходительностью. Отсеченная болезнью от общей молодой радости, самолюбиво изображала равнодушие.
– Будешь поступать куда? – спросил я.
– Конечно! – тотчас, с некоторым высокомерием, ответила Лена.
Не так надо было (спрашивать об этом…
– В медицинский?
Она удивленно посмотрела на меня.
– Откуда ты знаешь?
Я подумал и пожал плечами.
– Наверное, Антон сказал.
– Антон не знает. Никто не знает.
В её взгляде была требовательность, она ждала объяснения, а я не знал, что ответить ей. Я понятия не имел, откуда взял, что она собирается поступить в медицинский. Я ничего не утаивал, но под её взглядом чувствовал себя так, будто и впрямь скрываю что‑то.
Антон зажёг торшер, а люстру выключил. В полумраке мне было легче смотреть ей в глаза.
– Я не знаю, – повторил я (как можно искреннее. – Может, ты мне говорила?
Что : все‑таки скрывал я от нее? Способность предать человека, которого называл отцом?
Двигатель брал подъем трудно, в одном месте едва не остановились, но шофер со скрежетом переключил скорость, и мы поползли дальше. Справа, словно пологая лестница, поднимались друг за другом стандартные домики – раньше их не было в Алмазове.
В проходе между сиденьями возилась женщина. Она села в автобус последней, перед самым отправлением, и теперь заботливо устанавливала огромные свои корзины, прикрытые марлей.
Я снова обернулся. Я не увидел Шмакова, но мне казалось, что он все ещё машет вслед автобусу.
Водки больше не было, Шмаков стал открывать вино; жестяная закатка не поддавалась, я смотрел, как он мучается, и не хотел помочь ему. Тогда он бросил нож и принялся жадно сдирать заиатку зубами. Из поцарапанной губы засочилась кровь. Шмаков растер её по подбородку, налил в стакан вина и выпил его, не отрываясь. А я твердил себе, что это мой отец, он кормил и поил меня, ни разу не попрекнув меня в этом, и не он, а я предал его.
Я чувствовал, что сжимаю что‑то в руке. Это были деньги на билет. Я не помнил, когда достал их, – быть может, ещё в Алмазове.
– До конца, – сказал я кондуктору.
К Лене наклонилась мать, и я услышал, как она напоминает дочери, что ей пора отдыхать. Лена просительно сказала что‑то, но мать прибавила ласково: «Ты ведь сама знаешь», – и этого оказалось достаточно: она поднялась. Помешкав, протянула мне руку.
– Желаю удачи…
Я встал. Она не смотрела на меня.
– Мы можем выпить на дорогу, – сказал победитель своему поверженному сопернику. – Я захватил кое‑что. Три бутылки «столичной». Я вам оставлю.
Пятнадцатилетний человек, у которого портилось настроение от нечаянного пятна на белоснежной рубашке, даже не заметил омерзительности этих слов, их чудовищной паскудности – так поглощен он был желанием скорее улизнуть отсюда. Незаметно поглядывал он в окно – боялся, быть может, что такси укатит вдруг и они останутся здесь.
Лена была уже возле двери – я видел её тоненькую шею и лакированный модный пояс, такой широкий на её несформировавшейся талии – когда она остановилась вдруг и, лавируя между парами, вернулась ко мне.
– А тебе бы я все равно сказала, – быстро прошептала она. – Об институте. Что в медицинский…
И тотчас повернувшись, пошла обратно. Оживленная волнением, смущенная, с порозовевшим лицом – такою она и запомнилась мне.
Автобус вынырнул на шоссе и покатил легко и бесшумно. Лощина, в которой ютилось Алмазово, ещё некоторое время тянулась рядом.
Я подумал, что все кончено, я свободен. Проклятья, что так долго тяготело надо мной, не существует больше. Но странно, я не испытывал ни приподнятости, ни чувства освобождения.
Федор Осипович постучал в деревянную перегородку, разделяющую наши с ним комнаты, негромко окликнул меня и, когда я вошёл, деликатно отошел к окну, где сидела Вера. В распахнутой двери я увидел Таю. Она была в брюках и пушистом малиновом свитере. Я подошел близко к ней. Глаза её смеялись.
– Я вас приглашаю, – прошептала она. – На каток.
От нее по–домашнему пахло ванилью и печеными яблоками.
Последние месяцы мы виделись редко, я почти не заходил к ним, и Тимохин, смирившись с этим, по вечерам сам заглядывал ко мне.
– Я южанин, – сказал я. Я старался скрыть волнение и не смотрел на нее. – Я плохо катаюсь.
Она была в шлепанцах и глядела на меня снизу, подняв <брови. Одна бровь была немного опалена.
– И потом у меня нет коньков.
– Возьмёте напрокат. Если вы не пойдете, Миша расстроится.
Я внимательно посмотрел на нее.
– Почему Миша? Миша идёт?
– Он не идёт, но он хочет, чтобы со мной пошли вы. Наверное, так ему спокойнее. Ведь на вас можно положиться? – спросила она с мягкой насмешливостью.
Я опять ощутил исходящий от нее домашний запах чистоты и ванили.
– Я сейчас оденусь, – сказал я.
Она дружелюбно кивнула и пошла к себе.
Переодеваясь, я думал об её опаленной брови, злился, что думаю об этом, но все равно видел, как она прикуривает от зажигалки в мужской руке.
То ли автобус шел тише, то ли слишком сильно пекло солнце – но мне казалось, что сейчас мы тащимся гораздо дольше, чем два дня назад, когда я ехал в Алмазово.
Шмаков поднялся и, шатаясь, стал читать монолог об умирающем лебеде. С отвращением и почему‑то со страхом ждал я коронных его слов: «И «плачет он, маленький лебедь, совсем умирающий». (Когда он с завыванием выкрикнул их, я успокоился. Я понял, что теперь не сорвусь, что выдержу, каким бы омерзительным ни был мой приемный отец.
Я переодевался, когда явился Миша Тимохин – с шерстяным зелёным шарфом и вязаной шапочкой.
– Ты с юга, – проговорил он. – У вас нет этого.
– Спасибо, я так, – буркнул я и достал из чемодана свитер.
– Как так? – не понял Миша. – Это специально для катка.
– Все равно… Не надо.
Впервые Тимохин раздражал меня – своей бескорыстной, вездесущей заботливостью. Быть может, я не мог простить ему опаленной брови? Я не ревновал к нему Таю, я ревновал за него, и это нелепое чувство злило меня.
– Почему ты сам не идёшь? – спросил я.
– Куда?
Его синие глаза глядели доверчиво и недоуменно. Стиснув зубы, я натягивал свитер.
– Куда не идёшь? —повторил Миша.
– На каток.
– Я устаю, Кирилл, – сказал Миша. – Я бы пошел, но я устаю.
Я посмотрел на его исхудалое болезненное лицо. Иконные лики напоминало оно. Я засмеялся.
– Зачем тебе все это? – Я кивнул на принесенные им вещи.
–* Ну, как же, Кирилл, шапочку обязательно надо иметь.
– Зачем? Ведь ты не катаешься. Зачем она тебе?
– Это же чистая шерсть, – удивленно проговорил Миша. – Ты обязательно надень. Разве можно без головного убора? Ты с юга, ты обязательно надень.
Я взял и шарф и шапочку. Все – стало вдруг легко и ясно. Существовал Миша Тимохин и его жена Тая, и мне не было дела до женщины с опаленной бровью и ненакрашенными невинными губами. Я знал, что никогда не сделаю ничего такого, о чем не смог бы рассказать Мише Тимохину.
Как и семь лет назад, монолог об умирающем лебеде завершил пьяное представление Шмакова. Он храпел на продавленном диване – в брюках и грязных матерчатых туфлях. К подошве в белых пятнах куриного помета прилипло перо. Он храпел с присвистом, приборматывал что‑то, так что даже не видя его лица, я ясно представлял себе, как шевелятся его сизые, в засохшей крови, губы.
И я смел осуждать мать за то, что она порвала с этим человеком! Я не мог себе простить, что вырвался вместе с ней из этой грязи – разве имеет значение, какой ценой было достигнуто наше освобождение!
Я заставил себя повернуть голову и посмотреть на Шмакова. Под куцыми безресничными веками белели узкие полоски глаз. В той комнате что‑то тихо зашуршало. Мышь… Осмелев, она царапалась и возилась и грызла что‑то. Я взял ложку и постучал ею по тарелке с хлебом. Все стихло, лишь противно храпел Шмаков.
Я надел шерстяную шапочку, которую принес Миша Тимохин, и мы с ним пошли к нему. Тая заворачивала в газету толстые шерстяные носки.
– Уже? – быстро сказала она. – Я сейчас.
Из спальни выкатился их сын и остановился возле матери– беленькая головка едва возвышалась над столом. На лице Таи проступило выражение доброты и ласки. Бережно поправила она волосы на его высоком лбу.
– Супа не ел, – сказала она и посмотрела на мужа.
Миша присел перед сыном на корточки.
– Суп будешь?
Борька исподлобья смотрел на отца, потом повернулся и нетвердо, но. быстро затопал обратно в спальню. Тая ласково проводила его взглядом. Затем с гордостью посмотрела на меня.
– Идём! —прошептала она.
Миша убирал со стола посуду.
Мышь опять заскребла. Я встал и вышел на крыльцо. Ночь была темной. Из окна падал на землю жёлтый свет. Приглядевшись, я различил смятый коробок, проволоку и клочки травы, напоминающие остатки волос Шмакова.
Мы шли по заснеженной оживленной вечерней улице, Тая со смехом рассказывала, как она впервые принесла сегодня на урок магнитофон, купленный школой по её настоянию, но перепутала пленку и вместо английских слов зазвучала джазовая музыка. Встречные мужчины внимательно смотрели на нее, а она делала нид, что, поглощенная рассказом, не замечает их. Её белые модные сапожки, отделанные пушистым мехом, скользили, но она не смотрела под ноги, по–женски беспечно предоставив мне право заботиться о её безопасности. Я поддерживал её за локоть.
Шмаков и впрямь имел надо м–ной странную власть. Едва я приехал в Алмазово, он волшебно снял с меня жёсткий внутренний запрет думать о Тае. Шмаков не только разрешал эти мысли, но и необъяснимым образом стимулировал их. Неловкости перед Мишей Тимохиным я не испытывал больше.
Было душно и тихо. Алмазово спало.








