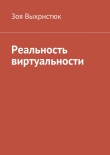Текст книги "Ироническая проза ч.2"
Автор книги: Роман Днепровский
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Чёрные Тимуровцы
Для начала – вопрос знатокам: какое событие может заставить современного российского интеллигента выйти на «гоп-стоп»? Минута на обсуждение! Время пошло! Думайте, думайте, господа... А ведь ответ, на самом деле, совсем простой: на «гоп-стоп» современный российский интеллигент пойдёт только в одном случае: когда о мiровой литературе и глобальной политике ещё очень хочется поговорить – а водка уже кончилась, и денег уже нет. И занять негде.
И вот, друзья мои однажды летним вечером одна тысяча девятьсот девяносто забытого года оказались именно в этой ужасной ситуации. Первые сутки у них прошли в разговорах о творчестве Стругацких, потом они (по их словам) на Бродского переключились. Потом сбегали ещё за одной, пожарили мяса – и сели доигрывать гражданскую войну между северными и южными штатами. И я подозреваю, что за северян играл Михалыч – а Артур, безусловно, был южанином...
...А поутру они проснулись. И, порывшись в карманах, обнаружили, что на ещё одну, стандартную 0,5 водки им хватит. И купив её, вновь вернулись в "мастерскую" Артура – пить водку, жарить колбасу и разбирать спорные моменты отечественной истории.
Надо бы сказать, кто они такие – Артур и Михалыч. Первый, т. е., Артур, считает себя художником. Кажется, он даже закончил Художественное училище (а может, и не закончил), а потом принялся заниматься разной творческой деятельностью: рисовал на Набережной портреты прохожих, походя приторговывая валютой, занимался мелкой фарцовкой, рисовал афиши в одном из городских кинотеатров, соблазнял совсем юных и грязных хипуш, играл на клавишах в какой-то рок-группе... Даже умудрился проработать несколько месяцев лаборантом в одном умирающем институте в Академгородке. А потом купил совершенно ветхую, крохотную квартиру в одном из деревянных домов в Центре – и, объявив этот курятник своей "мастерской", стал вести жизнь "вольного художника". То есть, рисовать какие-то совершенно халтурные пейзажики на продажу, и пить водку.
В последние годы он, правда, и пить перестал, и из России в Европу уехал – а в его "мастерской" теперь живут какие-то китайские кули – но всё это абсолютно несущественно, и к той давней истории отношения не имеет.
А вот Михалыч – это уже не богема какая-нибудь. Михалыч – он есть настоящий расейский интеллигент! Правда, этого слова он терпеть не может, и даже может крепко обидеться, если ему сказать, что он – интеллигент, но это – ещё одна, исключительно рассейская интеллигентская черта, которая выдаёт Михалыча с ног до головы... Такие они, интеллигенты рассейские.
Биография Михалыча в те годы напоминала мне коленвал от мотоцикла: то он – на гребне, а то – на самом дне. Когда-то он был студентом юридического факультета нашего Университета, и на четвёртом-пятом курсе ему уже предлагали подумать насчёт аспирантуры: мол, такие люди на факультете нужны, а уж с защитой ему помогут. Но тут совершенно неожиданно случилась Перестройка – и авантюрный интеллигент Михалыч решил стать не юристом, а самым, что ни есть, капиталистом. Он бросил Университет (на пятом курсе!!!) – и принялся брокерствовать на бирже. Очевидно, брокерство принесло ему какой-то небольшой первоначальный капитал, и Михалыч тут же открыл своё дело: на одной из тихих улочек иркутского Центра появился коммерческий ларёк, а в нём сидел, улыбаясь, Михалыч собственной персоной – и торговал водкой-сигаретами-зажигалками-презервативами-марсами-сникерсами-жвачками-колготками... Но больше всего – всё же водкой.
А неподалёку находилась общага, в которой жили его однокурсники. И как-то так само получилось, что очень скоро все они узнали, что "Михалыч тут воздвиг киоск сей рукотворный/к нему не зарастёт народная тропа!". Так – "...не зарастёт народная тропа" – и прозвали в общаге это заведение. И стали приходить к Михалычу за водкой – причём, иной раз у него брали и в долг, а после – и вовсе, стали тут же, возле киоска (а зимой – внутри) принимать "горючее", не отходя, собственно, "от кассы". И Михалыч принимал вместе со всеми.
Кончилось это так, как и должно было кончиться: свой киоск Михалыч обанкротил. Но тут нашёлся ещё один однокурсник (а к тому времени – уже выпускник и молодой юрист), который, кстати, открыл свою контору, в аккурат, в соседнем доме – буквально, через 5 – 6 метров от злополучного "комка" – который предложил Михалычу не только погасить его долги, но и объединить оба предприятия, и перейти к нему на работу. На том и порешили: отныне, в киоске появилась новая продавщица – а Михалыч стал работать у своего друга помощником, а заодно – и сторожить по ночам их офис.
Но... "Народная тропа" была уже крепко протоптана – а Михалыч был человеком общительным. И если раньше к нему в киоск "на огонёк" заходили друзья, то теперь к нему же "на огонёк" на ночное дежурство в офис стали приходить не только друзья, но и друзья друзей – а те, в свою очередь, приводили и своих друзей, и ещё неизвестно, кого. А рядом круглосуточно работал киоск, торговавший водкой.
И вот однажды утром Михалыч проснулся в своём офисе... на полу... и увидел... что дверь открыта... что исчез компьютер... и второй компьютер тоже исчез... и сейф вскрыт. Ничего хорошего. И вызвал он милицию. А милиция не стала себе долго голову ломать – тем более, Михалыч никак не мог вспомнить, кто же у него накануне был в гостях – и обвинила бедолагу в соучастии в краже.
Больше года мыкался он в следственном изоляторе, ожидая своей участи и изучая быт и нравы современной российской тюрьмы, пока его, наконец, не отпустили за недоказанностью вины. С того времени на некоторое время приобрёл он некоторые тюремные ухватки – и это ещё раз подтверждает мой тезис о том, что Михалыч – настоящий российский интеллигент. Ибо, ещё Сергей Довлатов писал, что грош цена российскому интеллигенту, если он не посидел в тюрьме!
...И вот, эти двое – Михалыч и Артур – опять опустошили очередную бутылку, и опять отправились за очередной – а деньги, на этот раз, у соседей занимали. И снова, не успев как следует, насытиться высокоинтеллектуальной беседой о преимуществах советских танков над немецкими в годы Второй Мiровой, эти двое обнаруживают, что бутылка уже пуста! И тогда Михалыч предложил идти на "гоп-стоп".
Уже глубокой ночью, последовавшей за этим днём, они наперебой рассказывали мне, когда мы сидели в нашем дворе, в беседке, как фатально не везло им с этим "гоп-стопом":
– Представляешь, мы взяли нож, – тут Артур продемонстрировал какой-то ложно-кавказский кинжал, который изначально был предназначен, кажется, для резки бумаги, – и пошли "пасти" одиноких путников. Но они, почему-то, все были не одинокими. А если и попадались одинокие, то едва мы подходили к ним, и заводили разговор – как они тут же предлагали нам выпить...
"Гоп-стопщики" битых несколько часов ходили по городу, приставали к людям – а те поили их пивом и водкой, и начинали активно с ними общаться. Но Михалычу и Артуру не нужны были чужие люди – им нужна была только водка, да своя компания... Отчаявшись, они решили подкараулить какого-нибудь одинокого пьянчугу возле круглосуточного магазина и отобрать у него бутылку – но появившийся, наконец, пьянчуга, которого они наметили в жертву, заметив их, сам направился к ним со словами: "-Мужики! Давайте выпьем – а то, одному пить уж тошно!" Могли ли они ему отказать?...
Наконец, совсем отчаявшись, эта сладкая парочка порешила, что не видать им сегодня воровской удачи, что нет им фарта – и вселенской справедливости тоже нет – и решили они двинуть в "мастерскую" Артура. Отпиваться чаем и отсыпаться. А утром – разбегаться.
И вот здесь-то Небо сжалилось над ними – и послало к ним своего Ангела. Такого Ангела, который помогает грустным алкоголикам. Ангел явился к ним в виде водителя малолитражного грузовичка, заднее колесо которого провалилось в открытый канализационный люк – в аккурат, в ста метрах от дома, в котором я жил тогда...
– Эй, парни! – окликнул их водила, – помогите, а? Колесо провалилось, и я здесь уже четвёртый час стою, выбраться не могу... И ни одна ..... не соглашается толкнуть машину! Помогите, будьте людьми...
Артур и Михалыч подошли к машине, примерились... Водитель завёл мотор. Они толкнули. Что им – трудно, что ли? Раз уж с уличным разбоем не срослось – так хоть, какое-то впечатление за целый вечер... А через минуту машина уже всеми четырьмя колёсами стояла на асфальте!
– Мужики, спасибо вам! – орал водитель на весь переулок, – выручили!!! А это – вам в подарок, от меня! – и водила уже совал им в окошко кабины большую , ДВУХЛИТРОВУЮ – если кто помнит эти графины – бутылку "Золотого Кольца". – Я водку развожу по точкам, у меня полный кузов этого добра! Держите!
И тут у моих приятелей началась истерика: они смотрели на бутылку, друг на друга, опять на бутылку – и хохотали, как сумасшедшие. И видя это дело, водитель поспешил уехать. А они всё хохотали и хохотали. А потом добрались до телефона-автомата, и вызвонили – во втором часу ночи, между прочим! – меня. С тем, чтобы я вышел во двор с закуской и стаканами, и послушал их историю.
– Ну, и как вас теперь называть, после этого? – спросил я, едва сдерживая смех, – алкаши-робингуды? гопники-спасатели?...
– Нет, – ответил Михалыч, наполняя стаканы, – теперь мы с Артуром – Чёрные Тимуровцы!...
За гонорарами...
В гонорарную кассу мы с Ингой ходили вдвоём. Я тогда работал в газете, а Инга внештатила у нас, готовила материалы по вопросам охраны природы. Она тогда работала пресс-секретарём в каком-то природоохранном департаменте, и была, что называется, «в теме». А вдвоём мы ходили в кассу потому, что если бы Инга пошла туда без меня, то ей бы, скорее всего, ничего бы не заплатили – сказали бы, что «...сегодня денег нет, зайдите через пару недель». А когда мы заходили вдвоём, кассирше оставалось только тяжело вздохнуть, и выплатить деньги и мне, и Инге.
Вообще, получение денег в той паскудной конторе, в которой я работал тогда, было тем ещё приключением! Хозяин этой конторы, бывший комсомольский секретарь и бывший журналист Ефим Гольдберг был человеком, мягко говоря, прижимистым. В цокольном этаже здания, в котором размещалась наша редакция, Ефим открыл бар и мясной магазин. И каждый месяц в тот самый день, когда нам должны были выплачивать жалование, кассирша получала наши деньги в банке и везла их Ефиму – а он "прокручивал" их через магазин и бар: закупал на мясокомбинате мясо, на оптовом складе – водку и вино, и всё это реализовывал через свои коммерческие структуры. И только тогда, когда наши зарплаты и гонорары "оборачивались" и приносили нашему шефу и его ближнему окружению навар, мы могли, наконец, получить свои, потом и кровью заработаные денежки.
Но это – ещё не всё. У Ефима была такая специальная шариковая ручка, которой он сам, лично, заполнял все расходные ордера на выдачу денег. Ручка была толстая, хромированая, с тремя кнопочками по бокам. И было в этой ручке три стержня – синий, зелёный и чёрный. И Ефим заполнял ордера разной пастой. Сначала он заполнял ордера на штатных работников своего медиа-холдинга, и здесь в дело шла синяя паста: тем сотрудникам, на которых деньги выписывались синим цветом, жалование нужно было выплатить безо всяких отговорок. Потом в ход шла зелёная паста: этим цветом Ефим выписывал ордера на тех, кому деньги нужно выплатить во вторую очередь – разным постоянным внештатникам, ещё кому-то не очень важному... Впрочем, тем, на кого были выписаны "зелёные" ордера, не грех было и сказать, что сейчас, мол, денег нет, зайдите через пару недель – а через пару недель сказать то же самое, и так далее. И, наконец, тем, на кого гонорары были выписаны чёрной пастой, кассирша не просто должна – обязана была говорить, что "денег нет и не будет в ближайшие недели две" – и эти "недели две" должны были продолжаться бесконечно.
Зачем это нужно было Ефиму? Только затем, чтобы поменьше платить внештатникам и совсем не платить случайным авторам. Гонорары в газете – копеечные, и, если у человека есть какой-то другой, основной источник доходов, то он, два-три-четыре раза приехав за своим гонораром и услышав про "через две недели, не раньше", в конце концов, плюнет на эти жалкие копейки и предпочтёт забыть о них. А у Ефима Исааковича Гольдберга из этих копеечек миллионы складываются – совсем, как у того купца из произведения драматурга Островского. И не считайте меня негодяем, но осуждать Ефима Гольдберга за этот маленький гешефт я не стану. Ибо, неизвестно ещё, как бы я сам поступал на его месте...
Так вот. С Ингой мы ходили вдвоём в гонорарную кассу потому, что я был штатным работником, и на меня Ефим выписывал ордер синей пастой – а Инга, как постоянная внештатница, была в "зелёном списке", и ей, с равной вероятностью, деньги могли и дать – а могли и не дать, ссылаясь на то, что "наличка кончится, и будет только через две недели". Весть о предстоящей выдаче денег распространялась в конторе накануне, из уст в уста и под большим секретом – чтобы до внештатников ничего не дошло – но вечером я обязательно звонил Инге, и говорил: "Завтра в одиннадцать! И не опаздывай: я буду ждать тебя на вахте". А когда мы заходили вдвоём, кассирше ничего не оставалось, кроме, как вздохнуть и выдать гонорар Инге: ведь она только что у Инги на глазах выдала мне деньги, верно же?... Значит, наличка есть, и не может быть никаких "через две недели". И, получив свои трудовые гроши, мы отправлялись в какую-нибудь кофейню.
...В тот раз мы рванули в аэропорт. В Иркутске аэропорт располагается в городской черте, а от нашей конторы он был вообще в десяти минутах езды – и мы поехали. Там, в аэропорту, открыли после многолетнего ремонта кафе "Лайнер", куда в самом начале девяностых пить кофе ездили кофеманы со всего города – вот мы и решили вспомнить времена, когда "Лайнер" был единственным на весь город заведением, в котором готовили настоящий кофе, и поехали туда. А что ещё было делать? – деньги мы получили, свои тексты сдали – можно и расслабиться. И вообще, за что я люблю свою работу – так это за то, что журналистика предоставляет редкую возможность самостоятельно планировать свой график и не сидеть целыми днями на одном месте с девяти утра до восемнадцати ноль ноль. А ещё – за то, что только у журналистов (да наверное, ещё и у художников) злоупотребление алкоголем в течении рабочего дня не считается нарушением трудовой дисциплины.
И вот, сидим мы в "Лайнере", пьём кофе и поедаем какие-то бутерброды и булочки, цедим ликёрчик по рюмочкам, общаемся. Решено, что в восемнадцать ноль-ноль мы поедем, конечно же, в бар Дома Актёра – а как же иначе-то? Мы бы туда с самого начала поехали, но ДомАктёровский бар только вечером открывается – вот мы и коротаем время в "Лайнере". И Инга, между прочим, жалуется, что эта сволочь Ефим Гольдберг, мой шеф, платит какие-то уж совсем смешные гонорары – а у неё, у Инги, между прочим, зимних сапог нет: старые сапоги уже хоронить пора – а новые купить не на что! А этот жмот Гольдберг платит чем дальше, тем меньше, и никаких сапог не эти деньги не купишь... И я отлично понимаю Ингины жалобы, но ничем помочь не могу: рад бы – да самому Ефимовых выплат едва на жизнь хватает... И мы пьём кофе, и цедим ликёрчик по рюмочкам, и едим какие-то булочки, бутерброды...
А потом мы решаем, что – пора уже. В смысле – пора двигать в Дом Актёра. И я подзываю официантку, чтобы расплатиться по счёту. Официантка приносит счёт, я достаю бумажник, и... И мне становится плохо: денег в бумажнике нет! Вернее, не то, чтобы совсем уж нет – расплатиться по счёту у меня, конечно же, денег хватит – но и только... Зарплаты, моей зарплаты в бумажнике НЕТ! Нет – и точка.
Тут уже Инга начинает нервничать:
– Ты же в ордере расписывался? Расписывался? – я киваю головой. – Всё ясно! Они там, в кассе, тебя заморочили – помнишь, тебя ещё бухгалтерша о чём-то всё время спрашивала – а денег тебе не выдали! Узнаю, узнаю гнусные методы господина Гольдберга! – Инга сардонически смеётся, – ты им в ордере расписался, а они тебя с деньгами "кинули"! Специально отвлекли – а денег не дали! Жульё! Но ничего, – маленькая, но грозная Инга стремительно тащит меня к выходу, – мы им сейчас устроим! Поехали!
Через четверть часа мы ворвались в гонорарную кассу. Вернее, ворвалась туда Инга – я послушно плёлся за ней следом. Моя подруга напоминала рассерженую сиамскую кошку: казалось, ещё чуть-чуть – и она выпустит когти, и бросится выцарапывать кассирше глаза.
– Вы хотите неприятностей? – кричала Инга на оторопевших тёток, – да мы вас по судам затаскаем! Жульё несчастное! Да я на вас Экономический отдел РУБОПа натравлю, у меня там однокурсник работает!...
– В-в ч-чём д-дело? – лепетала несчастная кассирша.
– Ха! Не прикидывайтесь! – бушевала Инга, – Вы подсунули парню ордер на зарплату, который он подписал, а потом эта – Ингин палец гневно тыкал в сторону бухгалтерши, – нарочно отвлекла его, а вы – палец метнулся в сторону кассирши, – сделали вид, что выдали ему деньги! Что, скажете, не было этого?
– Р-роман, т-ты что – д-деньги не п-получил? – залепетала кассирша, – н-не может быть... Ведь я тебе отсчитывала твою зарплату – миллион шестьсот восемьдесят...
– Я не знаю, как это получилось, – подаю голос я, – но получилось так... Получилось так, что я их, видимо, не забрал. Сейчас в кафе в бумажник полез – а там тысяч пять с прошлой зарплаты, и больше ничего... Ничего понять не могу...
– Ну-у... – протянула кассирша, – наверное, я действительно, отсчитала тебе деньги, а потом – чисто автоматически! – сунула их обратно в кассу... И ты ничего не сказал, ушёл сразу... Чисто автоматически... Погоди, я – сейчас... – и кассирша полезла в сейф.
– Вот, держи! – через несколько секунд она радостно пересчитывала на своём столе радужные десятитысячные бумажки, – Вот! Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч рублей! Держи! – она на всякий случай стала перебирать расходные ордера, – Всё, твой ордер на месте, подпись на месте! И в следующий раз будь внимательнее!
– Вам тоже не мешало бы в следующий раз быть внимательнее, – цедит Инга, – чуть парня без зарплаты не оставили! Ну, идём, что ли?... – это уже было адресовано мне.
Всё ещё держа в руках "пресс" денег, выхожу следом за Ингой в коридор. Пытаюсь на ходу запихнуть пачку денег в бумажник – и из этого ничего не выходит: слишком толстая пачка (или это бумажник похудел?). Начинаю запихивать деньги в карман пиджака – и...
– Что? Что опять не так? – Инга смотрит на меня с тревогой.
– Нич-чего, – говорю я совершенно каким-то чужим голосом, – нич-чего. Нужно выпить. Нужно срочно выпить. И ещё такой вопрос: твоии новые сапоги сколько стоят? Мы успеем сегодня их взять?...
Смотрим друг на друга – и понимаем то, что только что поняла моя правая рука, которая упёрлась в кармане пиджака ещё в одну пачку денег. Смотрим друг на друга – и беззвучно ржём. И Инга говорит:
– Сапоги – завтра! Сегодня надо выпить! Надо срочно выпить! Поехали!
...С таксистами у нас было своё развлечение: перед таксистами мы семейную пару разыгрывали. Причём, не абы какую семейную пару – а такую, в которой Инга брала на себя роль этакой стервы, которая загнала мужа под каблук, и цыкает на него сверху. Впрочем, Инге и не сильно-то нужно было вживаться в эту роль: задатки стервы у неё уже в Университете проявились – а дальнейшая работа на телевидении окончательно способствовала превращению Инги в самую настоящую стерву. Потом, правда, она ушла с телевидения – попала под очередное сокращение – и едва не устроилась в Пресс-службу Управления транспортной милиции. По каким-то причинам её туда не взяли, на что Инга отреагировала следующим пассажем: "И очень хорошо, что не взяли! Я и так стерва, а взяли бы – была бы я Стерва-В-Форме! Ужас!..."
Ладно, не отвлекаемся. Я ловлю такси, договариваюсь с таксистом, мы садимся в салон. Едва уселись – Инга спрашивает:
– За сколько договорился?
– За двадцатку, – отвечаю.
– Хватит и пятнадцати! – чеканит Инга с такими интонациями, что у водилы не возникает никакого желания возражать ей: он только кидает на меня сочувственный взгляд через зеркальце заднего вида. А Инга всю дорогу импровизирует: упрекает меня во всех мыслимых и немыслимых грехах – в том, что много пью и мало зарабатываю, в том, что гуляю от неё "налево" и не хожу в школу на родительские собрания, в том, что не могу вбить в стену гвоздь и починить водопроводный кран кран на кухне... в том, что она отдала мне свои лучшие годы – а я, засранец этакий... И я слушаю всё это, и мне становится чуточку страшно: в какой-то момент мне начинает казаться, что всё это – чистейшая правда. М-да... А таксист так и молчит всю дорогу.
И вот мы подъезжаем к Дому Актёра, машина тормозит у парадного крыльца.
– Выходи! – стальным тоном произносит Инга (такие модуляции голоса у женщин я слышал только один раз в жизни: так отдавали команды подследственным конвоирши в СИЗО-1) – Давай, быстрее! Я сама с ним рассчитаюсь! – и, повернувшись к водиле, брезгливо извлекает деньги из бумажника:
– Хватит и червонца! Здесь ехать-то – всего ничего...
Таксист снова кидает на меня полный сочувствия взгляд, сгребает деньги, уезжает. Мы стоим на крыльце Дома Актёра, провожаем таксомотор взглядом. Когда он скрывается за поворотом, снова смотрим друг на друга – и ржём. А потом я говорю:
– Нет, Киселёва, и не жди даже! Я на тебе никогда не женюсь! Ты – Ад во плоти! – и мы опять веселимся. А потом идём в бар.
...В тот вечер народа в баре было совсем немного: за одним из столиков сидели, как всегда, "три поросёнка" – три ТЮЗовских актрисы. Сколько я помню себя, они всегда играли Трёх Поросят в одноимённой приключенческой драме для детей младшего школьного возраста. Такая приверженость своим сценическим персонажам объяснялась, скорее всего, тем, что каждый вечер "Три Поросёнка" приходили в здешний бар и пили водку. Я думаю, именно эта привязаность к водке и привела к тому, что со временем голоса у тёток совсем охрипли, стали точь в точь такими, какими и должны быть голоса их персонажей... За дальним столиком сидели какие-то околобогемные снобы – а у самого входа, один-одинёшенек, сидел поэт Тараканов. Перед ним стояла маленькая чашечка кофе и тонкостенный стакан, до краёв наполненый водкой.
Поэт Тараканов курил и смотрел строго перед собой. Он был волшебно пьян. Может быть, вы знаете, что есть такая стадия сильного опьянения, когда человек с первого взгляда кажется совершенно трезвым – и, тем не менее, он при этом совершенно пьян? Так вот, поэт Андрей Тараканов был, как раз, в таком состоянии.
На нас он не обратил ни малейшего внимания. Он сидел совершенно неподвижно, затем схватил свой стакан, залпом осушил его. Сделал маленький глоток кофе, закурил. Затем встал, подошёл к стойке. Заказал себе ещё один стакан. Получил заказ, развернулся, чтобы идти к своему столику – и здесь-то мы с Ингой и попали в его поле зрения.
Тараканов изменил траекторию своего движения: он взял твёрдый курс в направлении нашего столика. Подошёл, сел. Инга с опаской покосилась на него, затем глянула на меня: в её взгляде был и страх, и любопытство, но, прежде всего, вопрос. Что это, мол, за очередной непризнанный гений?... А поэт Тараканов и вправду был колоритен: рост – под два метра, стройный, как саксаул, кисти рук висят ниже колен, грива немытых волос покоится на плечах. На лице – сорок поколений предков, ордынских кочевников, князей Таракановых...
– Здравствуй, Андрей! – говорю, – я смотрю, гуляешь? Что за повод? – я усилено изображаю хорошую мину при плохой игре: с одной стороны, Инга терпеть не может пьяных поэтов – а с другой стороны, я знаю Андрея Тараканова, как тихого и слегка застенчивого парня, который пишет, к тому же, хорошие стихи. Мне не хочется его обижать. Но в таком состоянии я вижу Андрюху впервые, и совершенно не представляю, чего от него можно ожидать.
– Яасэблюю! Сехх!... – провозглашает Тараканов, предоставляя нам возможность отгадывать, что же он хотел сказать: не то, "Я вас люблю! Всех!", не то "Я в вас блюю! Всех!" Он залпом выпивает свой стакан, лезет обниматься, пытается поцеловать Инге руку... Ага, терерь понятно: он хотел сказать, что любит нас всех. Потом Тараканов уходит: он опять заказал себе полный стакан водки, сел за свой столик и уставился в одну точку. Потом он выпил свой стакан, попробовал подняться, чтобы подойти к стойке и повторить заказ, но упал на пол. Через пять минут его уже очень вежливо и аккуратно выводили охранники, которых вызвала хозяйка бара Эльвира Михайловна. Инга печально качала головой:
– Поэт, говоришь?... Ну, как же он так, а?... Ромка, ну ведь нельзя так ужираться, нельзя! А прочти ещё что-нибудь, что он написал.
Я читал ей стихи Тараканова. Потом – чьи-то ещё. Потом – свои. Потом за наш столик подсели какие-то наши знакомые. Постепенно прибывал народ. Вечер в баре Дома Актёра входил в своё привычное русло.
...Без десяти минут одиннадцать хозяйка бара Эльвира Михайловна на несколько секунд выключила в зале свет: это был сигнал к закрытию заведения. Народ засуетился: за столиками начали пить "на посошок", кто-то торопился заказать последние на сегодня сто грамм, кто-то уже обсуждал дальнейшую программу вечера, переходящего в ночь. Часть посетителей направилась в сторону выхода.
Мы с Ингой тоже двинулись к дверям: высиживать последние десять минут не имело никакого смысла – лучше уж, минуя толчею, спокойно одеться в гардеробе, поймать такси (на этот раз, мы не собирались разыгрывать "семейную сцену" перед водителем) и уехать восвояси, пока есть свободные машины.
Гардероб в Доме Актёра – место очень демократичное. Настолько демократичное, что ни номерки, ни гардеробщица здесь не предусмотрены: посетители сами заходят за загородку, сами вешают свою верхнюю одежду на крючки – а уходя, сами берут свои пальто и куртки с вешалок, одеваются и уходят. За всю историю Дома Актёра никому ещё не приходило в голову воровать здесь одежду, да и охранник сидит тут же, напротив – вся гардеробная перед его взором. Но нам с Ингой, видимо, на роду было написано стать первыми жертвами здешнего гардеробного демократизма...
Мы двинулись к своим крючкам, на которых оставили одежду. Я быстро отыскал своё осеннее пальто, и даже успел надеть его – а Инга стояла и растеряно смотрела туда, где висел её белый плащ. Вернее, смотрела туда, где он НЕ ВИСЕЛ. Плаща на крючке не было – и не было его нигде! Чёрные, серые, бордовые, коричневые, тёмно-синие и тёмно-зелёные пальто, куртки и плащи висели тут и там на крючках – и среди них не маячило ни одного светлого пятна! Инга стояла в полном недоумении – а потом повернулась ко мне:
– Ромка! Плащ украли! УКРАЛИ!...
– Не может быть! – говорю я, – на него, наверное, кто-то сверху одежду повесил! Погоди, сейчас найдём! – и начинаю перебирать висящие рядом пальто и плащи. Охранник за своим столиком слышит нас, и начинает проявлять ленивый интерес к происходящему. Вдвоём мы ищем Ингин белый плащ, и, чем дальше – тем безуспешнее. А из бара, тем временем, начинает выходить народ, и все направляются за своей одеждой в гардеробную.
– Погоди! – говорю я, – сейчас всё найдётся. Пусть люди свою одежду разберут – он и отыщется! Ты не беспокойся: мы его сразу увидим, как только одежды на вешалках меньше станет!
Посетители одеваются; мы стоим и ждём. Белого плаща Инги пока не видно... Стоп! Есть! Мелькнуло что-то белое – в самом дальнем углу!
– Сиди! Сейчас принесу! – ныряю в толпу, достигаю дальнего угла, хватаю плащ, и возвращаюсь к обрадованой Инге.
– Ну, вот он! А ты боя... – я не успеваю закончить фразу потому, что Инга смотрит на то, что у меня в руках, и начинает в голос, по-бабьи рыдать. Я смотрю на плащ – и вижу, что никакой это не плащ – а белая болониевая мужская куртка. Один её рукав заляпан грязью, другой чуть порван у локтя. Оборачиваюсь в сторону гардеробной, и вижу, что почти всю одежду народ разобрал, что висит там не больше дюжины пальто и курток – и что нету среди них Ингиного белого плаща.
Вмешивается охранник:
– Девушка! Ваш плащ, наверное, тот парень одел... Ну, тот парень, который напился, которого мы из бара выводили. Точно помню: он в чём-то белом выходил!...
Что-то щёлкает в моей голове. Я лезу во внутренний карман куртки, которую всё ещё держу в руках. В следующий момент мы все втроём тупо рассматриваем зелёненькую книжицу, на обложке которой золотом оттиснуто: "Союз писателей России. Удостоверение". Открываем... Ага, Тараканов Андрей Георгиевич... Что и требовалось доказать.
Для Инги это – уже слишком. Она падает в кресло, в котором сидел охранник, и начинает рыдать так горестно и жалостливо, что у меня сердце кровью обливается. И не у меня одного, кстати: именно в этот момент закончилось ещё какое-то мероприятие – кажется, какая-то презентация – в главном зале Дома Актёра. Двери открываются, и из зала в фойе выходит мой шеф, Ефим Исаакович Гольдберг. Шеф излучает благодушие – но, увидев, что Инга горько плачет, решает поинтересоваться, что же стряслось. Он направляется прямо к нам, но Инга его не видит – Инга закрыла лицо руками, и всхлипывает:
– Никогда, никогда больше не пойдём сюда! Здесь собираются одни извращенцы – жулики, алкаши, проходимцы и пида**сы! – на последних словах она повышает голос и поднимает лицо – а Ефим Гольдберг, в аккурат, уже подошёл к нам и склоняется к Инге, чтобы поинтересоваться, отчего она так горько плачет. "Проходимцы и пида**сы", таким образом, летят в лицо интеллигентнейшему человеку Ефиму Гольдбергу, и он заметно смущается.
– Здесь вот какое дело, Ефим Исаакович, – говорю я, – Тараканов накушамшись, и ушёл в Ингином плаще. А свою куртку оставил... Вот теперь не знаем даже, что делать...
– Тараканов? Который – поэт? – переспрашивает шеф, и тут же начинает кудахтать: – Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! В Ингином плаще?! Уху-ху-ху-ху-ху-ху! И как же он в него поместился то? Охо-хо-хо-хо-хо-хонюшки!...
Обстановка разряжается: вслед за Гольдбергом, начинаем смеяться и мы с Ингой. Инга мажет по лицу краску, комкает платочек. Гольдберг интересуется, далеко ли нам ехать, предлагает подвезти. Мы вежливо отказываемся. Он настаивает. Инга соглашается – а что мы, собственно, теряемся-то? такси уже не ходят... Ромка, не в службу, а в дружбу: попроси у Эльвиры Михайловны ещё бутылку коньяка, пока она бар не закрыла...
...Едем по ночному городу: шеф – за рулём, мы с Ингой на заднем сиденьи пьём из горлышка бренди "Сълнчев Бряг", закусываем шоколадом. На Инге – куртка поэта Тараканова: из воротника торчит только кончик носа, рукава пришлось подогнуть едва не до половины – и всё равно, они скрывают Ингины руки. Всю дорогу хохочем: представляем Андрея Тараканова в Ингином плаще – это должно смотреться просто убийственно! Я уже пообещал Инге, что завтра с утра разыщу этого чертова поэта и произведу обмен верхней одежды. Уже когда подъехали к дому, Гольдберг говорит мне: