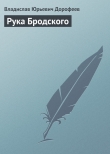Текст книги "Мортальность в литературе и культуре"
Автор книги: "Правова група "Домініон" Колектив
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
Дискурс насилия и тема смерти в русской постмодернистской прозе630630
Разработка данной темы выполнена при финансовой поддержке Венгерской академии наук («Исследовательский грант им. Яноша Бойаи»).
[Закрыть]
Жужанна КалафатичБудапешт, Венгрия
Одно из направлений в русской литературе конца XX – начала XXI в., получившее название жестокой литературы или «грязного» реализма, обращается к изображению патологических личностей, звериной жестокости, актов садизма и мaзoхизма, сцен некрофилии. Читатель становится свидетелем изощренных картин унижения, насилия, уничтожения, выделений человеческой плоти. Изображение телесности возвращается в литературу в виде деформации человеческого тела, глумления над ним, разложения.
Вызывающие отвращение физиологические процессы чаще всего передаются грубым, пронизанным непристойностями языком, т. е. снятие запретов захватывает и уровень стилистики. Шокирующими представляются картины инструментализации человеческого тела и уродливого искажения души. Впечатление шока закономерно вызывает вопрос: какие философские и антропологические корни имеет эта эстетическая, интеллектуальная и этическая провокация?
На мой взгляд, в подобных произведениях речь идет не об удовлетворении коммерческих потребностей читателя, не о посягании на запретные сферы и обретении чувства радости и новизны от переступания всех границ, а о таком «недовольстве культурой», негативном мироощущении и мировосприятии, которые могут проявляться в нарушении означающего безопасность символического порядка, в разрушении дихотомий внешнего / внутреннего, живого / мертвого, человеческого / звериного, естественного / противоестественного, чистого / грязного, сознательного / бессознательного, в снятии разделяющих их границ.
Учитывая широту данной проблематики, я ограничусь обзорным рассмотрением темы смерти в произведениях представителей литературы русского постмодерна, чье творчество составляет стержень так называемого постгуманизма631631
Скоропанова И. С. Постгуманизм Виктора Ерофеева // Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: учеб. пособие для студентов филол. фак. вузов. 5‐е изд. М., 2004. C. 237.
[Закрыть], – Вик. Ерофеева и В. Сорокина. Поскольку в творчестве этих писателей ощутимо влияние философии маркиза де Сада, я коснусь также темы смерти, насилия и убийства в интерпретации де Сада.
Привыкнуть к садизму, по мнению М. Бланшо, невозможно632632
См.: «Совершенно прав был М. Бланшо, утверждавший в письме к коллоквиуму ученых в Эксе, что нельзя “привыкать к Саду”» (Ерофеев Вик. Метаморфоза одной литературной репутации. Маркиз де Сад, садизм и XX век // Вопр. лит. 1973. № 6. C. 168).
[Закрыть]. В то же время культура не может не считаться с существованием этого явления. Необходимо осмыслить затронутые де Садом проблемы, найти словесное воплощение стихийной силы эротики и инстинкта разрушения, определить те условия и обстоятельства, при которых проявляется и разворачивается феномен садизма.
В одном из произведений Вик. Ерофеев предпринимает попытку осмыслить жизнь, творчество и философию маркиза де Сада633633
Эссе «Метаморфоза одной литературной репутации. Маркиз де Сад, садизм и XX век», впервые опубликованное в журнале «Вопросы литературы» (с. 135–168), вошло в переработанном виде в книгу Ерофеева: Ерофеев Вик. Маркиз де Сад, садизм и XX век // Ерофеев Вик. В лабиринте проклятых вопросов: эссе. М., 1996. [Т. 2]. C. 280–310.
[Закрыть]. Это произведение важно не только из‐за провокативности темы – в нем сгущены мысли, получившие развитие в последующих эссе писателя. Осмысление жизненного пути Сада послужило отправной точкой для толкования исторического опыта советской эпохи.
Герой ерофеевского эссе – исследователь темной стороны бытия, философ, занимающийся поисками абсолютного зла, писатель, чьи произведения не публиковались в СССР. В стране, провозглашавшей гуманистические ценности основой своей идеологии, маркиз де Сад был запрещенным автором. Представления о нем ограничивались общими сведениями об одной из психопатологий, а слова «садизм», «садист» часто употреблялись в расширительном контексте.
Анализируя культурный феномен Сада, Ерофеев обращается прежде всего к его философскому и художественному наследию. Он близок к тем исследователям, которые в работах скандально известного автора видят не только сцены порнографии, насилия и ужаса, а рассматривают влияние его творчества на культуру XX в. Воспроизводя интерпретацию садизма в искусстве сюрреализма, Вик. Ерофеев учитывает мнения М. Бланшо и Р. Барта.
Реконструируя рационалистический образ мышления, Ерофеев показывает, как от философии наслаждения герои Сада приходят к философии насилия. Их жизнь, по мнению Бланшо, разворачивается от пробуждения чувственности и похоти к плотской радости и сексуальному удовлетворению ценой причинения боли и унижения другому человеку, приобретения беспощадной и тиранической власти над его телом634634
См.: Бланшо M. Сад // Маркиз де Сад и XX век. М., 1992. C. 47–88.
[Закрыть]. Герой Сада владеет лишь одним языком – языком насилия, на котором он общается с миром635635
«Язык насилия – единственный язык, на которым способен разговаривать садический герой» (Ерофеев Вик. Маркиз де Сад, садизм и XX век. C. 294).
[Закрыть]. Преодолеть изолированное положение тирана, бесконечное одиночество он может лишь надругательством над прекрасным и превращением человеческого тела в предмет, жестоким насилием над ним и причинением ему страшных мучений. Он ощущает потребность в совершении насилия, как нормальный человек ощущает потребность в общении с людьми. По мнению Сада, природа наконец должна быть освобождена от лжи, в которую ее облекают культура, религия и лицемерная мораль. Безудержное проявление инстинктов, плотских желаний и даже убийство не противоречат естественным законам, поскольку уничтожение и преобразование форм (т. е. смерть) являются одним из основных законов природы.
Обращаясь к теме зла, Ерофеев разоблачает механизмы самооправдания культуры и разума. Как это ни странно, но в основе его прозы и мышления лежат моральные соображения636636
Szőke K. Álommúzeum. Budapest, 2003. S. 152.
[Закрыть]. Подобно де Саду, выступающему против христианства и нравственности, Ерофеев полемизирует с панморализмом русской литературы XIX в., философией надежды, т. е. утопическим мышлением, которое толкуется и навязывается в советскую эпоху как абстрактный гуманизм, героико-романтический образ человека литературы социалистического реализма. Отказавшийся от иллюзий скептик Ерофеев считает, что зло, стремление к разрушению лежат в глубине человеческой природы. С этой силой необходимо считаться, а не прикрывать ее прекраснодушными лозунгами: «Человек создан для счастья, как птица для полета» и «Человек – это звучит гордо»637637
Ерофеев Вик. Русские цветы зла // Ерофеев Вик. В лабиринте проклятых вопросов. C. 234.
[Закрыть]. Написанные после «Метрополя» рассказы «Попугайчик», «Жизнь с идиотом», «Девушка и смерть» (и другие) кажутся совершенно разными историями, но в действительности позволяют почувствовать, каким образом тоталитарная власть подчиняла человеческий разум. В условиях тотального контроля за частной жизнью людей активизируются деструктивные силы общества, появляются личности, склонные к садизму, мазохизму и некрофилии. В ерофеевской прозе 1980‐х гг. показано их поведение в разных ситуациях.
Одной из особенностей ранних рассказов писателя является постмодернистская стилизация, пародирование различных стилей, их обыгрывание и сталкивание638638
Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: в 3 кн. М., 2001. Кн. 3. C. 48.
[Закрыть]. Механизмы пародирования действуют и на уровне сюжета, поскольку истории чаще всего вырастают из деконструирующего переосмысления знакомых по произведениям русской литературы ситуаций и проблем: интеллигенция и власть, интеллигенция и народ, народ и власть, принцип свободы, юродство639639
См.: Скоропанова И. С. Постгуманизм Виктора Ерофеева. C. 237–259.
[Закрыть].
Однако эти рассказы создавались не с целью рассмешить читателя, поскольку зло, «заразный идиотизм» коренятся в самой структуре бытия. Герои лишь преумножают его. Мы погружаемся в мир Сада, где ерофеевские персонажи способны общаться с миром, друг с другом только на языке насилия. И эта коммуникация ведет к уничтожению всего живого. В этом мире наслаждаются трупами, и сама жизнь есть не что иное, как процесс разложения в физиологическом и в метафорическом смысле.
Все проявления жестокости, власти одного человека над другим пронизаны идеологическими размышлениями. Герои Сада в перерывах между оргиями тоже философствовали, рассуждали о счастье, справедливости, красоте, религии и природе. Слово у Сада, по мнению Барта, «полностью сливается с энергией порока»640640
Барт Р. Сад-I // Маркиз де Сад и XX век. C. 202.
[Закрыть]. Герои Ерофеева менее интеллектуальны и образованы, но и они находят самооправдaние своим поступкам, причем в официальной советской идеологии. Пример тому – рассказ «Девушка и смерть». Его заглавие отсылает к произведению Горького, а в тексте воспроизводится известная сталинская фраза. В 1931 г. Горький читал свою поэму-сказку Сталину и Ворошилову. После чтения Сталин написал на последней странице: «Эта штука сильнее, чем “Фауст” Гете (любовь побеждает смерть)»641641
Медведев Р. А. Личная библиотека «корифея всех наук» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russcience.euro.ru/biblio/med01vr.htm (опубликовано: Вестн. РАН. 2001. № 3. С. 264–267).
[Закрыть]. Похвала Сталина наполняется идеологическим содержанием (один «гений» говорит это другому), что представлено на картине А. Н. Яр-Кравченко 1941 г.
Произведение Ерофеева деконструирует героико-романтический образ человека, реализуя сталинскую иронию. Его герой – садонекрофил, испытывающий интерес к смерти, гибели, разложению. Он любит посещать морги и кладбища. Ритуал похорон для него – источник эстетического наслаждения. Влечение к трупам дополняется садизмом, агрессией: герой жестоко убивает женщину за то, что она отказалась давать информацию о своей подруге. Похороны женщины он воспринимает как встречу с объектом своих сексуальных желаний. В его признании нет раскаяния; перспектива разоблачения придает ему ощущение собственной значимости. В повседневной жизни герой Ерофеева заурядный человек с расстроенной психикой, но в роли режиссера он самоутверждается. Отсылки к Г. Гегелю, А. Шопенгауэру и Ф. Ницше служат для него оправданием патологической склонности к тому, чтобы неприемлемое сделать приемлемым.
В мире Сорокина, как и в мире Ерофеева, отсутствует ощущение трансценденции. Большинство сорокинских произведений связаны с темой смерти, уничтожения, причем – не только героев. По ходу действия совершается убийство стиля, сюжета, языка и даже самого автора, который, по мнению П. Вайля, «растворяется в приеме»642642
Вайль П. Консерватор Сорокин в конце века // Лит. газ. 1995. № 5. C. 4.
[Закрыть]. Сорокина привлекает также эстетика сталинского тоталитаризма, элементы и жанры которого он часто сталкивает с другими дискурсами. Смешение художественных языков и кодов приводит к разрушению советской мифологии, стереотипов массового сознания. Так, написанный в 1992 г. роман «Сердца четырех» отсылает к одноименному фильму советской эпохи о любви. Но в произведении Сорокина представлены жестокие убийства, изнасилования, «расчлененка», каннибализм, копрофилия.
В центре романа «Сердца четырех» – тайное общество, союз четырех, представляющих типы героев соцреализма: мальчик-пионер, одноногий старик-ветеран, олимпийская чемпионка по стрельбе и мужественный бригадир. Эти люди (Ребров, Ольга, Штаубе и Сережа) совершают магические обряды, чудовищные ритуалы, оперируя только им одним известными терминами. Членов этой группы связывают далеко не родственные отношения, хотя они ведут себя так, будто принадлежат к одной семье. Объединяющее начало настолько важно для них, что они способны отказаться от семьи, пожертвовать ради нее своими близкими и родными. Так, они убивают отчаявшихся в поисках сына родителей Сережи, после чего расчленяют тела убитых и в порядке ритуала обсасывают отрезанную головку члена отца. В новогоднюю ночь Ребров убивает свою мать, затем участники группы перемалывают части тела, выжимают из фарша всю влагу и получают субстанцию «жидкая мать». Благодаря этому действию мать вовлечена в сферу магического обряда и все четверо относятся к «жидкой матери» как к сакральной материи. Насилие, убийства, сексуальные акты, пытки и надругательства над другим человеком укрепляют в участниках группы чувство единства, их общинную связь.
Ход сюжета непредсказуем, поступками персонажей управляют одновременно спланированность и случай азартной игры: они бросают кости и действуют согласно выпадающим комбинациям. Путь, ведущий к осуществлению задуманного, таит неожиданные повороты, погони и перестрелки, насилие и смерть. Четверка вступает в схватку то с государственной властью и военной мафией, то с преступным миром. Иногда они совершают зверские пытки, а порой и сами подвергаются жестоким и унизительным процедурам. Одна из самых шокирующих сцен романа – коитус героя с мозгом героини, вскрытым циркулярной пилой. Несмотря на отвратительный характер подобных сцен, злодейства и ужасы в таком сгущенном виде воспринимаются как пародия. Как считает А. Генис, В. Сорокин, «насыщая текст ужасами, доводит “чернуху” до той концентрации, когда смерть вызывает не страх, а смех»643643
Генис А. Пляска смерти на костях соцреализма // Там же. 1994. № 8. C. 4.
[Закрыть].
В историю, выстраивающуюся из жанровых клише авантюрного романа, триллера, постсоветского боевика, вплетаются и другие элементы, характерные для концептуалистской игры. Трогательные нарративы о блокаде и муках в сталинских лагерях воспроизводят традиции гуманизма великой русской литературы. В то же время столкновение различных стилей и типов речи, их отсылка друг к другу обнажают абсурдность готовых дискурсов. «Являясь искусным стилизатором, автор сначала достаточно точно воспроизводит стилистику, затем соединяет канон с процедурой редукции или демонстрацией семантического всплеска жестокого натурализма или абсурда»644644
Берг М. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М., 2000. C. 106.
[Закрыть]. В данном контексте миф классической русской литературы о любви и философия страдания утрачивают объясняющую силу и становятся семантически опустошенными клише.
Изображения поробностей пыток, унижений и убийств лишены эмоциональной рефлексии, будь то садистское удовлетворение или протест, возмущение. Создаваемый Сорокиным мир населен не людьми, у которых есть душа, а некими машинами, выполняющими определенную программу. Это приводимые в действие механизмы, куклы-марионетки645645
См.: Парамонов Б. Конец стиля. СПб.; М., 1997. C. 53.
[Закрыть].
Сорокин подвергает деконструкции традиционные концепции о человеке, согласно которым тело и душа – его разные составляющие. Но поскольку в произведении категории одушевленности и неодушевленности меняются местами, человеческое тело неотличимо от предметного мира, от механической конструкции. Как и в мире Сада, смерть у Сорокина – не прерывание жизни живого существа, а лишь перевоплощение материи, преобразование формы.
Кульминацией романа становится сцена, напоминающая ритуал инициации. Преодолев всевозможные преграды, четверо добираются до цели – находят путь в секретный бункер на территории Сибири. В тайном подвале они приводят в действие обнаруженные там механизмы:
Граненые стержни вошли в их головы, плечи, животы и ноги. Завращались резцы, опустились пневмо-батареи, потек жидкий фреон, головки прессов накрыли станины. Через 28 минут спрессованные в кубики и замороженные сердца четырех провалились в роллер, где были маркированы по принципу игральных костей. Через 3 минуты роллер выбросил их на ледяное поле, залитое жидкой матерью. Сердца четырех остановились:
6, 2, 5, 5646646
Сорокин В. Сердца четырех: [роман]. М., 2008. C. 253–254.
[Закрыть].
По замечанию И. П. Смирнова, «Сорокин обессмысливает идею сверхчеловеческого подвига, весьма очевидным образом полемизируя с Горьким: горящее сердце Данко, вырванное им из груди, превращается в сорокинской пародии в ледяное и мультиплицируется»647647
Смирнов И. Видимый и невидимый миру юмор Сорокина // Новая лит. карта России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.litkarta.ru/dossier/vidimy-nevidimy/ (опубликовано: Место печати. 1997. № 10).
[Закрыть]. Перед нами человеческая сущность в сгущенном, концентрированном виде – сердце четверых в форме игральной кости. Мифологический образ сердца как средоточия человека овеществляется. Сумма цифр может трактоваться как символ: девятка, согласно эзотерической традиции, является символом перехода. Однако мистерия перехода происходит только на абстрактном уровне. После возвращения в состояние проматерии преодоление физической телесности невозможно, ибо нет того, кто бы бросал игральную кость. Мир превращается в замкнутую пустоту, что автор с холодным отчаянием изображает.
Закономерен вопрос, до какой степени можно наращивать экспрессивность уродливых образов и создавать историю из элементов садизма? Несмотря на эпатажный характер прозы Ерофеева и Сорокина, актуализация проблемы зла свидетельствует об очередном кризисе гуманистической традиции. Предлагаемая писателями ее литературная констатация делает их творчество заметным явлением русской культуры конца XX – начала XXI в.
МОРТАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЫ
Восприятие смерти в женской прозе конца ХХ в
О. В. ГаврилинаМосква
Различия мужского и женского способов мировосприятия проявляются в самых разных аспектах: они касаются и телесных переживаний, и социального взаимодействия. Казалось бы, смерть должна сглаживать эти различия, но, рассматривая произведения, написанные авторами-женщинами и авторами-мужчинами, мы приходим к другому выводу.
Восприятие смерти неодинаково в различных культурах и в разные эпохи. Например, по мнению Н. М. Габриэлян, смерть в маскулинном сознании окончательна (для многих), антибожественна, являет собой отпадение от Бога и воспринимается как наказание, явление недолжное, появившееся в результате первородного греха (т. е. порчи естества), в то время как в женском, матриархатном, восприятии смерть не окончательна, божественна, естественна и представляет собой испытание, которое вознаграждается обретением мудрости648648
См.: Габриэлян Н. М. Пол. Культура. Религия // Обществ. науки и современность. 1996. № 6. С. 130.
[Закрыть].
Писательницы конца ХХ в. неоднократно обращаются к теме смерти, вводя ее в контекст различных социальных проблем и личностных переживаний. Мы остановимся на некоторых произведениях И. Полянской, С. Василенко и Т. Набатниковой, которые, объединившись в начале 1990‐х гг. под условным названием «Новые амазонки», изначально позиционировали свое творчество как женское, обращенное к собственно женскому мировосприятию (в отличие, например, от Л. Петрушевской, Л. Улицкой или О. Славниковой, которые заявляют о несостоятельности и неприменимости к их творчеству определения «женское»).
На страницах произведений, созданных женщинами, смерть может сопровождать героиню на протяжении всей ее жизни. Так, героиня романа И. Полянской «Прохождение тени» еще в детстве познает суть традиционно женского обряда погребения, когда однажды попадает на окраину города. Девочка замечает окоченевший труп кошки и решает предать ее земле: «Мне бы хотелось похоронить ее с почестями, ведь она, возможно, прожила трудную, полную опасностей и лишений жизнь и заслужила, чтобы ей напоследок вырыли ямку, застелили дно листьями, обложили вишневыми цветками и по‐человечески забросали землею»649649
Полянская И. Прохождение тени // Полянская И. Прохождение тени: роман, рассказы. М., 1999. С. 243.
[Закрыть].
Семейную жизнь своих родителей, особенно ссоры между ними, повзрослевшая героиня воспринимает через призму «поразительной симметрии двух смертей»: мужчины, который любил ее мать, и женщины, помешавшейся (она похищает девочку и увозит на окраину города) на любви к ее отцу (оба – самоубийцы). Домашние скандалы девушка сравнивает со стуком этих мужчины и женщины «в свои гробовые крышки», а разрыв объясняет тем, что их мечта о вечной любви была схвачена «окоченевшими руками двух мертвецов», поэтому «в конце концов пошла могильным прахом»650650
Там же. С. 269.
[Закрыть].
В творчестве Полянской ссора родителей часто сопровождается другой, более трагичной, чем гибель любовников, смертью. Это смерть ребенка. В рассказе «Куда ушел трамвай» и романе «Горизонт событий» сыновья, убежав из дома от родительских скандалов, проваливаются под лед и погибают. Их смерть заменяется эвфемизмом. Щадя чувства влюбленной девочки, взрослые говорят ей, что ее друг Юрис уехал на трамвае очень далеко. Девочка не понимает, как это возможно, и перестает задавать вопросы, когда видит фотографию на памятнике. Испугавшись ссоры в семье, она со старшей сестрой катается на трамвае. В какой‐то момент к ним присоединяется Юрис и повествование приобретает нереалистичные черты: «Но наш трамвай, махая крыльями, уходил все глубже и безвозвратней в небо… Мы плыли, не задевая звезд, путь наш был устлан млечным сиянием, звезды окликали друг друга… расступались, давая нам дорогу»651651
Полянская И. Куда ушел трамвай // Полянская И. Прохождение тени. С. 370.
[Закрыть]. В финале мы узнаем, что младшая сестра умирает, а старшая – тяжело заболевает после этой поездки.
В романе «Горизонт событий» смерть Германа происходит при похожих обстоятельствах. Гибель сына скрывают от матери, объясняя его отсутствие долгой работой на метеорологической станции, о чем он мечтал. Если замалчивание смерти в рассказе «Куда ушел трамвай» можно объяснить гуманными соображениями, то в романе «Горизонт событий» это воспринимается как стремление родителей снять с себя вину за гибель ребенка.
Один из героев рассказа «Условность» – мальчик Саша, родившийся с синдромом Дауна. Не желая травмировать ребенка (слово «смерть» в семье под запретом), взрослые говорят ему об умерших людях как об ушедших в Дальний Магазин, где продают белых лебедей. И в финале, когда Саша рассказывает случайным попутчикам о смерти тетки и бабушки, он «несколько раз взмахнул руками, как будто собирался взлететь»652652
Полянская И. Условность // Знамя. 2003. № 1. С. 21.
[Закрыть].
Дети знают, что такое смерть, но воспринимают ее по‐своему. Именно ребенок помогает другому ребенку пережить смерть близких, найти нужные слова, в то время как взрослые смущенно отворачиваются. Они не замечают, «как ребенок утешал ребенка… когда взрослые стояли вокруг них тесным кругом, отвернувшись, показывая лишь свои усталые спины»653653
Полянская И. Посланник // Полянская И. Между Бродвеем и Пятой авеню: повести и рассказы. М., 1998. С. 46.
[Закрыть].
Вернемся к женскому восприятию смерти. В рассказе С. Василенко «За сайгаками» представлено несколько мортальных эпизодов. Два из них относятся к детству героини. Едва родившись, умирает ее брат («вдохнул в себя воздух – и умер, не выдохнув»). Этот момент героиня часто представляет себе: «Мне часто виделось, как он глотнул воздуха, а выдохнуть не может, так больно, его шлепают по спине, а воздух, как камень, застрял в горле», как будто «он чего‐то испугался сильно – ни выдохнуть, ни заплакать»654654
Василенко С. За сайгаками // Василенко С. Дурочка: роман, повесть, рассказы. М., 2000. С. 231. Далее цитаты из произведений С. Василенко даются по этому изданию с указанием страницы в скобках.
[Закрыть]. Вторая смерть – маленькие птенцы: «…да, я держала в руках смерть, она беззащитна, у нее тонкая голубая кожа… и она холодная… но этого холода пугаются пальцы, будто предчувствуя, будто до себя дотрагиваются – через столько‐то лет, когда умрут» (с. 205). Одного из них, который был еще жив, она хотела спасти – согреть своим теплом, но, уснув, раздавила во сне. Эта смерть впоследствии заставляет ее чувствовать себя виноватой во всех смертях.
Две другие смерти происходят почти одновременно. Саша Ладошкин, друг детства героини, сбивает в степи маленького сайгака («Желтые глаза его доверчиво смотрели на нас, им было больно, и они боялись, что мы уйдем и оставим его наедине с тем страшным и главным, что совершается с ним») (с. 232), а потом погибает сам.
Можно говорить о «телесном» опыте переживания смерти героиней. В одном из эпизодов она сравнивает вареных раков с красно-оранжевыми гробами, имеющими клешни (с. 220), и не может смотреть, как друзья разламывают их: «будто пожирали мою смердяющую плоть с выпученными мертвыми зрачками» (с. 221). Позднее, стремясь избавиться от этого состояния, героиня падает «лицом в степь». Ее телесные ощущения передаются на языке, близком описанию смерти. Вначале это холод и желание согреться от тепла другого человека, как в детстве, когда она хотела согреть собой умирающего птенца, потом – «бесконечный вдох без выдоха», когда она вдыхала запах полыни (если в эпизоде смерти младшего брата этот момент представляется секундой между жизнью и смертью, то теперь речь идет о вечности). Она чувствует, что ее тело теряет границы: «…смятая полынь распрямлялась, прорастая сквозь меня…» (с. 229) В одном из неопубликованных докладов И. Л. Савкина сравнивает образ мира в представлении героини («Весь мир был кругл, огромен, черен и горяч») с маткой655655
Из доклада «Женское (и) животное в рассказе С. Василенко “За сайгаками”», прочитанного И. Л. Савкиной на конференции «Women’s Nature Writing: New Perspectives of Russian Literature» (29–30 мая 2009, Тампере, Финляндия).
[Закрыть]. Действительно, эти переживания не приводят к физической смерти, напротив, героиня словно рождается заново, освобождаясь от прежних тягостных мыслей.
Героиня рассказа «Ген смерти» также сталкивается со смертью еще в детстве. Первым «вестником» несчастья становится упавшее яблоко, которое сравнивается с убитой птицей: «кровавой струйкой стекала из‐под ножа тонкая кожица» (с. 287). Затем во время ракетных испытаний погибает ее отец. Маленькая Наталья, видя улыбку на лице мертвого отца, принимает все за шутку («папа нарядился мертвым»), но, оглянувшись, замечает, что плачут не только люди – «стены рыдают: такой был у них красно-черный рыдающий цвет», а в окне – «тяжелое, грузно навалившееся на стекло, рыдающее солнце» (с. 288). Осознание непоправимости события настигает ее, когда при выезде из военного городка солдаты не спрашивают пропуск у отца. «…Только тогда поняла Наталья, что папы больше нет. Без пропуска не могла ни войти в город, ни выйти из него ни одна живая душа». Именно в этот момент «поднялся шлагбаум, пропуская папу в смерть» (с. 289).
Девочка задает себе вопросы, которые определяют ее дальнейшую судьбу: «Куда девается жизнь?! Во что превращается она?! И зачем она, если уходит? И – что есть смерть? Где смерть смерти?!» (с. 290). В поисках ответа Наталья обращается и к религии, и к науке. Еще в детстве, дав себе слово «убить смерть», найти «ген смерти», о котором прочла в библиотечной брошюре, она всерьез занимается биологией – наукой о жизни. При этом сама отказывается от продолжения рода. Сначала Наталья просто боится забеременеть. «О ребенке страшно было подумать: сколько сил, времени пришлось бы отнять от работы и сколько любви от своей любви к науке пришлось бы перенести на него – все это не поддавалось вычислениям» (с. 291). А затем идет на операцию по прерыванию беременности.
Жизнь и смерть в сознании героини взаимосвязаны. Особенно остро она чувствует смерть во время беременности. Да и саму беременность Наталья воспринимает как месть той «черной силы, с которой она вздумала бороться», поэтому единственное чувство, которое она испытывает, – «ненависть к своему телу, внутри которого торжествовала свою победу и разрасталась властная неразумная сила…» (с. 294).
Смерть ребенка в результате аборта представлена как процесс, который «начинается» с самого утра. Женщины бесцельно ходят по палате, «ищут расческу», пытаясь заглушить мысль о том, «что будет через полчаса-час» (с. 309). Восприятие времени меняется. Героине кажется, что за то время, пока она переходит от дверей к окну и видит мужчину, который курит одну и ту же, «вечную», сигарету, прошло несколько часов. Круг времени разрывается, когда Наталья замечает, что мужчина ушел. Вместе с ним приходит понимание того, что должно случиться что‐то страшное.
Этим страшным оказывается боль во время операции, которую она, вопреки своим ожиданиям, может перенести: «Ей ведь казалось, что боль нечеловеческой должна быть, какую и представить нельзя, ведь в ней ребенка убивали, не телесная боль должна была быть, темную душу его в ней убивали, не такая боль должна быть!» (с. 313). Но с горькой усмешкой осекает себя («такая боль – не такая!»), понимая, что больно в данный момент не ей – «сыну ее больно, которого рвут внутри ее на части». Телесные ощущения сменяются слуховыми: «…слышно даже, ушами слышно, как режут его, как картон, крак-крак, ножки, ручки, мальчик мой», и на смену «не такой» боли приходит пустота: «Чувствовала, как заполняет ее пустота, пусто-пусто в Наталье… Наверное, это смерть и есть: все видишь, все слышишь – а пусто» (с. 314). И чем дольше после операции, тем больше «мертвого» в описании героини: «Пусто. Ее переложили на каталку, каталка громыхала, подпрыгивало ее пустое тело. Каталка, гроб, Тамара. Пустое тело бросили на кровать, накрыли простыней. Пусто» (с. 314). Находясь в беспамятстве, Наталья отчетливо видит, как ее сын уходит в небытие: «А он с закрытыми глазами тихо чмокает, улыбается во сне, и светится белая попка, и все ближе, ближе подползает к нему ворчащая бездна» (с. 315). Но ничего изменить героиня уже не в силах.
В финале умирает Тамара, чья жизнь – череда бесконечных потерь. Смерть героини изображена как полет на поезде «прямо к луне (ибо была ночь), лежавшей так близко, огромно, к ее ярко-горячей, жаркой, живой и дрожащей плоти». Это путешествие завершается воротами в рай, куда Тамара и те немногие, кого она любила, вступают, будто «входят к себе домой» (с. 333).
И. Полянская в рассказе «Жизель» предпринимает попытку исследовать смерть «изнутри»: она изображает восприятие мира девушкой, которая из‐за ревности решается на самоубийство. После смерти в «сознании» Яны совмещаются детали окружающего мира. Толпа людей предстает то как «заколдованный лес», то как вода: «Толпа струилась мимо нее как вода, так что она не успевала разглядеть лица людей, как ни старалась»656656
Полянская И. Жизель // Полянская И. Прохождение тени. С. 331.
[Закрыть]. Постепенно «деревья становились все зеленее, небо все больше прояснялось и светлело, может, какой‐то стремительный циклон пронесся по городу…»657657
Там же. С. 336.
[Закрыть]. Целью посмертного путешествия Яны становится освобождение от привязанности к Косте, но ее любовь сильнее, и Яна (финал рассказа откровенно фантасмагоричен) забирает возлюбленного с собой: «Одним махом Костя перелетел через кладбищенскую ограду, увитую повиликой, побежал, ломая на своем пути непроходимые заросли угрюмой сирени, разбивая невидимые преграды, и успел подхватить ее на руки. Земля тут же обвалилась в опустевшую могилу, и она мгновенно заросла свирепой травой»658658
Там же. С. 343.
[Закрыть]. Финал может прочитываться и как хеппи-энд – любовь Кости спасает Яну: «Ослепшая Яна чуткими пальцами осторожно ощупывала лицо Кости, не мигая смотревшего в ее глаза, которые не видели, но это было уже неважно: он никогда не покинет ее – ни в жизни, ни в смерти, ни в болезни, ни в горести, ни в любви»659659
Там же.
[Закрыть].
Рассказ Т. Набатниковой «На память» представляет собой дневник умирающей женщины – Магдалины. С одной стороны, героиня размышляет о своей судьбе, мечтает «жить так‐то смело, а не умирать»660660
Набатникова Т. На память // Набатникова Т. День рождения кошки: рассказы. М., 2001. С. 202.
[Закрыть]. С другой – предчувствует неизбежность конца. Метафорой смерти становится наводнение, увиденное Магдалиной во сне:
Я брела по пояс в море, вода и небо плотно смыкались позади меня своей темнотой, и в темноту бессильно упирались соломинки береговых огней. Я шла на свет, но остатки шторма – волны – наваливались на меня одна за другой; странные волны: со стороны берега. <…>
<…>
<…> Но волны наползали, становились все круче, кренились и опрокидывались, и я никак не могла сквозь них продраться и вдруг поняла: ведь эти лжеутихшие волны откатывают меня назад, в море. Я не ближе, а все дальше, дальше от суши, и люди там, на берегу, стали совсем крошечными, и темнота готова уже сомкнуться с водой не только позади меня, но и впереди, и мне не справиться661661
Там же. С. 192–193.
[Закрыть].
Если героиня Набатниковой чувствует, что отдаляется от людей, то герой рассказа Полянской «Снег идет тихо-тихо», напротив, замечает отчуждение окружающих: «Они перестали смотреть ему в глаза; даже сосед, с которым целую вечность играли в шахматы, сделался занят»662662
Полянская И. Снег идет тихо-тихо // Полянская И. Прохождение тени. С. 350.
[Закрыть]. Появляется понятие «умение умирать» как признак «интеллигентности». Однако герой «умирать не умел, стеснялся заранее своего тела, которое впоследствии должно было участвовать в мерзком обряде-спектакле упрятывания его под землю, а там предстояло участвовать в отвратительном процессе растворения с землей»663663
Там же. С. 350–351.
[Закрыть]. Последняя запись в дневнике Магдалины гласит: «Я жила плохо: я боялась смерти, поэтому жила вполсилы. Надо наоборот: если при жизни не страшна смерть, то не страшна становится и жизнь…»664664
Набатникова Т. На память // Набатникова Т. День рождения кошки. С. 205.
[Закрыть] Герой Полянской просит у сына записную книжку, чтобы на закате жизни «записать кое‐какие мысли»665665
Полянская И. Снег идет тихо-тихо // Полянская И. Прохождение тени. С. 351.
[Закрыть]. Открыв ее после похорон, сын обнаруживает только одну запись, вынесенную в заглавие рассказа.
Вообще, смерть отца, оставляющая ощущение недосказанности, потери смысла, оказывается символичной для женской литературы. Коля, герой рассказа «Посланник», после смерти отца, часто видит один и тот же сон, в котором они играют в шахматы, и мальчик «смотрит не на доску, а на лицо отца, точно по нему пытается прочесть какую‐то большую, к шахматам не относящуюся мысль, но на лице отца написано неведенье и только одна будничная забота – разменять ферзя или еще не стоит?»666666
Полянская И. Посланник // Полянская И. Между Бродвеем и Пятой авеню. С. 43.
[Закрыть].