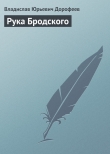Текст книги "Мортальность в литературе и культуре"
Автор книги: "Правова група "Домініон" Колектив
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Поэт и смерть: стихотворение С. Гандлевского «Всё громко тикает. Под спичечные марши…»
А. Г. СтепановТверь
В повести С. Гандлевского «Трепанация черепа» герой-рассказчик так описывает ситуацию, которая дала толчок к созданию стихотворения «Всё громко тикает. Под спичечные марши…» (1994):
Похмелье пятого дня. Тикает всё: самозваные ходики, будильники, напольные часы и ручные – несметны, как насекомые. По стенке пробираюсь в гальюн, сую над унитазом два пальца в рот, но тщетно, яд прижился. «Ад какой‐то», – бормочу я, принимая горизонтальное положение на тахте рядом с женой. Я в одежде, но раздеться сейчас не получится. Половодье первозданного страха карабкается на ложе. Душа не поддается на уговоры, хотя ей не впервой, и раньше сходило с рук. Лифта в доме нет, но явственно слышно, как останавливается кабина на нашем этаже и кто‐то у самых дверей, кряхтя, сбивает снег с бурок. Вот это смерть и есть, допрыгался, придурок. Теперь пиши пропало: шаткий рассудок ошибкой набрел на строку с размером, и она, неотвязная, будет бурить череп, визжать одна и та же в мозгу, как фреза, до скончания похмельных мук464464
Гандлевский С. Трепанация черепа // Гандлевский С. Опыты в прозе. М., 2007. С. 75–76. Далее цитаты из повести даются по этому изданию с указанием страницы в скобках.
[Закрыть].
Следующий абзац относится к стихам, возникшим из этого мучительного состояния:
Стоило пить пять дней и вынашивать полтора года, чтобы получилось похоже на второй терцет сонета из «Дара»! (с. 76)
Во втором терцете сонета из четвертой главы набоковского романа Истина «с улыбкой женскою и детскою заботой» (6‐ст. ямб c асимметричным ритмом) словно рассматривает в ладони нечто, чего не видят другие: «из‐за плеча ее невидимое нам» (Я6 c симметричным ритмом)465465
См.: Набоков В. В. Дар: роман // Набоков В. В. Русский период. Собрание сочинений: в 5 т. СПб., 2004. Т. 4. С. 391.
[Закрыть]. Мотив неразборчивой записи появится в финале стихотворения Гандлевского (сочетание асимметричной и симметричной форм), которое далеко ушло от биографической реальности:
жене
Все громко тикает. Под спичечные марши
В одежде лечь поверх постельного белья.
Ну-ну, без глупостей. Но чувство страха старше
И долговечнее тебя, душа моя.
На стуле в пепельнице теплится окурок,
И в зимнем сумраке мерцают два ключа.
Вот это смерть и есть, допрыгался, придурок?
Жердь, круговерть и твердь – мученье рифмача…
Нагая женщина тогда встает с постели
И через голову просторный балахон
Наденет медленно, и обойдет без цели
Жилище праздное, где память о плохом
Или совсем плохом. Перед большой разлукой
Обычай требует ненадолго присесть,
Присядет и она, не проронив ни звука.
Отцы, учители, вот это – ад и есть!
В прозрачной темноте пройдет до самой двери,
С порога бросит взгляд на жалкую кровать,
И пальцем странный сон на пыльном секретере
Запишет, уходя, но слов не разобрать466466
Гандлевский С. Праздник: [кн. стихов]. СПб., 1995. С. 107.
[Закрыть].
Стихи, как нетрудно увидеть, сублимируют «низменный» опыт, передаваемый автобиографической прозой. Поэтическая форма не просто меняет стилистику текста, она подсказывает новое направление мысли, уводя переживания героя из области наркологической в экзистенциальную.
«Всё громко тикает…» уже становилось предметом филологического рассмотрения. В сентябре 2008 г. в Уфе прошел семинар, посвященный анализу этого текста. Спектр подходов и интерпретаций оказался широким: исследование ритмической композиции (М. М. Гиршман), поиск цитат (Ф. Цацан), анализ стихотворения, заключающийся «в наиболее полном раскрытии его смыслового устройства» (В. Г. Беспрозванный), изучение поэтического синтаксиса (Р. Божич-Шейич), выявление метрических и образно-мотивных параллелей (А. Ф. Калинина), культурологический комментарий (Р. Р. Вахитов и А. Е. Родионова), интерпретация с использованием мифопоэтических кодов (оппозиция явь / сон, свадебный обряд) (Ю. М. Камильянова), «кинематографическое» прочтение (Б. В. Орехов)467467
См.: Анализ одного стихотворения: «Всё громко тикает. Под спичечные марши…» С. Гандлевского // Третье литературоведение: материалы филол.‐методол. семинара, 2007–2008. Уфа, 2009. С. 137–184 (материалы семинара доступны на электронном ресурсе: http://www.nevmenandr.net/seminarium/06.htm).
[Закрыть].
Выбор стихотворения в качестве объекта методологического эксперимента не случаен. Интерес к нему вызван, по‐видимому, высокой семиотичностью (множество деталей, жестов, планов, провоцирующих различные прочтения) и многозначностью. Стихотворение кажется герметичным и в то же время нуждающимся в расшифровке. (Только один участник семинара признался, что не нашел мотивации для его анализа.) Большинство интерпретаций интересны и по‐своему убедительны, но лакуны все равно остаются. В частности, не удалось прийти к общему мнению о том, что такое «спичечные марши», почему в сумраке комнаты видны два ключа, кто эта женщина (вопреки толкованию автора, рассматривающего жену как музу468468
Там же. С. 149.
[Закрыть]) и что за балахон она надевает, почему темнота названа прозрачной. Парад прочтений с установкой на плюрализм методологий способен вызвать легкое головокружение. Как признался один из участников семинара, после того как прослушал все интерпретации: «Я уже запутался: то смерть, то муза, то он напился»469469
Там же. С. 182.
[Закрыть].
Не ставя перед собой цель «распутать» этот текст, я хочу обратиться к нему, чтобы попытаться понять, как страх смерти из психофизиологического состояния, каким он представлен в прозе, превращается в стихах в эстетическое переживание; как индивидуальные фобии, вызванные металкогольным психозом, становятся «проклятьем поэта», выражающим общезначимый духовный опыт.
Чтобы узнать, насколько стихотворение Гандлевского доступно нашему пониманию, попробуем пересказать его содержание прозой470470
«…Мы воспринимаем в тексте больше, чем можем пересказать, но понимаем – только то, что можем пересказать» (Гаспаров М. Л., Подгаецкая И. Ю. Пастернак в пересказе: сверка понимания // Новое лит. обозрение. 2000. № 46. С. 163).
[Закрыть]:
Громкое тиканье невыносимо. Оно под стать строевому шагу, чье звучание напоминает встряхивание спичечного коробка. Остается лечь, не раздеваясь, и дожидаться худшего. Сколько ни бодрись, унять страх невозможно. Окурок дотлевает в пепельнице на стуле, в темноте зимнего вечера поблескивают два ключа – это последнее, что я запомнил, если бы умер сейчас. Ну что, кретин, доигрался? Рифмы, которые приходят в голову, мучительно безнадежны… Я вижу, как с постели встает обнаженная женщина и медленно надевает широкий балахон, затем бесцельно обходит комнату, с которой связаны дурные воспоминания. По русскому обычаю она присядет на дорожку, не нарушая молчания. Наставники мои, это и есть ад! Потом она направится к выходу, на пороге обернется, обозревая убогость жилища, и, уходя, оставит на пыльной поверхности секретера запись таинственного сна, которую я не смогу прочитать.
Как и стихотворение, прозаический парафраз состоит из 124 слов, являясь, по сути, его интерпретацией, только весьма поверхностной. В ней отсекаются смыслы, которые рождаются благодаря звуковой и ритмической организации, позволяющей войти в эстетический резонанс с лирическим субъектом. Причины переживаемого им кризиса, малопонятные из прозаического пересказа, нам предстоит выяснить. Для этого сопоставим фрагмент повести и стихотворный текст.
Алкогольная мотивировка ментального состояния эксплицирована в прозе и имплицирована в стихах. На нее указывают обостренное слуховое восприятие471471
Ср. с аналогичной сценой у С. Довлатова: «Проснулся я у Марины, среди ночи. Бледный сумрак заливал комнату. Невыносимо гулко стучал будильник» (Довлатов С. Компромисс // Довлатов С. Зона: записки надзирателя. Компромисс. Заповедник. М., 1991. С. 165).
[Закрыть] и положение героя в пространстве («в одежде… поверх постельного белья»). Обыденность сцены оттеняется соседством с потусторонним миром, чей ужас осознается не сразу. Отсюда самоуверенная («Ну-ну, без глупостей») попытка «договориться» с душой, зная, что «ей не впервой, и раньше сходило с рук» (ср. с интонацией снисходительности у О. Мандельштама: «Душа ведь женщина, ей нравятся безделки…»472472
На возможную параллель со стихотворением О. Мандельштама «Когда Психея-жизнь спускается к теням…» указала А. Ф. Калинина (см.: Анализ одного стихотворения: «Всё громко тикает. Под спичечные марши…» С. Гандлевского. С. 165–166).
[Закрыть]). Но нельзя «договориться» со смертью (интересно, что в повести у нее нет пола). Если ее появление в прозе, вызванное алкогольным галлюцинозом, происходит извне (шум лифта, кряхтенье, отряхивание снега), то в стихах – изнутри и связано с экзистенциальным кризисом героя. Смерть репрезентирована не через звуковые сигналы, а через символику бытовых деталей. Так, окурок вопреки стилистической формуле «жизнь (надежда) теплится» ассоциируется со смертью. По-видимому, здесь проявилась литературная память автора (от «Не докурив последней папиросы» Н. Майорова до «Только пепел знает, что значит сгореть дотла» И. Бродского), наделившего эту деталь мортальной семантикой. Труднее расшифровать образ ключей. Можно связать его с героями стихотворения («символ и мужчины и женщины»; «два героя – два ключа, оба живут в доме, у каждого свой ключ»473473
Там же. С. 171.
[Закрыть]). Правда, остается непонятным, почему мерцание ключей – «это смерть и есть». Можно увидеть в них символику ключей святого Петра (одним ключом он отпирает ворота в Рай, другим запирает – в Ад)474474
См., например: Малоян З. Символика ключей в искусстве [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://forum.artinvestment.ru/blog.php?b=174931. Загл с экрана.
[Закрыть]. Впрочем, едва ли этот религиозный смысл принадлежит тексту, а не подсказан нашими культурными ассоциациями. Гандлевский в стихотворении пытается не столько рассказать, сколько воссоздать сон, в котором объяснимо далеко не всё475475
Ср. с рассуждением из набоковского «Дара»: «…Человек, рассказывающий свой сон (как всякий сон, бесконечно свободный и сложный, но сворачивающийся как кровь, по пробуждении), незаметно для себя и для слушателей округляет, подчищает, одевает его по моде ходячего бытия, и если начинает так: “Мне снилось, что я сижу у себя в комнате”, чудовищно опошляет приемы сновидения, подразумевая, что она была обставлена совершенно так, как его комната наяву» (Набоков В. В. Дар: роман. С. 334).
[Закрыть].
Если персонификация смерти в повести принадлежит внеязыковой реальности, то в стихах она находится внутри языкового мира, порождая череду созвучий. Именно эти случайные, семантически не связанные между собой рифмы («смерть», «жердь», «круговерть», «твердь»476476
Данный ряд рифм за исключением «смерть – круговерть» (возможный источник – «Bagatelle» И. Бродского) отсылает к замечанию В. Ходасевича о В. Брюсове (см.: Скворцов А. Э. Самосуд неожиданной зрелости. Творчество Сергея Гандлевского в контексте русской поэтической традиции. М., 2013. С. 42).
[Закрыть]) демонстрируют бессилие поэта («мученье рифмача»477477
Отмеченная А. Э. Скворцовым отсылка к «Евгению Онегина» А. Пушкина («Мученье модных рифмачей») (гл. 4, строфа XXX) (там же).
[Закрыть]), неспособного вырваться за пределы клише478478
О «круговой поруке рифм» размышляет герой «Дара»: «Рифмы по мере моей охоты за ними сложились у меня в практическую систему несколько карточного порядка. Они были распределены по семейкам, получались гнезда рифм, пейзажи рифм. “Летучий” сразу собирал тучи над кручами жгучей пустыни и неминучей судьбы. “Небосклон” направлял музу к балкону и указывал ей клен. “Цветы” подзывали мечты, на ты, среди темноты. Свечи, плечи, встречи и речи создавали общую атмосферу старосветского бала, Венского конгресса и губернаторских именин. “Глаза” синели в обществе бирюзы, грозы и стрекоз – и лучше было их не трогать» (Набоков В. В. Дар: роман. С. 333).
[Закрыть]. Круговорот созвучий приводит к мысли об угасании творчества. Смерть, которая в «Трепанации черепа» означала конец жизни героя, в стихах превращается в метафору его поэтической гибели. К ужасу небытия добавляется страх немоты. (Поэт, который не пишет, словно не существует.) Такая «смерть», пожалуй, страшнее, физической. Вторая часть стихотворения разворачивает эту мысль в сюжет.
С постели встает жена лирического субъекта, которую он, находясь в состоянии алкогольной амнезии, не узнает и принимает за чужую женщину. (Ее нагота – возможный след из прошлого.) Она надевает балахон (вид одежды, неотличимый в темноте от ночной сорочки) и покидает жилище. Вопрос о том, кто эта женщина, может решаться по‐разному479479
Высказывались мнения, что это – душа героя, которая «как бы из него самого появляется» (А. Ф. Калинина), «предположительно отделяется от тела» (Ю. М. Камильянова), «покидает тело после окончания жизни» (Б. В. Орехов) (Анализ одного стихотворения: «Всё громко тикает. Под спичечные марши…» С. Гандлевского. С. 166, 173, 177). В такой трактовке остаются неясными ее нагота (может ли она быть у души?), облачение в балахон, молчание (вряд ли до этого момента душа была разговорчива), обладание высшим знанием (это не согласуется с фамильярным обращением «Ну-ну, без глупостей»).
[Закрыть]. Вероятно, так Гандлевский представляет уход музы в облике жены и/или жены в облике музы (для поэта они не различимы). При этом нас не должно смущать противоречие: не узнает жену, но боится, что она уйдет. Первая реакция лежит в области сознания (а оно находится в измененном состоянии), вторая – в области бессознательного. Поэт, напомним, не рассказывает сон, а пытается воспроизвести его, сохраняя достоверность видéния. Как и в поэзии, здесь возможны смысловые интерференции: «просторный балахон» можно уподобить «синему плащу», завернувшись в который героиня А. Блока уходит в ночь из дома («О доблестях, о подвигах, о славе…»).
Кульминацией сюжета становится сцена расставания на фоне абсолютного молчания. Слово «ад» стилистически и семантически отличается от «инфернальной» номинации в прозаическом фрагменте. Если в нем состояние, передаваемое разговорным выражением «Ад какой‐то», не выходит за пределы алкогольной интоксикации, то в стихах высказывание «вот это ад и есть!», предваряемое обращением «Отцы, учители», воспринимается с учетом претекста. Оно отсылает к словам старца Зосимы из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»480480
Отмечалось, в частности, А. Э. Скворцовым, Ф. Цацаном, С. С. Шауловым.
[Закрыть] («Отцы и учители, мыслю: “что есть ад?” Рассуждаю так: “Страдание о том, что нельзя уже более любить”»481481
Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 15 т. Л., 1991. Т. 9: Братья Карамазовы. С. 362.
[Закрыть]). Смысл этой отсылки не столько в актуализации Гандлевским темы нехватки любви, сколько во внимании к «пороговому», лиминальному состоянию482482
Ср.: «Сколько сосредоточенного страха принесла мне эта вера в слова перед операцией, когда днем, а особенно ночью, мысли мои испуганно толпились у понятной черты! Два моих последних стихотворения были о смерти, причем последнее (вероятно, «Когда я жил на этом свете…», 1995. – А. Г.) впрямую; раньше за мной такого не водилось.
<…>
<…> Эти стихи [«Все громко тикает…»] …просто не позволят мне, если я действительно поэт, выжить. А если они выпустят меня отсюда [из больницы], значит, никакой я не поэт…» (с. 57–58).
[Закрыть]. Уход музы (жены) – это ад «по совокупности потерь», из которых самая тяжелая – утрата поэтического дара, речи. Звук вытесняется неразборчивым иероглифом, а приснившаяся жизнь (метафора «жизнь есть сон») превращается в нечто загадочное и одновременно обыденное – неразгаданный ребус на пыльном секретере. Состояние обреченности материализуется в ритмике 6‐ст. ямба: преобладающий асимметричный тип, экспрессивный и гибкий («Отцы, учители, вот это – ад и есть»), сменяется в четырех финальных стихах симметричным, звучащим замедленно и отчужденно («В прозрачной темноте пройдет до самой двери…»).
«Всё громко тикает…», по признанию автора, – это стихотворение «о молчании, караулящем мою речь» (с. 56)483483
Возможна и расширительная трактовка: «ужас бытия без общения, осознание необходимости сказать и услышать, “разобрать слова”» (М. М. Гиршман) (Гиршман М. М. О ритмической композиции стихотворения С. Гандлевского «Всё громко тикает. Под спичечные марши…». С. 144). Правда, в таком прочтении больше Бахтина, чем Гандлевского.
[Закрыть]. Такое молчание равносильно смерти, которая символически наступает с уходом жены и/или музы. В этой мортальности особенно показательна трансформация алкогольного опыта, запечатленного в прозе, в состояние экзистенциальной тревоги, воплощенной в стихах. Стихотворение начинается как аналог прозаического фрагмента, но с восьмой строки уходит «в сторону». В нем возникает сновидческий сюжет, который повышает информативность текста. Поэт договаривает до конца то, что в повести обрывается сценой похмельного утра: «Жена встает разводить детей по их учреждением. Я дожидаюсь отхода домашних и снова впустую давлюсь над унитазом» (с. 76). Стихи избавляют читателя от этих подробностей, ибо говорят не о жизни тела, а о душевных терзаниях художника. Ключевая роль здесь отводится женщине (музе), чей образ иррационален и смертоносен484484
Об образе музы у Гандлевского см., например: Скворцов А. Э. Самосуд неожиданной зрелости. С. 136–138.
[Закрыть]. Она казнит поэта молчанием, а ее «балахон» напоминает одежду палача485485
Ср.: «…Муза… поэту [Гандлевскому] скорее враждебна – именно от нее исходит угроза “молчания”, которого так боится герой» (Бокарев А. С. Творчество поэтов группы «Московское время» в контексте русской лирики 1970–1980‐х годов: дис. … канд. филол. наук. Ярославль, 2013. С. 155).
[Закрыть].
Стихи Гандлевского, как показывает приведенный пример, действительно растут из «сора». Они же этот сор разметают, когда становятся «наваждением» (с. 76). Проза поэта, несмотря на отмечавшуюся критиками тематическую и мотивную зависимость от стихов, по своему художественному уровню не уступает его поэзии486486
См.: Скворцов А. Э. Самосуд неожиданной зрелости. С. 22.
[Закрыть]. Вместе с тем в сознании автора стихи стоят выше прозы главным образом из‐за их предсказательной силы487487
«…Сказанное, особенно в рифму, обязательно сбывается, только непредсказуемым образом, иногда не прямо, а вбок» (с. 56).
[Закрыть]. Право художника – думать так. Нам было интересно другое – увидеть, как стихотворение, у которого есть прозаический аналог, преобразует эмпирическую реальность в реальность эстетическую.
Трансформация оппозиции «живое / мертвое» при переводе литературного текста на киноязык488488
Работа над статьей выполнена в рамках проекта РГНФ № 15-34-01013.
[Закрыть]
Л. В. КузнецоваСанкт-Петербург
Одной из особенностей перевода литературного текста на киноязык является неизбежная обязательная визуализация того, что в литературном произведении выражено словесно. «Литература передает информацию через словесный ряд, а кино использует как звуковой, так и визуальный ряд, что увеличивает выразительные средства кино, не делая их, тем не менее, безграничными»489489
Арутюнян С. М. Слово и визуальный образ (к проблеме экранизации литературных произведений) // Визуальный образ (междисциплинар. исслед.). М., 2008. С. 131.
[Закрыть]. Но как можно визуализировать отвлеченные понятия? Каждый раз в таких ситуациях режиссеры поступают по своему усмотрению, предлагая что‐то оригинальное и вызывая тем самым споры об адекватности экранизаций.
Рассмотрим фильм А. Хржановского «Полторы комнаты, или сентиментальное путешествие на родину» (2009) – экранизацию эссе И. Бродского «Полторы комнаты». Ключевой в литературном тексте Бродского мотив смерти и ключевая оппозиция «живое / мертвое», представленные в размышлениях и воспоминаниях автора, в кинокартине получают визуальное воплощение в образах двух ворон и кота – животных, связанных с миром мертвых. Каждый герой фильма имеет свое alter ego из животного мира. Это проявляется в речи персонажей, их действиях, некоторых сюжетных ходах, даже в музыкальном оформлении, а также в использовании анимационных вставок в кинокартину. Созданием второго плана повествования с зооморфными метафорами режиссер по‐своему интерпретирует эссе Бродского «Полторы комнаты» и создает особый киноязык, апеллирующий к культурным ассоциациям.
Главные герои фильма подвергаются зооморфизации (уподоблению животным) через поведение, речь (как персонажей, так и закадрового рассказчика), а также благодаря мультипликационным вставкам. Если анималистическими прототипами родителей являются вороны, то поэта – кот.
Поскольку Иосиф Бродский – главный герой картины, «кошачья» тема представлена здесь особенно ярко и разнообразно. Как воспоминание о раннем детстве поэта звучит колыбельная «У кота ли, у кота, колыбелька золота». Анимационный кот сидит за спиной маленького Иосифа на санках в эмиграции во время войны. Позже в новую квартиру семья по народной примете первым впускает рыжего кота, который в старости будет ассоциироваться у родителей с отсутствующим сыном. Звучит голос за кадром: «В детстве я растягивал на кошачий манер многие слова, в которых были подходящие гласные, в результате чего в нашем доме стояло сплошное мяуканье». Отец поэта говорит жене: «Мясо, Мася!» Мать отвечает: «Перестаньте звать меня кисой! И оставьте ваши эти кошачьи песни и слова, иначе останетесь с кошачьими мозгами!» Пушкинский образ Ученого кота живет в буфете, он становится первой музой для начинающего поэта. Молодой Бродский представляется всем Иосифом Кошкиным, и в одном эпизоде цитирует другу булгаковского Кота Бегемота: «Мы ничего не делаем, починяем примус». Родной город также ассоциируется у Бродского с родственниками кота: статуями львов, сфинксов, анимационными львами с крыльями, летящими по небу.
Ворóны появляются в первых кадрах фильма раньше других животных. Используется такое монтажное чередование кадров, что родители поэта начинают ассоциироваться у зрителей с воронами еще до словесных объяснений этой параллели: Бродский звонит по телефону из Нью-Йорка → в старой квартире стоит телефонный аппарат и звучит телефонный звонок → слышится карканье и прилетают две вороны → Бродский → родители в своей комнате в Санкт-Петербурге → Бродский → фотография родителей → Бродский → улетающие в небо вороны → уходящий в сторону моря Бродский. Звучит голос за кадром: «С недавних пор у меня во дворе поселились две вороны. Они появились поодиночке. Первая – два года назад, когда умерла мать, вторая – в прошлом году, сразу после смерти отца». Мать Бродского, рассматривая портрет человека в альбоме, говорит, что у ее мужа такой же большой клюв, но их сын, к счастью, не унаследовал его. По отношению к своему дому герой в речи использует распространенную метафору «родное гнездо».
В этом зооморфном мире кинокартины рыба подается исключительно как еда, что говорит о преобладании «кошачьей» точки зрения. Например, воспоминания о детстве включают то, что «интересно» прежде всего коту: мясо, шашлык, колбаса, сардельки и рыба из «Книги о вкусной и здоровой пище», икра, купленная родителями вместо картошки, которую, возомнивший себя котом ребенок не хотел есть, раки в магазине, курица в авоське, банка шпрот…
Анималистический слой повествования пробуждает у зрителей фильма устойчивые культурные ассоциации. Известно, например, что домашние коты могут сосуществовать в одном помещении не только с другими котами, но и с животными, которые в природе являются их жертвами. Так, если котенку дать мышь, они долгое время будут сохранять «приятельские» отношения. Вместо с тем кошки и коты воспринимают окружающий мир интуитивно, они своенравны и плохо поддаются дрессировке490490
См.: Чанцев А. Формула кошки [Рец.: Мамедов А. Время четок. Полные версии двух романов. М., 2007. 592 с.] // Новый мир. 2008. № 2. С. 178–183.
[Закрыть]. Поэтому герой Бродского в интерпретации Хржановского мирно уживается с родителями-птицами, пока он ребенок, но, когда вырастает, не поддается «дрессировки» ни со стороны родителей, ни – государства.
В славянской мифологии кот – символ мира и благополучия, он защищает дом от нечистой силы491491
Орел В. Е. Культура, символы и животный мир. Харьков, 2008. С. 139.
[Закрыть]. Может быть, поэтому с отъездом кота-Бродского в эмиграцию, в дом к родителям приходят болезни и смерть.
Благодаря способности кошек при падении приземляться на лапы бытует мнение, что эти животные обладают особым «шестым чувством» и у них девять жизней492492
Эпштейн М. Н. Мир животных и самопознание человека (по мотивам русской поэзии ХIХ–ХХ вв.) // Художественное творчество: Вопр. комплекс. изуч. / 1986. Человек – природа – искусство: [сб. ст.]. Л., 1986. С. 126–146.
[Закрыть]. Жизнь героя Бродского в фильме меняется много раз (ссылка в деревню, эмиграция), насыщаясь новыми деталями, вещами, как бы возвращаясь к началу, тогда как жизнь родителей принципиально однообразна. По сравнению с жизнью родителей жизнь Бродского – это девять разных жизней.
Поскольку в традициях разных культур кошки наделены способностью проникать в потусторонний мир и общаться с духами493493
Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997. С. 121.
[Закрыть], органичны в фильме идея воображаемого возвращения поэта домой по воде (отсылающей наши ассоциации к реке Стикс) и его встреча с умершими родителями. Благодаря «кошачьей» параллели в зооморфном плане повествования герой Бродского после посещения царства мертвых воспринимается зрителями как живой и ничуть не меняется.
Что касается ворон, то, являясь в славянской традиции символами неудачи494494
Орел В. Е. Культура, символы и животный мир. С. 260.
[Закрыть] (ср. с русскими словами «накаркать» и «проворонить»), они с самого начала фильма предвещают неуспех воображаемому возвращению Бродского домой с двумя воронами на плечах. Желание поэта вернуться и застать родителей в живых изначально невыполнимо.
Иногда зооморфные метафоры родителей (ворóн) и сына (кота) в фильме пересекаются и замещаются. Дома отец Иосифа-ребенка мяукает вместе с сыном, а жену называет Кисой. Мать говорит, что у них обоих «кошачьи мозги». В эмиграции в одном из эпизодов Бродский надевает черную мантию – в замедленной съемке он поднимает и опускает руки, а потом исчезает из кадра как улетевшая ворона.
Сцена разговора поэта с умершими родителями объясняет трагедию жизни героя Бродского с точки зрения зооморфного кода. Иосиф и самые близкие ему люди принадлежат разным мирам. Они говорят, что никогда его не понимали. Он отвечает, что всегда знал это. Кот и вороны по своей зоологической природе несовместимы.
Кроме основных зооморфных персонажей в фильме присутствуют лошади-кони (иногда в образе «Медного всадника», иногда Пегаса и даже кентавра), деревянный и игрушечный зайцы, верблюды (уже в эмиграции как символ чужеродной культуры). Даже неживые предметы могут одушевляться, наделяясь зооморфными чертами: например, музыкальные инструменты в фильме улетают из Ленинграда, подобно птицам. И только ключевые зооморфные метафоры (кот и вороны) закрепляются за всеми визуальными уровнями кинокартины: есть и реальные животные, и рисунки, и анимационные вставки.
Самым первым спутником Бродского-ребенка из мира животных оказывается не кот, а заяц. Поэт в детстве спит с игрушечным зайцем и крепко прижимает его к себе, когда видит незнакомого мужчину, который говорит: «Ты что, испугался, Оська? Это я, твой папа. Я вернулся». Во время бомбежки в церкви маленький Бродский также крепко прижимает к себе игрушечного зайца. В сцене отъезда мамы с мальчиком в эвакуацию на лодке в руках у ребенка тоже оказывается заяц. Можно предположить, что заяц в концепции режиссера олицетворяет собой чувство страха, испуга. Позже герой фильма становится старше, смелее и образ зайца пропадает, его заменяет кот. Маленький деревянный заяц появится только в эпизодах, связанных с первыми попытками соблазнения девушек. Когда третья попытка Бродского достигает успеха, акцент с зайца переносится на кота. Заяц выбрасывается, в кадрах все чаще появляется кот, и поэт начинает сознательно себя с ним ассоциировать.
Мультипликационные анималистические персонажи расширяют границы художественного фильма, открывая новый уровень. Герои-животные помогают восприятию фильма не только как истории об Иосифе Бродском и его творческой судьбе (на чем настаивают создатели кинокартины). Они рождают идею иллюзорности происходящего, сказки. Бродский в этой сказке многолик. Зритель видит, во‐первых, фотографии поэта, во‐вторых, героя в исполнении актера Григория Дитятковского, в‐третьих, снятых в этом фильме реальных котов и котят, в‐четвертых, рисунки котов из архива музея Бродского и, в‐пятых, анимационные вставки с всевозможными «кошачьими» образами. Эта визуальная многоликость деперсонализирует конкретного человека, создавая миф об изгнаннике вообще, о человеке и его чувствах в тоталитарном мире. Зооморфизация героев способствует восприятию кинокартины как аллегории, где история и персонажи условны; они определяются культурными ассоциациями и выступают иллюстрацией социально-философской идеи.
Отталкиваясь от идеи о расширении границ фильма и большей свободе героев-животных по сравнению с героями-людьми, в зооморфном коде кинокартины можно увидеть еще один уровень интерпретации фильма – политический. Если проследить за тем, когда появляются анимационные вставки с животными, то окажется, что они всегда иллюстрируют мечту Бродского о небе, о полете, а также о творческой свободе в условиях социального и политического притеснения.
Первое вкрапление анимационного слоя связано с эмиграцией. Голос за кадром вспоминает: «Помню как‐то зимой под Новый год в бараке, где жили пленные немцы, я увидел елку и на ней игрушки. Среди них был младенец с крыльями. Мама сказала, что это ангел. С тех пор мне ужасно захотелось летать». После этих слов мы первый раз видим анимационного кота. Он выглядывает из‐за спины ребенка-Бродского, т. е. появляется именно в том месте, где растут крылья у ангела. Кот помогает санкам с мальчиком быстрее мчаться вниз, потом кот падает и улетает на дельтаплане с огромными крыльями, появляется Стрелка Васильевского острова, по петербургскому небу (о котором герой грустит в эмиграции) летят анимационные ангелы, летающие кони проплывают мимо статуи Медного всадника, кот на дельтаплане становится летающим львом.
Второй раз анимация появляется тогда, когда поэт рассказывает историю дома-торта, в котором проживала его семья. Раньше там жили люди искусства: поэты, писатели, художники, музыканты. Среди анимационных людей три раза показана фигура кота. Потом происходит революция, атмосфера творчества разрушается, свободное пространство со всех сторон перегораживается, членится на коммуналки, анимация заканчивается. На экране появляется коммунальный быт с настоящими тараканами, игрушечным зайцем и лошадью и одновременным чириканьем птиц за окном.
После того как музыкальные инструменты, предрекая эмиграцию герою, улетают из города на фоне львов, Медного всадника и ангела, он сидит за столом и рисует кота. В этот момент открывается буфет и там появляется пушкинский Кот ученый. Звучат слова: «У меня в доме было свое жизненное пространство. Я делил его со своим котом. Ну, со временем он постарел и многие его бывшие приятельницы отказали ему от дома, точнее от своего угла на чердаке. Он сделался нелюдим…» В этом, третьем, анимационном эпизоде в словах «сделался нелюдим» вербализуется оппозиция «человеческое / нечеловеческое» (т. е. «животное»), которая дальше развивается и накладывается на оппозицию «тоталитарное государство / свободное творчество».
На вечеринке у молодого Бродского кто‐то восклицает: «Какие здесь интересные люди!» Поэт удивляется: «Кто это сказал? Господа, а вы знаете, что не все люди – люди? Это моя давняя теория. Если генеральный секретарь компартии – человек, то я – не человек». Таким образом, создание «кошачьего» амплуа оказывается протестом героя против политической системы. Более определенно идея о том, что кот – это попытка убежать от системы, политики, оказаться вне ее, обнаруживается в мультфильме «Полтора кота», легшем в основу киноленты «Полторы комнаты, или сентиментальное путешествие на родину». Там рассказчик говорит: «Вот смотрите кот, да? Кот. Ему совершенно наплевать, существует ли общество “Память” или отдел пропаганды в ЦК КПСС. Так же, впрочем, как и президент США, его наличие или отсутствие. Чем я хуже этого кота?» Незнание котом границ системы делает его более свободным. Иллюстрируя эту идею, Бродский рассказывает о роли фильма «Тарзан» в своей жизни и жизни молодых людей того времени: «Я полагаю, что свободомыслие в Советском Союзе, вообще раскрепощение сознания, ведет свое летоисчисление, по крайней мере для моего поколения, с “Тарзана”. Это было первое кино, в котором мы увидели естественную жизнь». В мультфильме «Полтора кота» тема Тарзана, подарившего людям идею свободы, продолжается: «Я утверждаю, что одни только четыре серии “Тарзана” способствовали десталинизации больше, чем все речи Хрущева на XX съезде». Тарзан – человек, выросший с животными, – ведет себя и мыслит, как животное, является свободным от навязанных стереотипов и этим привлекает внимание, оказываясь образцом для подражания.
Четвертый анимационный фрагмент иллюстрирует высылку поэта в деревню «за тунеядство». Здесь расширяется зооморфный круг персонажей. Бродский общается с быком, коровой, сам превращается в кентавра. Звучат стихи: «В деревне, затерявшейся в лесах, / таращусь на просветы в небесах». После слов о небе у героя вырастают крылья и он оказывается Пегасом, летящим за звуками дудочки. Потом мы видим пишущего Пушкина (видимо, в аналогичной ситуации высылки) с котом, затем человека с лошадью, слышим стихи: «Два всадника мчатся в полночную мглу, / один за другим, пригибаясь к седлу, / по рощам и рекам, по черным лесам, / туда, где удастся им взмыть к небесам». Анимация сменяется реальным небом, кораблем и затем знаменитой фотографией Бродского на чемодане. Начинается эмиграция.
В эпизодах, связанных с эмиграцией и жизнью в Америке, кот не появляется, ассоциируясь тем самым с домом, с Россией. Акцент переносится на ворон и вообще птиц. Бродский говорит: «Первое, что я сделал, я получил права на вождение самолетом». Он медленно машет руками, как крыльями и как бы улетает из кадра. Мечты о небе оказываются реализованными.
Пятая анимационная вставка представляет собой интервью: « – Скажите, это правда, что в Советский Союз Вы сидел (именно так говорит американский журналист. – Л. К.) в сумасшедшем доме?» – «И не однажды». – «Так, может, Вы действительно сумасшедший?» Раненый поэт падает, и прискакивает птичка. Анимация сменяется изображением беспокоящихся родителей в постели с котом Осей.
Далее Бродский рассказывает о том, как родители несколько раз пытались получить разрешение повидаться с этим «сумасшедшим», но получали отказ. Он говорит: «Система сверху донизу не позволяла себе ни одного сбоя. Как система она может гордиться собой. И потом, бесчеловечность всегда проще организовать, чем что‐нибудь другое». «Чем‐нибудь другим» предстает в фильме зооморфный мир, противопоставленный миру с реальными людьми как человечность бесчеловечности. Дальше эта тема продолжается: «Основная трагедия российской жизни заключается в колоссальном неуважении человека к человеку. В общем, в презрении и в отсутствии сострадания». И после этих слов звучит лейтмотивная для фильма колыбельная «У кота ли, у кота, колыбелька золота». Получается, что кот и вообще животные больше способны на уважение и сострадание, чем человек, так как они живут вне политики.
Антиполитический подтекст усиливается к концу фильма. Картина завершается обращением поэта к президенту: «Я вспомнил, что опять так и не отправил письмо президенту, которое я вез с собой в конверте еще тогда, в семьдесят втором. Господин президент! Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, жил. И всем, что имею за душой, я обязан ей. Я верю, что я вернусь. Поэты всегда возвращаются – во плоти или на бумаге. Я хочу верить и в то, и в другое». Животные в кинокартине и анимация оказываются еще одной формой «плоти и бумаги», благодаря которой может ожить и вернуться образ поэта. Недаром само слово «анимация» в переводе с французского означает «оживление, одушевление»495495
Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. СПб., 2008. С. 40.
[Закрыть].
Выбор не других животных, а именно кота и двух ворон как центральных образов кинокартины может иметь следующую интерпретацию. Бродский в фильме говорит: «Что такое кот на самом деле? Это такой, как бы сказать, сокращенный лев, да? Так же, как мы – сокращенные христиане». Не случайно герои фильма часто показываются на фоне львов, сфинксов как символов былого величия России. СССР, пришедший ей на смену, упростил Империю. Он превратил львов в котов, а двуглавого орла – в двух ворон (ср. в стихотворении «Прощайте, мадемуазель Вероника»: «Русский орел, потеряв корону, / напоминает сейчас ворону. / Его, горделивый недавно, клекот / теперь превратился в картавый рокот»496496
Бродский И. Стихотворения и поэмы: в 2 т. СПб., 2011. Т. 1. С. 215.
[Закрыть]).