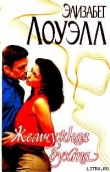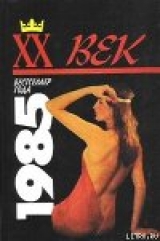
Текст книги "Ханна"
Автор книги: Поль-Лу Сулицер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
Вернувшись в Париж, она рвет с Рене. "Я терпела его полгода, с меня хватит". Он грозится убить себя, если будет брошен. Она предлагает ему веревку, отравленную (якобы) цианистым калием и свитую на африканский манер, – это полностью выбивает его из колеи.
Она порвала с Рене не из-за другого мужчины, хотя кандидатов было хоть отбавляй, а потому что взяла от него все, что он мог ей дать. Он не научил ее ничему, чего бы она уже не знала касательно любви, зато ввел в мир искусства.
В начале июня, вскоре после разрыва, она получает письмо от Анастасии и в тот же день отправляется в Санкт-Петербург.
– Ты не могла бы поподробнее? – просит Лиззи.
– Царское Село, так звучит это по-русски. Оно в пятнадцати милях к юго-западу от Санкт-Петербурга, их столицы. Я приезжаю туда 29 июня сразу после полудня…
– С бьющимся сердцем.
– Замолкни. Правда, Лиззи, мне было очень страшно. Конечно, не из-за того, что я встречусь с императрицей, мне на нее глубоко наплевать, я стою не меньше, чем она…
– Больше!
– Да, больше. В особенности для себя самой. Помолчи… Но эта женщина держит в руках судьбу Менделя. Этого-то я и боюсь. Мы идем мимо домика Толстого, его дачи. Чуть дальше, по левую руку, – Александровский дворец, фасад которого растянулся на три сотни метров. Он отделан пилястрами и колоннами из белого камня. Стоит хорошая погода, много солнца, и все здания прекрасно освещены. Позолоченные купола церквей, огромные сады. Я так волнуюсь, что не могу даже ответить, когда со мной говорят. Анастасия обучила меня и заставила тысячу раз повторить реверанс, который я должна буду сделать. А я, Ханна, та самая Ханна, которая не боится ничего на свете, – я волнуюсь, как дитя, говорю себе, что если от меня отвернется удача, это может стоить – кто знает – жизни Менделю: я убью его лишь тем, что плохо преклоню колени…
– Ханна!
– Помолчи.
– Я тебя люблю. Но сомневаться и бояться – это совсем не похоже на тебя. Хотя ведь речь шла о Менделе…
– Да, речь о Менделе. Невероятное количество слуг, людей в белых ливреях и черных фраках… Мы задерживаемся и ждем в большом зале, о котором Анастасия мне говорит, что это знаменитая Янтарная комната. Здесь масса очень красивых вещиц, разумеется, из янтаря. Ждем самое малое час. За это время раскланяться и обнять Анастасию приходит целая толпа великих герцогинь или как их там, но ни одна из них даже не обращает на меня внимания.
– Лиззи, я чувствую себя действительно маленькой, крохотной. Да и как я могу себя чувствовать, не то полька, не то еврейка из захолустного местечка, бедная и невежественная, в кругу всех этих дам, брат или сын одной из которых, возможно, убил моего отца и Яшу. Убил просто так. В какие-то минуты я едва сдерживаю злобу, почти ярость. Взорвать бы этот их проклятый дворец… Но вот нас зовут. Мы, Анастасия и я, продолжаем наш путь, идем по залам с обитыми шелком стенами.
Новая обстановка. Нам говорят, что эта чертова царица наконец-то нас примет. Как бы ни так, проходит еще час, и вот нас через парк ведут к маленькому домику, похожему на музей, где комнаты украшены агатом. И в тот момент, как нам туда войти, проносится какая-то волна, пол дрожит, и Анастасия заставляет меня опуститься чуть ли не на четвереньки: шествует царь Николай, с бородой и усами, со своим бегающим взглядом нашкодившего счетовода. Он проходит, и волна спадает. Вскоре мы уже стоим под аркадами, откуда виднеется озеро. И она там, "сама царица, Ее Императорское Величество" – в белом платье, в кружевном платке, со строгими губами, такими же строгими глазами и сухим голосом. Она раздраженно говорит с Анастасией и лишь под конец бросает на меня взгляд, в котором отражено все презрение мира. Я понимаю: если жизнь Менделя зависит от этой женщины, то он погиб, погиб в ту самую минуту, когда она услышала его имя. И начинаю говорить. Говорю очень быстро, потому что каждая секунда на счету и потому что я в отчаянии. Стараюсь изо всех сил. Не помню ни одного из произнесенных мною слов, ни одного. Просто наступает момент, когда царица поворачивается спиной и удаляется в сторону садов, со всех сторон окруженная дамами. Я остаюсь одна с Анастасией и тремя-четырьмя девушками, все они рыдают и твердят, что я была чертовски трогательна, трогательна до слез.
"Я ничего не знаю. Повторяю, Лиззи, я даже не помню, что сказала ей, супруге Николая II. Мы возвращаемся в Санкт-Петербург, едем с Анастасией во дворец, который принадлежит одному из ее дядей и стоит на набережной канала Грибоедова; недалеко от Невского проспекта и церкви Воскресения Христа, построенной на том месте, где был убит царь Александр II. Ждем две недели. Ничего. А вдруг эта чопорная царица даже не слышала того, что я ей объясняла, или взяла да и отдала приказ о казни – по моей вине, только потому, что я позволила себе заговорить с нею о Менделе. Вот что мучило меня во время балов, один из которых длился целых два дня.
…Только в начале третьей недели утром Анастасия входит в мою комнату. Она бела от гнева и вся дрожит. Она говорит, что никогда более не захочет меня видеть и что я должна уехать – сегодня же, сейчас же. Почему? Потому что она и другие дамы из окружения царицы – какой позор! – взволнованные моим рассказом, так ходатайствовали за этого еврейского кота из Варшавы. Вмешался даже министр, подписал приказ об освобождении, о помиловании, скрепил его подписью самого императора, послал телеграфом в сибирскую глубинку, в соляные копи, я уж не знаю куда. А сибирская глушь ответила, что они с удовольствием освободили бы Визокера, при условии, что здесь, в Санкт-Петербурге, его схватят. Потому что вот уже более года, как вышеупомянутый Визокер бежал, проломив головы трем или четырем охранникам, ушел пешком, один то ли к Северному полюсу, то ли к озеру Байкал, в страну монголов, то ли в Гималаи. И что они очень рады: этот безумец наконец-то оставил их в покое".
– Молчание.
И малышка Лиззи, которой всего лишь одиннадцать лет и у которой слезы стоят в глазах, замечает:
– Ты плачешь от радости или от печали?
– Не знаю.
– Никогда не видела тебя плачущей.
– Ну что ж, вот и увидела, – отвечает Ханна.
День четвертого января 1899 годаЛетом 1896 года они в полном составе едут на французскую Ривьеру. Тратят немного, если не сказать совсем не тратят. Один вечер, проведенный Ханной в казино Монте-Карло, и все повторяется: она выигрывает вполне достаточно, чтобы оплатить поездку и пребывание в «Отель де Пари», плюс два новых платья для Лиззи и два для себя, плюс плата за квартиру на улице Анжу в течение года, включая и газ. Ханна приходит к мысли, что ей помогает нечто мистическое. Она обескуражена: еще месяц за игорным столом – и она, без сомнения, стала бы такой же богатой, как все семейства Ротшильдов вместе взятые. Да если б она хоть умела толком играть. Если б вкладывала хоть каплю смекалки, размышлений, памяти. Так нет же, она ставит на 18 (день рождения Тадеуша), на 2 (день рождения Лиззи), на 23 (ее собственный день рождения), ставит так и этак и неизменно получает в тридцать шесть раз больше своей ставки.
"Омерзительно! Какая идиотская игра!"
Дождавшись ее в отеле, разумеется, в обществе Шарлотты (которая еще прибавила в весе и уже не пролезает в дверной проем), Лиззи лежит на спине и, задрав ноги, задыхается от смеха.
– Наша Ханна опять выиграла! Деньги словно падают ей в руки с неба!
– Не вижу ничего смешного, – цедит Ханна с изрядной долей язвительности. – У меня действительно вид как раз такой, чтобы проворачивать дела!
Кстати, о делах. Ее деньги, помещенные в Лондоне и частью в Германии, в Кёльнском банке, где Марьян Каден работает как вол, приносят ей девять с половиной процентов. Само по себе это немного, но достаточно для того, чтобы иметь деньги в свободном наличии. 25 тысяч фунтов Пайка, которому она регулярно выплачивает его полпроцента, тоже приносят около 6 тысяч фунтов в год, причем начальный капитал остается нетронутым.
И более того, этот капитал растет. Вначале – потому, что она не тратила все 6 тысяч фунтов, затем, в июне 96-го года, к нему добавятся 11 тысяч 900 с хвостиком, полученные из Австралии.
– Как и было предусмотрено, – докладывает Полли, – Фурнак вложил в дело выручку от первой прибыли, и через полгода вы получите еще столько же. На данный момент вложения закончились. В будущем году ожидается 30 тысяч.
– Я умею считать.
– Не сомневаюсь, Ханна, не сомневаюсь. Что меня восхищает, так это ваше спокойствие.
Полли удивляет не только ее явная невозмутимость, но и бездеятельность: он и не предполагал, что у нее столько терпения. Когда Ханна обзавелась любовником, он немного подулся, но это скоро прошло: она никогда не будет принадлежать ему, это ясно и это более или менее утешает. Полли из той редкой породы мужчин, которых, кажется, не могут сильно задеть ни радости, ни горести жизни, в крайнем случае они от них умирают, но умирают изящно, с улыбкой.
Он часто приезжает в Париж из Лондона просто по дружбе, за которую, будучи лишен большего, продолжает цепляться. Может быть, ей нужен его совет? Есть возможность очень выгодно поместить капитал. Она отказывается по уже известной причине: хочет иметь деньги под рукой, чтобы распоряжаться ими в любое время. "Вы мыслите, моя милая, как иммигрантка". – "Пока я ею и остаюсь. И потом, не говорите, что я сижу сложа руки: я продолжаю учебу".
Что касается последнего пункта, то это чистая правда: за один год с дерматологом Беррюйе и другими она прошла очень много. Даже присутствовала на хирургических операциях; ей сулили обморок при одном только виде крови, – она рассмеялась и, конечно же, прошла через это невозмутимо. Из огромного количества поглощаемых книг она почерпнула больше, чем можно было ожидать, учитывая ее весьма скромную подготовку. Работала по 16–18 часов в день, если с нею не было Лиззи или если ее не везли (черт возьми, почему она должна всегда быть окружена мужчинами!) на какой-либо прием приятели – художники, журналисты, музыканты.
К октябрю 96-го года у нее на счету было больше 78 тысяч фунтов. Казалось, остается только сидеть и ждать, когда цифра перевалит за отметку 100, намеченную как цель. Однако назревали перемены.
Как всегда, Полли быстро ее разгадал.
– Я– толстенькая рыба-лоцман при маленькой и прекрасной белой акуле. В вас опять просыпается акула, Ханна.
Это было правдой: жажда деятельности начинала жечь ей руки. Для себя она открыла, что сколотить состояние не было, да и не могло быть (по крайней мере для нее) целью; ее толкает другая, более сильная страсть: жгучая, почти патологическая потребность создавать, потребность, которая, оказывается, живет в ней и которую не могут ослабить ни время, ни годы, ни жизненные потрясения.
Это сильнее ее: она нарушит данное себе обещание выждать два-три года, прежде чем что-либо предпринимать. Она перейдет в генеральное наступление.
Для начала приобретет на улице Риволи, напротив сада Тюильри, прозябающую лавку. Ее владелец умер год назад, и дела пришли в упадок (правда, между этими фактами Ханна не усматривает ничего общего). В лавке продавались разные мелочи и безделушки: от подержанных корсетов из китового уса до образков, привезенных из святых мест. За 2 тысячи 600 франков она получит право делать с лавкой все, что ей заблагорассудится (кроме дома свиданий: вдова – женщина верующая).
Через три месяца Ханна подведет первые итоги. Клиентура вернулась, вернее сказать, обновилась, средний возраст покупателей – около полувека, привлечены они были без малейшей рекламы: чем-то новым в оформлении витрины, в убранстве салона лавки, хотя все ограничилось одним слоем росписи, изменениями в ассортименте товаров, в поведении одной, а затем двух продавщиц, в атмосфере… Ханна сама не смогла бы толком объяснить и не очень-то доискивалась, что приносит ей успех.
Нелегко было узнать, что у нее нет ни малейшего таланта к рисунку, живописи, скульптуре, равно как и к литературному творчеству. Конечно же, она пыталась написать десяток-другой страниц, посвященных ее детским прогулкам по местечку, Менделю с его бричками, широким полям Польши. С поощрения Марселя Пруста показала ему полное собрание своих сочинений. По одним лишь его глазам поняла: ее опус холоден, лишен божьей искры и совсем на нее не похож. Ей не удалось даже мало-мальски себя проявить, она руководствовалась одним лишь разумом, а этого, увы, мало, – прокомментировал чувствительный Марсель. Что касается музыки, то тут она была начисто обделена. Когда Дебюсси, улыбаясь, сыграл для нее одной прелюдию к "Полуденному отдыху фавна", она услышала лишь какой-то гул и не больше; та же глухота в опере или во время концертов, на которые ее таскал Полли и другие.
Зато она обладает талантом вести дела и продавать. Полли, правда с улыбкой, говорит даже о гениальности; есть нечто мистическое в том, насколько она угадывает, что хотят или захотят завтра люди, особенно женщины.
Февраль 97-го. Лавка расширяется, к ней делается пристройка, нанимают еще четырех продавщиц. В мае – открытие еще одного магазина, на улице Фобур Сент-Оноре. А полтора месяца спустя, когда из Сиднея наконец приходит первая партия кремов, лосьонов и туалетной воды, дело уже прочно стоит на ногах.
Но Ханна не желает больше ограничиваться снадобьями, созданными наугад на примитивном столе, при помощи ступки и трамбовки. Знания, которые она приобрела, дают уверенность в том, что можно производить больше и лучше. Почти что против своей воли, отдавая себе отчет в том, что подхвачена каким-то вихрем, она объезжает предместья Парижа в поисках места, где могла бы разместиться ее первая фабрика. Разумеется, ее сопровождает Полли: он ни за что на свете не пропустил бы этот этап развития наступления, в котором он уже чуть было не разуверился.
– Вы будете получать травы из Австралии?
– Конечно же нет. Австралия – это Австралия, а Европа – это Европа.
Она объясняет, что навела справки среди ученых-ботаников и нашла одного более оборотистого, чем другие. Он согласился работать на нее.
– Некий Бошатель. Он немного распускает руки, но очень хорошо знает травы и любит бродить по полям. Он наладит мне сеть.
Сеть – это от Нормандии до Германии (точнее до Эльзаса, бывшего тогда немецкой территорией).
В Эври она находит подходящее место. Конечно, это далековато от Парижа, но она предпочитает сельскую местность.
– К тому же предприятие, расположенное в городе, испытывает на себе его влияние в самых разных смыслах. Здесь же я на месте найму работниц. Мне нужны солидные девушки, которые знали бы разницу между цветами яблони и вишни.
Что же касается руководящего персонала фабрики и салонов, то это должны быть люди по возможности симпатичные, элегантные, со вкусом – этот набор качеств она нашла у Жана-Франсуа Фурнака; по отношению к клиентам от них требуется смесь любезности и властности, самая малость высокомерия. Где она таких найдет? Да только в сфере высокой моды. На ум Ханне приходят фамилии Ворсов, Дусе (в учениках у которого ходил Поль Пуаре, пока у него не было собственного салона), а также мадам Пакен.
Компания Ворс царит в мировой женской моде (кстати, почти все дамы в Царском Селе и Санкт-Петербурге выставляли напоказ туалеты "от Ворса"), Дусе, пожалуй, мало в чем уступает, а мадам Пакен восхищает Ханну тем, что она – женщина и имеет успех: не она ли первой открыла зарубежный филиал в Лондоне?
Ханна завязывает дружбу с Жаном-Филиппом, сыном основателей Ворса, на котором в основном лежит руководство. Их дружеские отношения (они познакомились через Эдгара Дега) приводят к разработке нескольких проектов сотрудничества, далеко, однако, не зашедших: Жан-Филипп и дом Ворсов, конечно же, в ней не нуждаются, а Ханна, со своей стороны, не имеет ни малейшего желания кооперироваться с кем бы то ни было. Но он был достаточно любезен, чтобы назвать несколько имен, шутливо взяв с Ханны обещание, что она не составит им конкуренции. Среди названных фигурирует имя Жанны Фугарил, работающей у мадам Пакен со дня создания ее дома моделей, то есть с 1891 года.
Жанне тридцать один год, знает английский и испанский и, несомненно, обладает всеми требуемыми качествами: честолюбием, исключительными организаторскими способностями, связями ("и скверным характером, Ханна, я вас предупреждаю". – "Уверяю вас, коса найдет на камень: я совсем не промах на этот счет". – "И я должна уйти от Пакен, чтобы руководить делом, которого пока и не существует, если только вы не окрестили делом эти две лавчонки?"). Они не находят общего языка в течение долгих недель. Жанна не очень-то верит в успех производства предметов красоты. К тому же есть ли за ними будущее, может быть, "место уже занято". "Вы хотели бы составить конкуренцию Герленоу или Рони и Галле?"– "Я буду бороться со всяким, кто встанет у меня на пути".
Наконец соглашение заключается в присутствии Полли, приглашенного в качестве арбитра: в течение трех лет Жанна будет получать в полтора раза больше того, что зарабатывала у Пакен (и больше, чем любой министр), а к истечению срока сможет выбрать между двумя процентами от всех полученных прибылей или выплатой денежного пособия в течение пяти лет.
Они проработают вместе тридцать восемь лет, вплоть до смерти Жанны. Несмотря на частые стычки, весьма бурные, между ними все это время сохранятся самые теплые отношения.
Другой вопрос для урегулирования: вопрос специалистов, которые в каждом институте (а не создано пока ни одного) должны будут давать клиенткам советы по использованию кремов, лосьонов и т. д., которых, в свою очередь, пока также, можно сказать, не существует. "Вы хотите это продавать? Да ни одна уважающая себя женщина не осмелится намазать этим лицо. Мы ведь не в Австралии, мы ведь не аборигены, Ханна, наши дамы не носят в ноздрях колец, если вы это заметили".
– Фугарил, я вас ненавижу… Жанна, я вам уже сто раз объясняла…
Ханна решает создать собственную школу, где будут готовить тех, кого с легкой руки Марселя Пруста со временем станут называть косметологами.
Дело за разработкой продуктов. Ханна, конечно, не может ограничиться своими примитивными препаратами из Сиднея. Поскольку она еще и полька, и к тому же варшавянка, Ханна навещает некую Марию Склодовскую, по мужу – Кюри. Та, смеясь, отказывается от всех посулов, но рекомендует ей некую Джульетту Манн, также химика, которая, мол, будет прекрасно выглядеть в должности директора производства. Они встречаются, договариваются: Джульетта отныне будет руководить "кухней" и вдобавок подготовкой косметологов. Когда шесть лет спустя Мария Кюри с мужем получат Нобелевскую премию за открытие радия, Ханна схватится за голову: "А я ей предлагала готовить для меня косметические кремы. До чего же я была безрассудна!"
Она проанализировала огромное досье, собранное студентами с улицы Училищ. Вывод: все еще лишь предстоит создать: косметики в том смысле, который приобретет впоследствии это слово, пока не существует. Продающиеся в Париже кремы при исследовании показали, что они далеки даже от того уровня, который был достигнут ею. "Ну что ж, тем лучше. Я этим займусь! Следующим шагом станет патентование, изготовление оборудования и лишь после этого – выпуск в продажу".
Ханна старательно изучает груды рекламы, появлявшейся в газетах и журналах, представляемой в форме проспектов. И успокаивается: все это на ужасающе низком уровне, самые бессовестные враки накладываются одна на другую. Особенно вокруг так называемых эликсиров молодости, вечной мечты людей. Джульетта, исследовав некоторые из них, заявила, что в лучшем случае они просто неэффективны, а иногда и опасны для здоровья. Жаль, что никакое законодательство не ограничивает и не регламентирует их продажу.
Тем же студентам она поручает изучить проблему в европейском масштабе: ей нужно знать, где разместить свои институты. Затея, которая не принесет почти ничего: ей просто укажут столицы, более крупные города и курортные зоны. О чем-то подобном она и сама уже думала. Ладно, у нее будет свой метод изучения рынка, метод, использование которого позднее принесет великолепные результаты.
В Париже институт разместится на улице Руаль. Она предпочла бы Вандомскую площадь, но не нашла там ничего подходящего. "Что же еще, Ханна?"
Конечно же, нужен еще кто-нибудь для общего руководства всем комплексом работ, кто-нибудь, кто проследил бы за сбором трав и растений, за приобретением базовых продуктов, необходимых Джульетте, за всем-всем. А главное, это должен быть человек, пользующийся ее полным и безграничным доверием.
Этого "кого-либо" не нужно и искать: Марьян Каден завершил стажировку в Кёльне, изучив французский (правда, он все еще говорит с умопомрачительным акцентом) и банковское дело; он уже учит английский, который дается ему легче.
Знание испанского тоже было бы отнюдь не лишним для тебя. Впрочем, и для меня тоже. Мы возьмемся за него: hablo, hablas, habla, hablamos, hablatis, hablan, – это проще простого, запоминается как песенка. Многие наши клиенты приехали или приедут из Южной Америки, Я жду их с года на год. А денег у них куры не клюют, как у русских принцесс… К счастью, русский мы знаем. А ты, Фугарил, ты его знаешь, а? Видишь, и ты не можешь знать все!
Директора из Марьяна, как ни доверяет ему, она не сделает. Не наградит никаким титулом, не поручит ему ни одной должности. Он был и останется ее тенью (даже после того как создаст себе капитал своими собственными силами), она не хочет связывать его какими бы то ни было рамками, в то же время щедро оплачивая его услуги. Мужчины и женщины, которые проработают на нее по тридцать – сорок лет, увидят Марьяна раза три-четыре, вряд ли они даже будут знать его имя, тогда как он благодаря своей поразительной памяти будет знать их всех, где бы они ни трудились.
Весь 1897 год пройдет под знаком различного рода свершений. Вплоть до открытия салона в Брюсселе, за которым с интервалом в четыре месяца последует Париж. Эти события практически никак не повлияют на ее благосостояние, беспрестанно растущее благодаря процентам с основного капитала и постоянному поступлению наличных из Австралии.
После недолгих колебаний она обзаведется любовником, выбрав его из полутора десятков претендентов. Его зовут Андре Лабади. Он – банкир-поэт из Бордо, молодой уполномоченный "Сосьете Женераль", ему прочат самое завидное будущее, а семейный виноградник обеспечивает очень неплохой уровень жизни. Как и у Жана-Франсуа Фурнака (который приедет в Париж осенью этого года), у него глаза гасконца, сардонические усы, немного певучий акцент, хрупкость ювелира в том, что касается их общих удовольствий. Он хорошо знает Англию и английский (его предки англосаксы времен Черного Принца, а также евреи (удивительно!) по линии матери, происходящей от Мишеля Монтеня); так же хорошо он знает и Америку, где прожил больше года, изъездив, в частности, Дикий Запад в память об одном из своих предков, основателе Сент-Луиса. Он заставит Ханну предаваться мечтаниям, и не только потому что одинаково хорошо читает ей Уолта Уитмена и "Сирано" Ростана (Андре сводит ее на премьеру этой пьесы, она будет восхищена), но также потому что пробудит в ней интерес к другому краю Атлантики, к стране, которая до этого казалась ей такой далекой и почти что призрачной.
Кроме всего прочего, он божественно занимается любовью, в своем выборе она оказалась права со всех точек зрения. Он делает это безо всякого рода вымыслов Хатвилла, но с терпеливой и спокойной мягкостью, с нежностью и очарованием – необходимыми добавками к ярости. Ей так хорошо, что она ломает голову: а как же быть с Тадеушем? Она дойдет до того, что покинет Андре на целый месяц (готовится атака на Лондон, но это не главная причина: она страшится самой себя). Он будет мирно ждать ее возвращения: "Ты, Ханна, не из тех женщин, кто уйдет, не сказав ни слова". Да, она была близка к тому, чтобы по-настоящему влюбиться. Как ни в кого другого, за исключением, разумеется, Тадеуша. Она не отвергнет его до тех пор, пока он сам не уступит силе любви, живущей в нем, и не явится просить ее руки.
Но год они проживут вместе.
* * *
Итак, она открывает дело в Лондоне. В январе 1898 года. Она снимает там особняк некоего герцога с видом на площадь Сент-Джеймс. Здание почти историческое, и работы по его оборудованию дают повод посудачить всему высшему обществу. Она парировала удар, обратившись к одному из многочисленных кузенов Полли. К тому, который руководил ремонтом королевского замка в Виндзоре и переоборудовал комнаты у герцога Кларенса. Будучи гомосексуалистом, он, хоть и носил имя Генри, предпочитал, чтобы его звали Беатрис. Это было очень забавно: два-три раза он приезжал взглянуть на ход работ, вырядившись в женское платье, а его высокий голос сбивал с толку всех, не исключая и самого Полли. Кузен целовал его в губы, заявлял, что он очень хорошенький, а тот таки не узнавал сына своей тетки…
Генри-Беатрис станет одним из самых близких друзей Ханны, их дружба продлится вплоть до самой его смерти в 1915 году (он покончит с собой из-за любви к красивому офицеру, погибшему в Арденнах). А пока он быстро усвоил правило приходить вечером в ее комнату на втором этаже. Они болтали совсем по-женски. "Лиззи, разница между разговором женщин и мужчин сводится к тому, что в последнем случае выкуривается сигара. В остальном же процент глупостей, произносимых и там и здесь, особенно не меняется". О высшем лондонском или британском обществе у него было исчерпывающее мнение: оно самое бестактное, самое скрытное, какое только можно себе представить. Он знает, кто с кем спит, как, почему, когда. Он по-своему восхищает Ханну и весьма способствует ее завоеваниям. Между ними устанавливается тесное сообщничество, даже немного пугающее.
Может быть, как приятный вызов, она вбила себе в голову, что его можно обратить б другую веру, и долгими вечерами, которые они проводят вместе, в течение недель, месяцев пытается соблазнить его. "Только не надо себе говорить, что ты делаешь это, чтобы потренироваться в интересах Тадеуша! Андре вполне хватило бы для этого. Нет, ты безнадежно порочна, вот и все!" Однажды ночью он приходит очень поздно, во втором часу. Она вернулась из Ковент-Гарден, куда затащил ее Полли, с ужина, который последовал за спектаклем. Он заваливается на кровать и болтает о пустяках. Умолкает на несколько секунд, видя, что она полностью разделась, смотрит на нее, немного отстраняется, когда она ложится рядом с ним прямо на одеяло.
– Я всегда сплю голышом, – словно оправдывается она. – Продолжайте же, Беатрис.
И тогда он начинает говорить нормально, то есть своим мужским голосом, который даже не мелодичен. Ханна видит его руку – она легонько вздрагивает, как бы трепещет. И это не потому, что он никогда не видел ее обнаженной, – такое бывало и прежде, она не стеснялась переодеваться при нем.
– …самые прекрасные груди, дорогая, в Европе. Что касается других континентов, то на этот счет у меня нет информации.
Другой же информации у него было в избытке. Он, скажем, всегда знал, кого она встретит за столом или в фойе во время спектакля, заранее давал ей характеристики и мужчин и женщин, называл слабые места тех и других, чтобы она могла воспользоваться этим в своих целях: "Осторожно, леди такая-то и малышка миссис Армстронг ненавидят друг друга. Вы можете рассчитывать лишь на одну из них; сделайте ставку на ту, что помоложе, она приведет с собой десятка два подруг, которые не знают, как пустить по ветру состояние своих мужей…", или: "Не верьте внешности, у этой венгерской графини нет ни пенни…", или: "Вы хотите перетянуть к себе и других американок? Угостите хорошенько Сьюзи Армбрюсгер: сама-то она все равно не потратит в вашем заведении больше трех франков, но зато, если заговорит о вас, то все остальные дамы заокеанской колонии постучат в один и тот же день в вашу дверь…"
(Именно Генри десять месяцев спустя, в январе 1899 года, когда ей понадобится повод, чтобы о ее институте заговорили, посоветует при первой же возможности энергично выставить за дверь толстуху в лиловом: "Ее ненавидят везде понемногу, хоть и боятся. Богата, но скупа. Вы ничего не потеряете. Выставьте ее на улицу, и завтра же у вас появится сотня ее подруг детства: как же, вы осмелились сделать шаг, о котором они мечтали со своего первого бала…")
Он говорит и продолжает смотреть на нее: пальцы его левой руки касаются ее бедра. Вновь умолкает, на этот раз надолго. Немного краснеет.
– Святый Боже! – восклицает он.
И тем не менее не отстраняется. Затем очень тихо говорит:
– Я действительно не мужчина, Ханна…
– Не знаю, Генри, не знаю.
– И хотели бы знать? К концу жизни вы вкусите все-все…
– Будет слишком поздно.
– Что верно, то верно.
Его рука медленно движется вверх, скользит по круглой поверхности бедра, ласкает ее бархатную кожу. Рука продолжает свой путь, доходит до живота, указательный и большой пальцы осторожно заигрывают с пучком волос цвета меди, свивая их в шелковистые жгутики. На помощь приходит другая рука и проникает между бедрами, которые она покорно расслабила. Достигает того места, где кожа такая гладкая.
– Приятно?
– М-м…
– Я впервые так смущен. У меня есть семнадцатилетний любовник, но он не так нежен, как вы.
– Наконец-то я возьму верх.
– Боюсь, вы спешите. – Он склоняется над нею и кончиком языка касается по очереди каждой из грудей. – Какое странное впечатление. Я чувствую себя как в незнакомой стране. Даже запахи другие.
Он целует ее в губы. Покачивая головой, позволяет себя раздеть. И действительно, что бы она ни предпринимала – с его стороны никакой реакции.
– Ханна, я вас предупреждал.
В какой-то момент Генри превращается в Беатрис и, касаясь ее одним лишь языком, как сделала бы женщина, любящая другую женщину, ему удается доставить ей несколько больше удовольствия, чем она ожидала. Затем он растягивается на спине и плачет. Оба знают: больше уже не возобновят этого. Он спрашивает:
– Ханна, вы уже пробовали с женщиной?
– Нет.
– А хотите?
– Нет.
– Злые языки что-то плетут о вас и о женщине-писательнице Коллетт.
Она смеется.
– Мы знаем друг друга. Но не больше. Между нами ничего не было и нет.
– Только с мужчинами, да?
– Я их обожаю! Я очень нормальна.
– А то, что вы это провозглашаете, – ненормально. Какое бесстыдство! Честная женщина не испытывает удовольствия. К тому же мы живем в викторианскую эпоху, дорогая…
После Лондона она отправляется в Будапешт, который откроет для себя весной все того же 1898 года. И почти одновременно, один за другим (Марьян замечательно все подготовил), следуют еще два города: Прага и Берлин.