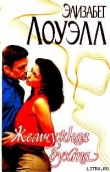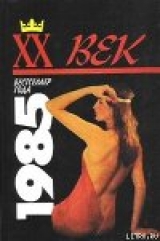
Текст книги "Ханна"
Автор книги: Поль-Лу Сулицер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
Тадеуш опередил всех на два года и нынче поступил в университет. Он будет адвокатом, самым великим адвокатом Варшавы, Польши, Европы…
– Как бы ни так, – говорит Мендель.
Ханна отходит от него, идет по лужайке. Она рассказывает, что первая встреча с Тадеушем была как нельзя более естественной: «Нет, Мендель Визокер, о прошлом никто не заикался, зачем напоминать ему о допущенной слабости?», что за первым свиданием последовали другие. Они виделись восемь или десять раз за лето.
– И где он теперь? – спрашивает Мендель.
В Варшаве. Такой блестящий и тонкий юноша, как Тадеуш, не может оставаться в деревне, в этой заброшенной дыре, где не с кем поговорить.
– Да уж, – замечает Мендель с едкой иронией. – Что делать такому гению среди крестьян? Я удивляюсь, почему он еще не в Праге, Вене или Париже. Все ждут не дождутся его приезда, чтобы он озарил мир.
Мендель догадывается, что его ирония не произведет большого эффекта. Она не производит никакого. Ханна только бросает на него короткий насмешливый взгляд. Это уж слишком! Он опять в бешенстве. Он никак не может понять ту безмерную силу чувства, которую Ханна испытывает к Тадеушу. Как можно после семи лет ожидания находить восхитительным этого маленького польского негодяя, который погубил ее брата и чуть было не погубил ее самое, который, видите ли, готов забыть прошлое, встретиться с нею и говорить о самом себе!
Их всех, кто любил или ненавидел Ханну, Мендель Визокер, без сомнения, был первым, кто угадал ее ум и ее неординарный характер. В его реакции – не только ревность, он знает, что из-за этого мерзавца она испортит себе жизнь.
Ханна рассказывает и рассказывает с многословием тех, кто долго молчал. Она говорит, что Тадеуш, хоть и старше ее на три года и учен, но прочел меньше книг, чем она; во всяком случае, тех книг, что читала она, он не читал. Она ему одолжила «Отверженных», и Тэна, и Ренана, и Барбье, и Банвиля, потому что он очень хорошо читает по-французски, так же как по-русски и по-немецки. Она восхищается, что он знает четыре языка. (Сама же знает шесть!)
Мендель ее прерывает:
– Ты говорила о нем кому-нибудь, кроме меня?
Она качает головой.
– Даже матери?
На тонких губах появляется улыбка. Очевидно, что мысль довериться Шиффре никогда не приходила ей в голову и очень ее забавляет.
Ее серое платье просыхает. Она опять становится девочкой-подростком. Но он помнит нежную девичью грудь, два маленьких бугорка, терпких и круглых, как яблочко, волнующую линию бедер. Такое превращение не удивляет Менделя. Во время своих путешествий он видел замужних женщин едва ли старше Ханны. А если…
Он собирается наконец с силами, чтобы задать мучивший его вопрос:
– Он до тебя… дотрагивался? Молчание.
– Нет, – говорит она, – Чуть-чуть.
Он не сводит с нее взгляда и видит, как в ее глазах зажигается гнев, сменяемый иронией. Она опускает голову. За свое многолетнее знакомство с нею в этот единственный раз Мендель увидел ее смущенной.
– Он меня поцеловал, – отвечает она и уточняет – Сюда, – касаясь указательным пальцем губ. – Больше ничего.
Пауза. Мендель отворачивается, и у него вновь возникает желание что-нибудь сломать.
– Ты не захотела или он не решился?
– И то, и другое.
Она смеется, чертова девка! Он слышит за спиной ее смех.
– Он еще не очень опытен, – усмехается она.
«А я опытен?»– думает Мендель. Он подходит к ручью, садится, снимает сапоги и опускает ноги в воду. К нему возвращается хорошее настроение. Он с удовольствием смотрит на желтеющие листья ивы: скоро зима, которую он так любит. Он проведет ее в Данциге у двух литовок, пышных блондинок, от которых он начинает уставать. (Может быть, сменить их на зеленоглазую немку?) И в этот момент Ханна переходит в атаку.
– Откуда вы едете?
– Из Киева.
– И куда?
– В Данциг.
– Через Варшаву?
Он застывает, поняв все. Вытаскивает ноги из воды.
– Ни в коем случае. Нет, нет и нет.
– Вы даже не знаете, о чем я собираюсь вас просить.
Он чувствует, что она подошла к нему совсем близко.
– Одно из двух: или ты хочешь, чтобы я навестил твоего Тадеуша и передал записку от тебя, или чтобы я увез тебя к нему.
Никакого ответа. Она почти касается его. Вдруг произносит:
– Я бы хотела, чтобы вы занялись со мной любовью, Мендель Визокер.
Ему понадобилось немало времени, чтобы найти в себе мужество повернуться.
– Ты хочешь, чтобы я занялся чем?
– Вы прекрасно слышали.
– Я ничего не слышал. Я не хочу ничего слышать, ты сумасшедшая.
Она наклоняется и неловко пытается его поцеловать. Он вскакивает и отлетает на другой конец лужайки.
– Нечего и говорить! Я произвожу впечатление на мужчин.
– Ханна, хватит! Не подходи!
– Ладно.
Она садится и заботливо оправляет складки на платье. С безразличным видом, как будто речь идет о выборе пирожного, говорит:
– Не собираюсь рассказывать вам сказки, будто я вас люблю. Вы бы не поверили. Я не спешу также расстаться со своей девственностью. Это – совсем не то.
– Оставайся там, где ты есть. – Мендель, кажется, тоже говорит сам с собой.
– Я вовсе не испорченная. Но я все обдумала: рано или поздно я буду спать… ну, спать… с Тадеушем. Он ничего не умеет, я – тоже. А надо, чтобы кто-нибудь из нас умел.
– Клянусь дьяволом! – говорит Мендель.
– А поскольку у вас есть опыт…
Молчание. Она наклоняет голову.
– Вам очень хочется меня поколотить?
– Вот именно.
– Итак, нет?
– Ханна!
– Что?
– Не спрашивай меня, пожалуйста, хочется мне или нет.
Он растерянно смотрит на нее и спрашивает себя, почему он был таким глупцом и не видел до этой минуты, как она хороша. Она вся светится и улыбается ему, как никогда не улыбалась: улыбаются ее губы, глаза.
– Итак, вам хочется. Счастлива это узнать.
– Иди к черту.
– Хорошо. Не будем больше об этом говорить. Поговорим о ваших «одно из двух». Это так и не так. Правда, что я хочу поехать в Варшаву, потому что там Тадеуш, но это – не единственная причина.
Теперь она опускает ноги в воду. Мендель видит ее профиль как будто впервые. Не то чтобы она была красива (она хороша только тогда, когда волшебно преображается в улыбке): она никогда не будет красавицей в общепринятом значении этого слова. Речь о другом: о завораживающем впечатлении, которое производят ее бледная треугольная мордашка с высокими скулами и серые глаза на ней; о внутренней энергии, которую выражает ее лицо, особенно когда она сидит в этой позе, несколько выдвинув волевой подбородок вперед и упираясь им в колени.
– Не единственная причина, и даже не главная, – продолжает она. – Я хочу покинуть местечко, Мендель. Я хочу уехать.
Нет, она не просит Менделя отвезти в Варшаву записку и не требует, чтобы он взял ее с собой. Это не сейчас, будущей весной. Если он захочет. В следующий его приезд. Ему решать: он может никогда не приезжать сюда, если решит не принимать больше участия в ее судьбе. А пока в ожидании весны, что бы он ни решил, она подготовит свой отъезд; у нее уже есть план, как убедить мать, отчима и даже раввина, который обязательно вставит слово со своей манией во все вмешиваться, хотя он, пожалуй, славный человек. Она все предусмотрела. Она поворачивает голову и пронзает взглядом Кучера.
– Абсолютно все. Вы сомневаетесь, Мендель Визокер?
– Черт возьми, нет, – отвечает Мендель.
Он искренен. Глубоко взволнован, но искренен. Он ни на секунду не сомневается, что она продумала свой отъезд до мелочей. Он лучше, чем кто-либо другой, понимает необходимость отъезда: Ханна хочет сделать то, что сделал он, – вырваться на волю.
Уже осенью Мендель Визокер знал, что приедет за нею следующей весной, когда ей исполнится пятнадцать лет. Он не сомневался, что она будет готова к отъезду. Но у него не было ни малейшего представления, как она все это устроит.
Два рубля в Варшаве– Мне пятнадцать лет, – говорит Ханна раввину. – И я женского пола, если вы еще не заметили.
Раввин закрывает глаза, теребит бороду, вздыхает – одним словом, всем видом выражает свое огорчение. Он славный человек, этот раввин. Может быть, не самый эрудированный раввин в Польше, хотя и провел пятнадцать лет в одной из иешив Литвы, которые в годы его молодости входили в число самых серьезных учебных заведений. Но теперь ему семьдесят, молодость давно прошла, от прошлого остались только любовь к диалектике, желание порассуждать, но с того дня, как он вступил в должность раввина в этом заброшенном местечке на юго-востоке от Люблина (ему было тогда тридцать лет), ему представлялось слишком мало случаев реализовать это желание. Конечно, он знает Ханну. Он видел, как она родилась.
– Если бы твой отец – мир праху его! – был жив…
– Но его нет.
Я бы хотел, чтобы ты дала мне договорить. Я раввин, а не ты.
– Я бы очень удивилась, если бы вдруг стала раввином.
– По многим причинам, – отвечает она сладким голосом.
Молчание. Новый вздох раввина. Раввин не очень хорошо помнит, как все началось. Точнее, он помнит обстоятельства, но не может восстановить в памяти причины, по которым у него установились подобные отношения с ребенком. Отношения не были сомнительными, этого еще не хватало… Но все же девочка! Это случилось пять лет назад. Однажды вечером он обнаружил, что Ханна не ходит в школу, и пошел поговорить с Шиффрой, которая тогда еще не вышла замуж за Боруха Корзера, портного. Пошел без особой надежды: как и все в местечке, он знал, что дочь покойного ребе Натана делает что хочет с того момента, как научилась говорить. Разговор с Шиффрой не дал результата. Хорошая супруга и мать, Шиффра страдает от своего покорного характера, в силу которого она открывает рот только для того, чтобы сказать «да». Раввин несколько раз лично пытался поговорить с девочкой, которой тогда шел десятый год: понимает ли она, что если не будет ходить в школу, то останется невеждой? Смех: она умеет читать и писать на идиш, иврите, арамейском (на арамейском – не очень хорошо) и на польском, неплохо на немецком диалекте. Тогда раввин достал свою Тору… С этого начались их сеансы пильпуля (дискуссий). (Как он мог это допустить, остается для раввина белым пятном в его воспоминаниях.) Первые три года он побеждал играючи, когда же Ханне исполнилось тринадцать, результаты их еженедельных стычек сравнялись. Не зная наизусть Писания, Ханна проявляла удивительную сообразительность. «Если бы она была мальчиком!» – часто думал раввин.
На этой стадии размышлений он теряет вить, так и не выяснив причины. Он спрашивает:
– А где твой брат Симон?
«Приехали», – думает Ханна и отвечает:
– Он в Варшаве. Ему восемнадцать лет, у него все хорошо и учёба – тоже. Он не поглупел, но и не поумнел. Он прислал письмо к Пасхе. Пасху праздновали две недели назад.
Раввин опять теребит бороду. Он растерян.
– Начнем сначала, – предлагает он.
– Хорошая мысль, – вторит Ханна.
– Замолчи.
– Молчу.
– Ты приходишь ко мне и заявляешь, что твой отчим Борух Корзер, которому семьдесят пять лет…
– И который, однако, сумел сделать двоих детей моей матери…
– …что твой отчим Борух Корзер, которому семьдесят пять лет, смотрит на тебя с вожделением.
– Слабо сказано, – говорит Ханна. – Если бы он только смотрел, куда ни шло.
– …смотрит на тебя с вожделением и даже пытается прикоснуться к тебе в отсутствие твоей матери.
Раввин останавливается в ожидании нового замечания, но на этот раз – о чудо! – она молчит.
– Ханна, я думаю, ты понимаешь, что вся эта история – чистейшей воды басня, – устало говорит он. – По всей логике я должен был бы пойти к твоим родителям и все имрассказать. Я не сомневаюсь, что мой рассказ их потрясет. Бедняга Борух Корзер, которого я никак не могу вообразить в роли сатира, никогда не оправится от подобного потрясения: он умрет от возмущения и стыда. Я буду молчать. Меня сердит больше всего, что ты всегда знаешь, как я поступлю, и ты предвидела мое молчание.
Какое-то мгновение она выдерживает его взгляд, но потом опускает глаза.
– Ты очень умна, Ханна. Даже слишком. Между тобой и Визокером…
– Нет, – поспешно возражает она. – Ровным счетом ничего.
– Ты хочешь уехать в Варшаву?
– Я хочу уехать куда угодно, лишь бы подальше отсюда.
Он рассматривает ее, убежденный, что теперь она говорит правду. Он предвидит, что она сделает, если он замнет эту историю с попытками насилия, притворится, что ничего не слышал. Она постарается сделать эту ложь достоянием всего местечка. В любом случае она добьется своей цели и уедет. Раввин не слишком сердится на нее за циничный шантаж. У него было время оценить силу ее характера. Он сознает лучше, чем она сама, глубже, чем Мендель Визокер или кто-нибудь другой, что по своей природе Ханна способна на самый холодный расчет, если хочет добиться цели. Но раввин надеется, что есть другая Ханна, способная на самые глубокие чувства, на огромную привязанность. И эту Ханну он любит с нежностью, удивляющей его самого.
– И что ты будешь делать в Варшаве?
– Еще не знаю.
Молчание. «Если с нею что-нибудь случится, – думает раввин, – всю свою жизнь я буду помнить, что она уехала не без моей помощи. Хотя… она так или иначе уедет».
– Когда ты хочешь ехать?
– Сегодня. Я готова.
– Ты даже не оставляешь мне времени поговорить с твоей матерью и добиться ее согласия.
– Моя мать может прекрасно жить без меня, – говорит Ханна. – Я ей не нужна и никогда не была нужна. Ей станет легче без меня.
– Я не очень хорошо знаю Варшаву, – говорит раввин Менделю Визокеру. – За сорок лет она, вероятно, изменилась. Но думаю, что это – на улице Гойна.
– Мы найдем.
Он берет у раввина письмо-рекомендацию к его сестре. Мужчины обмениваются взглядами.
– Я знаю, – тихо говорит Мендель. – Я буду беречь ее, как берег бы собственную сестру, будь у меня сестра.
Он не может удержаться, чтобы не произнести последние слова с некоторой иронией, и сам себя ругает за это: раввин очень беспокоится за Пигалицу. «На его месте я больше беспокоился бы за варшавских родственников. Они не подозревают, что может свалиться на их голову».
Он в последний раз смотрит на собравшихся. Шиффра плачет. Мендель влезает в бричку, где уже сидит Ханна – выпрямившись, положив руки на колени, глядя прямо перед собой. Он тщетно пытается сказать что-нибудь подобающее случаю, но ничего не находит, кроме откровенно банального:
– Поехали.
Бричка пересекает базарную площадь и выезжает на Люблинскую дорогу…
После продолжительной остановки в Люблине, где Визокер загружается партией вышитых платков ручной работы, на одиннадцатый день пути они – в Варшаве.
Ханна впервые видит пароходы.
– Висла, – объясняет Визокер. – А мы на Пражском мосту.
– Я знаю.
Она провожает глазами большой белый пароход, на борту которого по крайней мере около сотни пассажиров, есть даже музыканты. Мендель смеется.
– Я забыл: ты все знаешь.
– Нет, не все, но два года назад вы мне привезли атлас.
Она напрасно старается казаться спокойной: вся подалась вперед, стиснув руки и прикусив нижнюю губу. Люблин произвел на нее большое впечатление, но Варшава!.. Бричка движется среди кавалькады дрожек, экипажей, запряженных одной лошадью, и кажется в сравнении с ними совсем деревенской. Огромное количество народу. Можно подумать, что все двести тысяч жителей высыпали на улицу, и среди этого человеческого моря Ханна видит элегантных женщин в огромных шляпах, платьях разных цветов, с пестрыми и легкими, как крылья бабочек, зонтиками. Их походка уверенна, они держатся как королевы. Спутники обращаются с ними с такой осторожной почтительностью, будто те чрезвычайно хрупкие и нежные создания. Ханна делает первое заключение: в мире существуют женщины, превосходство которых признается уже только потому, что они – женщины. Она открыла для себя новый мир, частью которого, вне всякого сомнения, должна стать. Потому что Тадеуш близок этому миру.
Какое же разочарование ждет Ханну, когда бричка поворачивает и Мендель говорит:
– Приехали.
Бричка въезжает в еврейский квартал – настоящее гетто. Конечно, это не их местечко: здесь, как и везде в Варшаве, мощеные улицы, тротуары, высокие дома, фонари, множество лавочек, магазинов, та же шумная толпа, то же движение. Но… Отличие от местечка чисто внешнее: лица и мысли те же. Это очевидно. «Если я буду здесь жить, в моей жизни ничего не изменится». Она произносит вслух:
– Я не останусь здесь, Мендель Визокер.
Он смотрит на нее с любопытством, полагая, что она говорит о Варшаве, поворачивает лошадей направо, проезжает еще чуть-чуть и останавливается.
– Мы на месте.
Он указывает на лавочку, выцветшая, едва читаемая вывеска которой утверждает, что здесь продают молоко, сыр и яйца. Он смотрит на Ханну.
– Где ты не собираешься оставаться?
– В этом квартале. Тем более у этих людей.
– Но в Варшаве останешься?
– В Варшаве – может быть.
Какой-то прохожий узнает Менделя и окликает его. Между ними завязывается разговор. Ханна, изучив лавочку и придя к выводу, что она очень мрачная, обращает свое внимание на незнакомца. Ее заинтриговала неприязнь, с которой Мендель ему отвечает. Парню около тридцати лет, на нем соломенного цвета брюки, синий пиджак и красная рубашка. У него большие красивые черные глаза, которые разглядывают Ханну со спокойным бесстыдством. Он спрашивает у Менделя, кто она.
– Моя племянница в некотором смысле, – объясняет Мендель.
– Я не знаю, его ли я племянница, – говорит Ханна, – но он точно не мой дядя. – Она смело выдерживает дерзкий взгляд темных глаз. – А вы кто?
– Пельт Мазур. – Глаза смеются. – Визокер, у твоей «племянницы» всегда так хорошо подвешен язык?
Его взгляд скользит по всему телу Ханны; он даже несколько наклоняется вперед, чтобы получше рассмотреть и оценить увиденное.
– Ханна, – словно печатая каждое слово, говорит Визокер, – подонка, которого ты видишь перед собой, зовут Пельт Волк. Берегись его.
– Сколько ей?
– Тридцать пять, – отвечает Ханна, прежде чем Мендель успевает открыть рот.
Пельт Волк разражается смехом, но в ту же секунду его ноги отрываются от земли и повисают в воздухе в сорока сантиметрах от тротуара: Мендель просто протянул руку, взял его за шиворот своей огромной лапой и приподнял над землей.
– Слушай меня, Пельт, – очень тихо говорит Мендель, – слушай меня хорошенько: если ты прикоснешься к малышке, если ты только заговоришь с ней, я тебе переломаю руки и ноги. Ты хорошо меня понял, Пельт?
– Полагаю, да, – отвечает Пельт задыхаясь.
Начинают собираться зеваки. Мендель улыбается.
– Ты думаешь, Пельт, я шучу? Я способен переломать руки и ноги? Как по-твоему?
Мазур бормочет что-то нечленораздельное.
– Яснее, – говорит Мендель, продолжая улыбаться.
– Ты на это вполне способен.
– Прекрасно, – говорит Мендель, разжимает пальцы и выпускает свою жертву. – А теперь убирайся, Пельт.
Он провожает взглядом удаляющегося человека в желтых брюках и снова улыбается холодно, как сама смерть, когда тот, прежде чем исчезнуть, поворачивается и делает какой-то неприличный жест. (Ханна думает, что это был неприличный жест, хотя ни о чем подобном в книгах не читала.)
– Теперь о тебе, – продолжает Мендель. – Что это еще за история, ты не хочешь остаться у сестры раввина?
– Я здесь не останусь, вот и все.
Толпа расходится, и на лицах людей Ханна читает разочарование: драка не состоялась. Мендель вздыхает. Он и Ханна все еще сидят в бричке.
– Слушай меня внимательно, Ханна, – говорит он теми же словами и тем же опасно спокойным тоном, каким угрожал Пельту Мазуру. – Я привез тебя в Варшаву, как ты хотела. Потому что лучше, чтобы это сделал я, чем кто-либо другой; потому что твоя мать и раввин дали согласие. Ради этого я потратил много времени, а у меня – дела. Итак, одно из двух: или…
– Я уехала из местечка не для того чтобы жить в другом, чуть побольше первого и с фонарями.
– Одно из двух: или ты сейчас же остаешься у сестры раввина, если она еще захочет тебя принять, и я тебя нахожу здесь в следующий свой приезд, или я связываю тебя по рукам и ногам и отвожу назад в твою деревню. Я за тебя отвечаю.
– Никто ни за кого не отвечает. Особенно за меня.
– У меня как раз есть пустой мешок. Какое счастливое совпадение, – спокойно говорит Мендель.
Ханна пристально рассматривает его. Ей жутко понравилась сцена с Пельтом Волком – какое замечательное прозвище! Конечно, не нужно было бы ему противоречить, когда он выдал ее за свою племянницу, но, с другой стороны, если бы она этого не сделала, он не схватил бы нахала за шиворот и не поднял бы в воздух.
– Я думаю, что останусь у сестры раввина, если она меня примет.
– Она тебя не знает и не подозревает, на что ты способна. Тебе повезло.
– Молчание. Они улыбаются друг другу, как два заговорщика.
– У тебя есть деньги?
– Да, два рубля.
– Ты с ними далеко пойдешь.
– Надо же начинать! У одной задачи есть всегда несколько решений! Нет!
– Что «нет»?
– Я не возьму ваших денег.
Опять молчание. Он откашливается, прочищая горло, как оратор, который собирается начать речь.
– Ханна, запомни, что я тебе сказал. Во-первых, ты должна остаться там, где я тебя оставлю. Обещаешь?
– Да.
– Во-вторых, о Пельте Мазуре и обо всех мазурах Варшавы… Я видел, как ты на него смотрела. Так на мужчин не смотрят. И кроме того, Мазур… – Он не договаривает, потому что она вот-вот рассмеется, и еще потому, что подыскивает нужное слово. Она милостиво приходит ему на помощь:
– Я прекрасно знаю, кто такой Пельт Мазур.
– Ты ничего не знаешь.
– Это – сутенер, сводник, – спокойно заявляет она. – Если я позволю, Мазур Волк меня соблазнит, раз. Переспит со мной, два. Затем научит меня, как доставлять удовольствие мужчинам, чего я совсем не умею, три. Затем определит меня в бордель, а сам станет получать деньги, которые будут платить другие мужчины за то, чтобы со мной переспать. Думаю, что я все хорошо поняла. Вы это хотели сказать?
– Черт возьми! – угрюмо бормочет Мендель.
Она опять счастливо улыбается. Готова спрыгнуть с сиденья, но вспоминает, что она в Варшаве и собирается стать знатной дамой. А дамы не выпрыгивают из бричек. Она протягивает руку Менделю.
– Не хотите ли вы помочь мне сойти?
Он опускает ее на тротуар.
– Ни один мужчина не соблазнит меня, если я не захочу, Мендель Визокер. Ни один мужчина не будет спать со мной, если я не позволю.
Он берет ее короб, в котором одно платье на смену, одна блузка, кое-что из белья. Она проверяет, не потеряла ли два рубля – все свое состояние, и они входят в лавку.
Сестра раввина похожа на стог сена – рыхлый, развалившийся, почерневший. На голове у нее выцветший грязный чепец, из-под которого выбиваются каштановые пряди волос, что непозволительно замужней еврейке: она, согласно обычаю, должна прятать свои волосы. На морщинистом, цвета старой меди лице выделяется большой, похожий на картошку нос. Шеи у нее нет. Тело является как бы продолжением головы и постепенно расширяется книзу благодаря множеству юбок одного коричнево-шоколадного цвета. Настоящий стог сена, который медленно передвигается на слоновьих ногах, распухших от полувекового стояния за прилавком по пятнадцать часов в день.
Ее зовут Добба Клоц.
У нее есть муж, Пинхос Клоц. Он совсем маленький, щуплый. Если бы сбрить пейсы и бороду, снять с головы черный котелок, его стало бы наполовину меньше. Его единственная обязанность состоит в том, чтобы встать в два часа ночи и отправиться на окраину Варшавы за свежим молоком, яйцами, сметаной и сыром. Он возвращается на улицу Гойна в половине шестого утра, чтобы открыть лавку и убедиться, что все в порядке. Доставив продукты, он имеет право пойти в синагогу. На исходе дня появляется опять, чтобы заняться счетами, и не выходит из подвала до следующего дня. Это – тень мужчины, намек на мужа.
Супругам по шестьдесят лет, и у них никогда не было детей. Вот уже тридцать лет, как они не разговаривают, объединенные постепенно растущей молчаливой ненавистью, к какой обычно приводит «идеальный» брак.
Добба Клоц читает письмо своего брата-раввина. Перечитывает. Она действительно огромна, ростом с Менделя; глазки ее, маленькие, острые, спрятаны под тяжелыми морщинистыми, как и все лицо, веками. Ханна сравнивает Доббу со стогом сена; Мендель – с носорогом, тропическим животным, изображение которого он видел в журнале о путешествиях. Под влиянием момента он уже близок к тому чтобы позвать Ханну, покинуть с нею этот дом и предоставить ее заботам одной из тех многочисленных женщин, у которых он всегда находит убежище и теплый прием. То, что происходит потом, застает его врасплох.
– И я должна буду заниматься этим? – спрашивает Добба Клоц. (Она почти не взглянула на девушку.)
– Это кем «этим»? – вспыхивает Ханна.
Добба поворачивает голову и смотрит на нее сверху вниз. «Она раздавит ее, как клопа», – думает встревоженный Мендель и делает шаг вперед.
– Я не «это», – продолжает Ханна. – Я – девушка. А вы… вы – толстая слониха!
Молчание.
– Слониха, гм? – повторяет Добба, почесывая указательным пальцем свой массивный нос.
– Слониха. Кстати: для слонов это – не комплимент. – Ханна сопровождает последнюю фразу коротким смешком.
Мендель делает второй шаг.
– А теперь одно из двух, как говорит некий мой знакомый: либо вы меня оставляете, либо говорите «нет» – и мы уходим. Мендель и я. В Варшаве места хватит.
Выражение глаз-буравчиков становится все более любопытным. Добба спрашивает у Менделя:
– Эта пигалица всегда такая или только сегодня?
– По правде говоря… – начинает Мендель.
– Пигалица? – наливается гневом Ханна.
– Ханна, пожалуйста… – пытается вмешаться Мендель.
Но ни Ханна, ни Добба Клоц не слушают его; они стоят лицом к лицу – одна выше другой на полметра и тяжелее фунтов на сто.
– Ты умеешь читать? – спрашивает Добба.
– Лучше вас.
– И считать?
– Как банкир. И на следующий вопрос отвечаю – «да».
– Я тебе еще не задала следующего вопроса.
– Вы хотите спросить, смогла ли бы я содержать в порядке ваш магазин, грязный, как свинарник. Ответ – да. Могу, потому что вы же это делаете. Это нетрудно.
– Ты так думаешь?
– М-м-м, – мычит Ханна.
– Допустим, я говорю, допустим, я тебя беру…
– Допустим, я хочу остаться у вас.
– Я тебе предоставляю пищу и место для сна.
– С окном и ночным освещением.
– Может, еще шелковые простыни? – издевается Добба. – Ты умеешь готовить?
– Чего нет, того нет, – признается Ханна. – И в шитье я – полный профан.
– Еда и постель – все. Ни рубля, ни копейки.
– Ничего, – спокойно отвечает Ханна. – Я возьму из кассы.
Мендель закрывает глаза, уже представляя, как он будет бегать по всей Варшаве и стучаться во все двери с напрасной надеждой пристроить эту пигалицу со слишком свободно подвешенным языком. Он ждет, когда взорвется Добба. Она взрывается, но не так, как он ожидал: первая дрожь пробегает по поверхности этой темной груды жира, блузок и юбок, потом трясется лицо, изрытое геологическими складками, затем из глубин поднимается глухое урчание, словно готовый прорваться вулкан…
Наконец раздается смех, сотрясающий все тело Доббы Клоц. К этому смеху Ханна присоединяет свой. Обе хохочут на глазах у остолбеневшего Менделя.
Мгновение спустя Ханна говорит:
– Все улажено, Мендель Визокер. Я останусь здесь на некоторое время.
Ханна видит себя в комнате, куда ее поместила Добба, на пятом, последнем, этаже дома на улице Гойна – на первом этаже находится магазин. Ханна в восторге от того, что ее комната так высоко, хотя поначалу эта высота ее немного пугала.
Здесь, в этой неотапливаемой комнате шириной в два и длиной в три метра, в течение трех тяжелых варшавских зим ей предстояло завершить формирование своей личности, увидеть конец своей юности, пережить первую драму с Тадеушем Ненским и дело Пельта Мазура.
Как она и требовала, в комнате есть окно, точнее – слуховое окошко. В погожие дни солнце заглядывает туда по утрам. Если влезть на стул, открывается вид на крыши Варшавы, на Вислу, на Пражский лес, а главное – на дворцы, костелы и все памятники города, в котором где-то есть, должен обязательно быть Тадеуш.