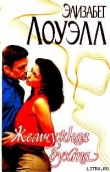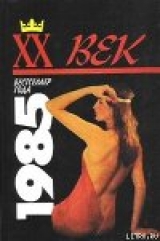
Текст книги "Ханна"
Автор книги: Поль-Лу Сулицер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
То, что придется украсть лошадь, несколько огорчает ее. Но это не будет кражей в прямом смысле. В Яссе, где Ханна сядет на сиднейский поезд, она оставит лошадь заслуживающему доверие человеку, который вернет ее Хатвиллам. Другого способа нет. Если она не уедет сегодня, завтра ей на шею сядет неумолимая Элоиза. "Нет, все складывается слишком хорошо, Ханна: Лотар берет на себя труд предупредить, что два-три дня будет отсутствовать, что его жена потребует тебя не раньше чем через сутки. Он даже нарисовал тебе карту местности. Это слишком прекрасно, чтобы быть правдой…"
Она в последний раз пересчитывает свои деньги, быстро умывается и переодевается: натягивает платье голубого королевского цвета из толстой ткани, которое купила намеренно: в него вколота английская булавка, чтобы удерживать юбку между ног, когда надо будет по-мужски сидеть на лошади.
Да, чуть было не забыла бритву. Достает ее из-под подушки (она была именно там, как и подозревал Лотар Хатвилл). С вышитой сумкой в руке (в ней постоянные полтора десятка книг – "Ярмарка тщеславия" Теккерея, несколько томов Диккенса и на французском ее дорогой де Лакло) отваживается выйти в коридор.
Пусто. На лестнице то же самое. В доме повисла тяжелая тишина. Добравшись до первого этажа, она открывает дверь и попадает в очень красивый кабинет, конечно, кабинет Лотара Хатвилла. На столе, на видном месте, лежат две книги в кожаных переплетах, явно читаемые и перечитываемые: "Веселая наука" и "Так говорил Заратустра" Ницше. "Можно подумать, что он тебе предлагает их унести, Ханна…" Но она довольствуется листом бумаги, который лежит тоже на виду, рядом с пером и чернильницей. Пишет по-немецки: "Я оставлю лошадь в Яссе. Полученный аванс и стоимость дороги до Гундагая выплачу как только смогу". Она колеблется, для нее большой соблазн прибавить что-нибудь еще, что было бы ответом на последние слова Хатвилла: "Мы увидимся". Чтобы закончить, она импровизирует подпись: двойное "Н" из четырех вертикальных линий, слегка наклоненных вправо и перечеркнутых единственной выходящей горизонтальной линией – подпись, которая получается у нее в этот день случайно и которая станет знаменитой.
Возвращается в холл, по-прежнему тихий и пустынный. Она осматривается и, пройдя десяток метров, вынуждена спрятаться за драпировкой: кто-то проходит мимо. Она вновь идет, еле волоча сумку – Мендель сказал бы "эту проклятую сумку", – которая кажется непомерно тяжелой.
Больше она не встречает никого во всем огромном доме. Наконец добирается до конюшни. Конюха нет. Зато восемь или десять лошадей выстроились в ряд перед кормушками. Вспоминается голос Менделя: "На лошадь садятся всегда слева, дурочка. И с нею говорят, Ханна, ей говорят, что ее любят и рассчитывают на нее". Она выбирает кобылу с блестящими и нежными глазами. На то, чтобы ее оседлать, уходит не более трех минут. "В конце концов я буду ругаться, как Мендель. А если еще окажется, что высунув отсюда нос я увижу Хатвилла и его людей, рыдающих от смеха…" (Ей не удается избавиться от впечатления, что ее отъезд или, более точно, побег задуман ее хозяином.)
Наконец, подняв кое-как подпругу, закрепив свою сумку позади седла, Ханна садится передохнуть. Она в поту и совсем без сил – долго держала тяжелое седло на вытянутой руке.
– Послушай… – говорит она кобыле. – Ты могла бы все-таки стать на колени, как, помнится, делают верблюды? Я рассчитываю на тебя, я тебя бесконечно люблю, я хочу думать, что как женщина ты проявишь немного солидарности.
Она берет кобылу за повод и отмечает, очарованная, что та идет за нею. Через минуту она на улице, под палящим солнцем, почти уверенная в том, что ее не заметили. Минуя аллею, входит в заросли акаций. Только через четверть часа – благо встретилось поваленное дерево – она влезает на кобылу и садится в седло.
Она едет по северной дороге, в высшей степени гордая собой…
И только сейчас обнаруживает, что Мика Гунн следует за нею. Он останавливается, когда останавливается она, и трогается тоже одновременно с нею. Ошибиться невозможно: это его рыжие волосы и долговязая фигура огородного пугала. Нет также никакого сомнения относительно его намерений. Одно из двух, как сказал бы Мендель Визокер: или он исполняет приказ, данный хозяином, или действует в собственных интересах и повалит ее на землю в первой попавшейся австралийской роще.
Несмотря на то, что Ханна верит больше в первую гипотезу, чем во вторую, она достает из сумки бритву с перламутровой ручкой, чтобы спрятать ее на груди.
Проходит два часа. И еще два. Ничего не меняется в этой странной слежке. Мика Гунн продолжает ехать вслед за ней, сохраняя расстояние в триста шагов. Это докучливое немое преследование начинает действовать ей на нервы, прочность которых ни у кого не вызывала сомнений.
Она уже чувствует усталость, чтобы не сказать страдания, от непривычно долгой езды в седле. К вчерашней ломоте примешиваются боли внизу живота. "О, черт возьми, почему я родилась женщиной? Неужели это не могло подождать?" Она вся горит и с каждой минутой слабеет все больше, к тому же ей повсюду мерещится Мика Гунн.
Около шести часов вечера (судя по заходящему солнцу) она видит впереди арки металлического моста, описанного Лотаром Хатвиллом: она – в Яссе. Соскользнуть с седла – огромное облегчение, но очень скоро она возвращается к реальности: одна мысль о том, что надо куда-то идти, приводит ее в ужас. "Я выгляжу нелепо!" Пошатываясь, входит в холл гостиницы; кругом страшный шум. Ощущение того, что она здесь единственная женщина, усиливает чувство полного одиночества. Приемное окошко слишком высоко для нее.
– Вы больны? – осведомляется дежурный администратор.
– Не более вас, кретин, – отвечает она, вынужденная орать, чтобы ее могли услышать. – Я хотела бы комнату, если можно, отдельную, и расписание поездов на Сидней.
Дежурный предоставляет ей и то и другое, интересуется, хочет ли она ужинать. Она отвечает "нет", даже не подумав. Заведение заполнено подвыпившими мужчинами; некоторые собрались возле расстроенного пианино. Они вновь и вновь повторяют одну и ту же песню, слов которой она не может разобрать. Все ее помыслы о том, чтобы лечь. Пластом!
Отведенная ей комната – как раз над большим залом. Наступают сумерки. Она уже несколько часов лежит, уставившись в потолок широко открытыми глазами, терзаемая голодом и приступами тошноты, пылающая в лихорадке, не зная, что ей причиняет большую боль: ломота в спине или боли в животе. Она замечает, что разговаривает сама с собой: "Ты хотела поехать в Австралию? Вот ты и приехала. Эта страна – не для женщин. И ты собираешься здесь разбогатеть? Не смеши! Посмотри на себя!" Она с трудом подходит к настенному зеркалу и не без иронии созерцает в нем растрепанную, бледную девчонку с осунувшимся лицом и кругами под глазами: "Тебя даже кенгуру испугается".
В двух метрах под нею, под тонким деревянным полом, не смолкают пьяные голоса. Мика Гунн сидит неподалеку от гостиницы в ожидании, когда она выйдет.
Она выпила немного теплого чаю, и ее тут же вырвало, с каждым часом мучения ее усиливались. Страшно болят все мышцы, любой шаг стоит героических усилий. Однако надо идти. Мика Гунн смотрит, как она направляется в его сторону. Спокойно и невозмутимо набивает он свою короткую трубку табаком из кожаного кисета. Его тонкие костлявые пальцы вызывают отвращение, желто-красные выпуклые глаза кажутся нездоровыми и резко контрастируют с ярко-рыжими волосами.
– Вы собираетесь долго за мной следить?
– Иеп.
Он раскуривает трубку, и ужасный запах табака вызывает у Ханны очередной приступ рвоты.
До каких пор вы будете преследовать меня? Он трясет головой, не выпуская изо рта мундштук. "Я бы с радостью убила его", – думает Ханна.
– Вы помешаете мне сесть в поезд?
– Ноуп.
– У вас есть указания на мой счет?
– Иеп.
– Это связано с лошадью?
– Ноуп.
– Указания от кого?
В ответ он выпускает клуб зловонного дыма. Умеет ли он говорить что-нибудь, кроме "иеп" и "ноуп", что должно, вероятно, означать "да" и "нет"? Ханна сладострастно обдумывает мысль об убийстве; будь она мужчиной, она расквасила бы ему нос ударом кулака и заставила бы его съесть эту проклятую трубку. "О Мендель, почему вы меня покинули?"
– Мне надо вам кое-что объяснить. Вы самый вонючий и мерзкий подонок в Австралии. И если я ограничиваюсь этим, то только потому, что не знаю, как сказать t по-английски пердун, ублюдок, старая ж… Я ясно выражаюсь?
– Иеп, – произносит в восторге Мика Гунн.
Непостижимо, но у Ханны появляется желание расхохотаться.
"Переменим тактику, – думает она, – а то этот идиот будет ходить за мною до конца дней моих, что позволит Хатвиллам, мужу или жене, отправить меня в тюрьму за кражу".
– Начнем с лошади, – говорит она. – Вы получили ее обратно?
– Иеп.
– А теперь – о деле. Вы бы отстали от меня, если бы я дала вам два фунта?
– Ноуп.
– Пять фунтов?
– Ноуп.
– Десять ливров?
В желтых глазах – колебание. У Ханны двадцать шесть ливров и три шиллинга. Билет на поезд до Сиднея стоит пять ливров десять шиллингов. (В одном ливре – двадцать шиллингов. Что за дурацкая система!)
– Двадцать, – говорит Мика Гунн.
– Пятнадцать.
Он качает головой. "Я упаду, – думает Ханна. – Я сейчас свалюсь посреди этой улицы на краю света, и окажется, что я проделала весь свой мучительный путь зря".
– Двадцать, ладно. Но при одном условии: я оставлю деньги у хозяина гостиницы, который передаст их вам только после отправления поезда. Два часа спустя.
С трудом добирается Ханна до вокзала, без сил от потери крови. Минутами она ничего не видит от слабости. Каким-то чудом у нее в руке оказывается билет.
– Вы уверены, что можете пускаться в путь, мисс? – спрашивает железнодорожный служащий.
– Конечно Me вмешивайтесь не в свое дело. Лучшее средство прийти в себя для нее теперь – это разозлиться. С упорством пьяницы она считает и пересчитывает оставшиеся семь шиллингов, которые предстоит уплатить за гостиницу. Служащий уточняет: поезд отправляется в пять часов вечера. Сейчас только восемь часов утра. Она возвращается в гостиницу. Ей милостиво разрешают остаться в номере до отъезда.
Проходит время. Кто-то (Ханна не могла бы сказать, мужчина или женщина, в таком тумане она пребывает все время) помогает ей донести сумку до вокзала, берет двадцать ливров для Мики Гунна и усаживает её на деревянное сиденье в одном из вагонов. Она оказывается в компании трех или четырех здоровенных бородачей, которые улыбаются ей, выставляя напоказ испорченные зубы. От них очень дурно пахнет, точнее – просто воняет, это отвратительный запах портянок. Но они относятся к ней с неловкой любезностью: устраивают для нее нечто вроде постели из своих курток и другой одежды. Они уверяют, что с ними она будет в большей безопасности, чем с собственной матерью. "Как будто моя мать меня от чего-нибудь защищала. Кто, кроме Менделя, защитил или помог мне когда-нибудь!"– думает она, а может, говорит вслух. Впервые в жизни у нее появляется желание прекратить сопротивление и отдаться течению событий. Как только поезд трогается, она засыпает. Последнее воспоминание – хриплые голоса ее странных телохранителей, напевающих ей вместо колыбельной вальс Матида.
Дальше – уже Сидней. Она идет по какой-то бесконечной улице. Оборачивается и" видит в ста шагах позади себя Мику Гунна. Странно, но преследование Гунна ей даже помогает, это своего рода толчок, чтобы идти дальше, порой через силу. "Скорее умереть, чем доставить удовольствие этому дерьму увидеть меня отступившей".
Затем ей в голову приходит удачная мысль: она не чувствует рук от проклятой сумки, что если оставить ее посреди тротуара? Это срабатывает: краем глаза она видит, как Гунн, немного поколебавшись, берет сумку и из преследователя превращается в носильщика.
К пяти часам вечера она наконец приходит на улицу Гленмор в районе Паддингтона по адресу, данному ей Менделем. Дом № 173. Это двухэтажное здание в английском стиле. С правой стороны его – выступ с множеством окон. Перед домом – палисадник, заросший гортензией. Все здание выкрашено белой краской, за исключением двери – она синяя. Ханна звонит и в ожидании, пока ей откроют, делает усилие над собой и оборачивается: Гунн ставит сумку на тропинку у входа в сад и удаляется с видом человека, выполнившего свою миссию.
Между тем дверь отворяется, и на пороге появляется маленькая девочка с рыжими волосами и большими зелеными глазами. Ей, должно быть, не больше десяти. Она с интересом смотрит на Ханну, крепко прижимая к груди куклу с золотыми кудряшками.
– Я бы хотела видеть мистера Шлоймеля Визокера, – говорит Ханна.
– Кого?
– Мистера Визокера.
– Подождите минутку, – вежливо говорит девочка. Она оставляет дверь открытой, уходит и вскоре возвращается с женщиной средних лет, высокого роста, рыжеватой и с такими же, как у девочки, зелеными глазами. В третий раз Ханна произносит имя кузена Шлоймеля. Женщина качает головой.
– Мне кажется, что у одного из наших жильцов фамилия была похожая. Вот только звали его Сэм.
– Он переехал?
– Можно сказать и так, – отвечает рыжеволосая женщина. – Он уехал в Америку. По крайней мере вот уже несколько месяцев он не живет на Гленмор-роуд, 173. Это ваш родственник?
– Знакомый, – говорит Ханна из последних сил. Ей стоит большого усилия не потерять сознание. Это уж слишком. Она, конечно, подозревала, что этот болван мог найти предлог, чтобы не ответить на ее телеграмму, но предположить такое…
– Всего лишь знакомый, – повторяет она. – Благодарю вас, мадам. У вас очень красивый дом.
Она через силу поворачивается и идет по петляющей мимо гортензий дорожке к выходу из сада, туда, где стоит ее сумка. Она поднимает эти, как ей кажется, десять или пятнадцать тонн и… падает без чувств. А когда открывает глаза, то видит, что лежит на диване того же цвета, что и дверь. Напротив сидит девочка с куклой.
– Ты проснулась?
– Кажется.
– Мама уверена, что ты голодна. Ты хочешь есть?
– Совсем нет.
– Мне кажется, – говорит девочка, – что ты немножко врешь. На самом деле ты голодна.
Ханна улыбается.
– Почему ты держишь куклу вниз головой?
– Я жду, когда она срыгнет. Я только что покормила ее грудью. Ее зовут Франкенштейн.
– А тебя?
– Лиззи Мак-Кенна, – говорит девочка.
Коллин Мак-КеннаУже одиннадцать лет, как семья Мак-Кенны живет в Австралии. Приехали они из Индии. Дугал, глава семейства, родился в Бомбее в 1843 году; четыре года он учился в Англии, получил диплом инженера, там и женился. Жена его была ирландка, католичка, как и он. В 1865 году она дала согласие ехать с ним на строительство мостов через Ганг и другие экзотические реки. Что касается его самого, то он так и остался бы в своей родной стране, но жена его не могла приспособиться к жизни в Индии из-за жары и москитов, да к тому же смерть от тропической лихорадки их двоих детей подтолкнула на переезд.
Дугал подыскал себе место государственного служащего в австралийских колониях. Несколько лет семья прожила в Тувумба и Брисбене, но как только строительство железных дорог и мостов было закончено и эти дороги соединились с железнодорожной сетью Нового Южного Уэльса, они переехали в Сидней. Лиззи – их единственная дочь и самая младшая, у нее еще четыре брата. Вернее сказать, четыре брата живут в доме на Гленмор-роуд. О пятом, Квентине, Лиззи знает очень мало, только то, что он жив и что имя его нельзя произносить вслух, как будто его никогда и не было.
Впрочем, Лиззи не суждено с ним встретиться, и об этом она будет сожалеть всю свою жизнь.
Все эти подробности Ханна узнает постепенно. А пока она наконец села за стол и ест тушенную с овощами говядину, при этом семь пар глаз – три зеленых, остальные голубые – пристально смотрят на нее. По мере того как мужчины возвращаются домой, ее знакомят со всеми членами семьи. Родители, Дугал и Коллин, сидят по краям стола. Дети в порядке возраста: Род, старший, двадцать шесть лет, за ним Оуэн, Патрик, Алек и, наконец, Лиззи.
Для Ханны ново и удивительно окунуться в мир настоящей семьи, она уже и забыла, что это такое. К тому же это – семья иностранцев, которая, как ей кажется, живет в необычайной роскоши. Стол покрыт вышитой скатертью, сервирован фарфором и серебром, а сколько ножей, вилок, ложек, стаканов! Ханну поражает необыкновенно высокий рост всех Мак-Кеннов: самый младший из мальчиков, девятнадцатилетний Алек, не догнавший еще по росту не только своего отца, но и Рода, гораздо выше Менделя и почти такого же роста, как Тадеуш. Ханна чувствует себя фокстерьером, попавшим на обед сенбернаров.
– Еще чашечку чаю? – предлагает Коллин Мак-Кенна.
– Нет, спасибо.
– А пирога?
– Нет, я правда больше не хочу. Я прекрасно пообедала. Тишина. Только Ханна случайно поперхнулась. Первый раз в жизни она стесняется. В это невозможно поверить. К счастью, в течение получаса после обеда, когда все перешли в гостиную, Дугал болтал не переставая, и это позволило Ханне помолчать. Дугал говорил о построенных им мостах и дорогах, оседлав тем самым своего любимого конька. Он рассказывал, что в разных австралийских колониях ширина колеи неодинакова, что не очень практично, когда речь идет о том, чтобы связать эти системы воедино; более умно поступили в Индии, построив дорогу от афганского Кибера Пасса до Коромандельского берега…
Дугал Мак-Кенна не очень высокого мнения об австралийских поселенцах. В большинстве своем они, как он считает, – прямые потомки каторжников, высаженных в Порт-Джексоне и даже здесь, в Сиднее, или, что не лучше, пираты из Дампьера; он громит их будущих потомков, но, к изумлению Ханны, для которой просто невероятно, чтобы сын мог открыто противоречить отцу, Род становится на их сторону, утверждает даже, что в один прекрасный день Австралия порвет связи с Англией…
– Я пойду, – объявляет Ханна, пользуясь коротким затишьем в дискуссии.
Уже больше трех часов, как она у Мак-Кеннов, и до этого момента ей удалось ничего о себе не рассказать. Она предложила хозяевам одну из своих обычных выдумок: она француженка, живет в Париже, ее зовут Анна де Лакро, приехала в Австралию, совершая семейное путешествие, в Сиднее проездом, чтобы встретить здесь своего старого русского наставника Сэма Визокера. Но так как он переселился в Америку, ей ничего не остается, как завтра снова вернуться в Мельбурн, где ее ждут родители…
– В какой гостинице вы там остановились? – спрашивает Коллин Мак-Кенна.
– В "Империале", – на ходу сочиняет Ханна, которая совершенно не знает, существует ли в Сиднее отель "Империал".
– Сколько вам лет?
– Двадцать один. Я привыкла путешествовать одна.
Коллин смеется.
– Так или иначе, вы будете спать здесь. В комнате Лиззи огромная кровать; если вам удастся заставить Лиззи помолчать, вы сможете провести спокойную ночь. Я настаиваю, мадемуазель. Род! Возьми багаж, пожалуйста.
Род, рост которого добрых два метра, если не больше, хватает вышитую сумку и уходит наверх. Ханна опускает голову и снова ее поднимает, пристально глядя на весь клан, который в свою очередь смотрит на нее.
– Меня никогда не звали Анна де Лакро. Мое настоящее имя Ханна, я еврейка из Варшавы.
Коллин безмятежно улыбается.
– Ну теперь мы можем попить чаю. А ты, Лиззи, иди в кровать. Завтра утром тебе в школу…
Восемь с половиной следующего утра. Дом на удивление безмолвен, но в этой тишине нет ничего угнетающего, ничего такого, что может обеспокоить, это тишина жилища, где все в порядке. Ханна спускается по лестнице в одном из своих красных с черным платьев, но босиком: вчерашняя прогулка по Сиднею стоила ей стертых до крови пяток.
– Я здесь.
Голос исходит из комнаты слева, под лестницей. Ханна переступает порог и обнаруживает Коллин, сидящую за кухонным столом с чашкой чаю, которую держит обеими руками.
– Каждое утро, – говорит Коллин, – одно и то же: сперва суматоха, а затем спокойствие. Как спалось?
– Я спала как сурок.
– Мне стоило большого труда не дать Лиззи разбудить вас, когда утром вытаскивала ее из постели.
– Я ничего не слышала.
– Сколько времени вы находитесь в Австралии?
– Пять, почти шесть недель, – отвечает Ханна. Она решила больше не лгать.
– Сколько вам лет по-настоящему?
– Семнадцать лет и четыре месяца. Я апрельская.
– Есть родственники в Мельбурне?
– Никого.
– Деньги?
Ханна колеблется. Не для того чтобы солгать. Просто из смущения.
– Один фунт, – говорит она.
– Вам один или два гренка?
– Два, пожалуйста.
– Сливочное масло и апельсиновое варенье. Или хотите бифштекс с яйцом? Так едят по утрам в Австралии.
Их взгляды встречаются, и они улыбаются друг другу.
– Нужно будет позаботиться о ссадинах на пятках. Иначе может попасть инфекция.
– Ясменник душистый, – машинально говорит Ханна с набитым ртом. – Или зверобой. Из ясменника выдавливают сок на раны, когда растение еще свежее, и все заживает в мгновение ока. Но есть ли ясменник в Австралии?
Коллин Мак-Кенна тоже высока, она из тех женщин, у кого длинные ноги, относительно узкие бедра и большая грудь; она не особенно красива и никогда, вероятно, красавицей не была: румяные щеки, смесь неловкости и уверенности в жестах. Кажется, она только что вернулась с, прогулки по ирландским песчаным равнинам. Но цвет лица слишком бледный, под глазами синие круги – первые признаки болезни, которая скоро унесет ее.
Коллин спрашивает, опустив нос в чашку:
– Откуда у вас столько знаний о растениях?
– От моей матери.
– Она жива еще?
"Не лги, Ханна!"
– Не знаю, – говорит Ханна. – Я давно ее не видела.
На кухне слышно только тиканье настенных часов. Запах жареного хлеба все еще держится в воздухе. Это тот редкий момент отдыха для матерей большинства многочисленных семейств, который наступает сразу же после ухода домашних по своим делам и перед тем, как взяться за наведение порядка в доме.
– У меня есть час времени, – тихо говорит Коллин с деланным безразличием в голосе. – Вы не обязаны мне ничего рассказывать, знайте это.
Они сидят на противоположных концах стола, лицом друг к другу, глаза в глаза, ощущая, как прилив обоюдного расположения медленно наполняет их души.
Ханна начинает рассказывать.
Она не опускает ничего и говорит тем немного отчужденным, чуть-чуть саркастичным тоном, которым всегда говорит о вещах, лежащих глубоко в сердце. Так она защищает себя от волнения, отфильтровывает его, смиряя бушующий в ней вулкан.
Она рассказывает все о своем отце, о ручье и о риге Темерль, о Менделе Визокере, о еврейском местечке, о Тадеуше, об отъезде в Варшаву, о Доббе Клоц, о трех магазинах, о Пельте Мазуре, о развязке…
Она сознает и признается в этом Коллин, что самые жестокие угрызения совести испытывает по отношению к Пинхосу. Она его больше не видела, но Марьян Каден, доставивший труп на улицу Гойна, сказал ей: "Ханна, его глаза оставались широко открытыми и неподвижными, некому было закрыть ему веки…"
О долгом путешествии, приведшем ее в Австралию, ей почти нечего рассказать. Разве что о той невероятной оплошности, которую допустила в Мельбурне, позволив украсть все свои деньги. К тому же они принадлежали вовсе не ей, а лишь были у нее на хранении до возвращения Менделя.
– Иными словами, у меня нет выбора, – говорит она. – Я должна стать очень богатой, и очень скоро.
– Ваш друг Визокер должен бежать из Сибири и приехать к вам?
– Да, – коротко отвечает Ханна.
– Вы попытаете счастья здесь, в Сиднее?
– Мне слишком трудно было сюда добраться, чтобы теперь уезжать.
Ханна заканчивает рассказ о своем пребывании в Мельбурне тем, как ей удалось продолжить свое путешествие, о встрече с семьей Хатвилл, о Мике Гунне.
Коллин Мак-Кенна ставит свою кружку.
– А этот рыжий вас преследовал прямо досюда?
– Да, – отвечает Ханна не очень уверенно.
Ирландка поднимается и выходит из кухни. Ханна слышит, как та открывает дверь на Гленмор-роуд, видит, как она возвращается.
– Никого.
– Возможно, он мне привиделся.
– Вы вовсе не похожи на тех, у кого бывают галлюцинации, – спокойно замечает Коллин.
Зеленые глаза, устремленные на Ханну, отмечают бледность ее лица, резкость линий, круги под глазами.
– Вы не больны?
– Я никогда в жизни не болела.
– Я спрашиваю, у вас случайно не месячные, – объясняет, немного смутившись, Коллин.
– Со вчерашнего дня.
– Раньше срока?
– На много дней.
– Это, конечно же, из-за вашего путешествия в дорожной карете и верхом. Вам незачем было вставать. Идемте.
Ханна остается в постели целых три дня. Утром и вечером слышит шаги Мак-Кеннов; они говорят шепотом, конечно же, по приказу Коллин, которая царит над этими гигантами, пользуясь огромным авторитетом. Временами Ханна испытывает угрызения совести. Замечание о том, как, мол, она не заехала к матери попрощаться перед отъездом в Данциг, в Англию и дальше, очень задело ее. "Я ей, конечно, написала, но нельзя сказать, чтобы мое письмо было преисполнено любви. Можно подумать, что я какое-то чудовище. Возьмем Симона. Хотя он и кретин, но все-таки брат. И разве я когда-нибудь заботилась о нем? Нет. Я совсем забыла о его существовании, пока жила у Доббы. А ведь он был рядом, в Варшаве. Ты дала о себе знать только из Австралии. И даже не подумала написать Карузерсам, которые тебе очень помогли. Твой эгоизм просто чудовищен, ты совершенно ненормальная, Ханна, дрянная девчонка…"
Она приходит к подобным мрачным заключениям, когда, отупев от атмосферы дома, от комнаты и кровати, от настойчивой доброжелательности Коллин, взявшей на себя все заботы о ней, переживает моменты депрессии.
Несколько раз Ханна даже спрашивает себя, действительно ли она любит Тадеуша. Конечно же, она пока не задумывалась об этом слишком глубоко. Но во всяком случае, уже то, что для нее возникает этот вопрос, знаменательно. Ответ примерно таков: она превратила свою любовь к Тадеушу в некое идолопоклонство.
Короче говоря, она проявляет очень большую проницательность по отношению к себе…
Она нуждалась в этой передышке. К ней заходит только Коллин и рассказывает ей об Ирландии, немного об Индии, о которой не любит даже вспоминать, о своем отце и о братьях. "Я бы уехала к ним, если бы это зависело только от меня… Но в конце концов, и Австралия не так уж плоха…" Этот разговор происходит на третий день пребывания Ханны в постели. У нее начинают уже затекать ноги, зато к ней возвращается великолепное самочувствие. И она сошлась с Лиззи, потому что они спали вместе и подолгу шептались в кромешной тьме. Их диалог продлится многие годы, всю их долгую жизнь. При том, что ее английский оставляет еще желать лучшего, она чувствует себя уверенной с девочкой. "И потом ты вовсе не была обыкновенным ребенком, Лиззи. У тебя язык был так же хорошо подвешен, как и у меня…"
– Почему ты назвала куклу Франкенштейн?
– Это не я. Ее так звали до меня.
– А кто тебе ее подарил?
– Какой-то Санта-Клаус на прошлое Рождество.
– И все-таки это странное имя для куклы, – замечает Ханна, еще не читавшая романа Мэри Шелли.
– А в Польше девочки играют в куклы?
– Я никогда не играла, – отвечает Ханна.
На следующий день она впервые за четыре дня выходит. Муж Коллин предоставил ей легкую коляску, нечто вроде тильбюри на двух колесах и с одной лошадью. Именно с высоты экипажа, научившись править еще у Менделя, Ханна открывает для себя Сидней. Сам город не покоряет ее, хотя кажется ей чудесным, подчеркиваемый многочисленными бухтами и бухточками. Она отмечает, что улицы здесь более узкие и еще более старые, чем в Мельбурне, в них меньше геометрической строгости.
– Прежде всего я хотела бы посмотреть лавочки…
Сначала коляска спустилась до набережной с ее бесчисленными причалами и верфями; именно там пришвартовываются большие пароходы; там же разгружаются всевозможные парусники, иные из которых еще пахнут приключениями и загружены экзотическим товаром. Экипаж катит по живописным улочкам, похожим на прибалтийские – почти как в Данциге, – с их морскими тавернам и магазинами, с запахом смолы для шпаклевки.
– Ты правда хочешь работать, Ханна?
Я не могу вечно оставаться у вас. Коллин улыбается.
– Я забыла, – говорит она, – тебе ведь нужно разбогатеть…
– И очень быстро, – говорит Ханна, улыбаясь в ответ. Она напрасно оглядывалась, страшась, что вдруг увидит"
Мику Гунна, резко поворачивалась, чтобы при случае застать его врасплох. Нет, кажется, ее оставили в покое.
– В Сиднее есть улица, похожая на Бурк-стрит?
– Я даже не знаю, где это.
– В Мельбурне. Это самая роскошная улица с самыми красивыми магазинчиками.
– Тогда это Джордж-стрит.
Ханна щелкает языком, как это делал Мендель, и лошадь прибавляет шагу.
"Я справляюсь не так уж плохо".
Экипаж въезжает на Джордж-стрит. На тротуарах причесанные бушмены в странных шляпах идут навстречу банкирам в сюртуках и цилиндрах, в то время как на шоссе паровые омнибусы выставляют напоказ странные названия пригородов, вроде Вулара или Парамата. Ханна останавливает лошадь. Они с Коллин идут вдоль витрин. Денек на славу. Легкий и теплый воздух, гуляющие женщины, элегантные, тщательно одетые, в шляпах и корсетах (так, наверное, одеваются в Лондоне), экстравагантные платья, лица, защищенные вуалетками.
– Все еще не придумала, как разбогатеть?
– Еще нет, – отвечает Ханна. – Хотя…
По правде говоря, идея, пусть достаточно смутная, мало-помалу вырисовывается.
На следующий день, в понедельник, Ханна начинает охоту уже в одиночку. Лавочки Джордж-стрит и прилегающие улицы кажутся ей (у нее всегда был острый глаз на подобные вещи) более интересными, чем улицы и лавочки Мельбурна. В общем, похоже на обновленную Европу, но люди другие: они более развязны, чем поляки, может быть, меньше озабочены мыслями о деньгах, так как успели уже разбогатеть. Для тех, кто интересуется безделушками, достаточно изучить витрины. Здесь продают больше товаров для женщин, чем в Мельбурне, и стоят они дороже. "Вот что должно тебя интересовать, Ханна…"
Она заметила еще одну вещь: большую специализацию многочисленных магазинов. Она, привыкшая в основном к варшавским лавочкам, особенно к лавочкам в еврейском квартале, где продается все что угодно, удивлена, видя магазин, где в продаже какой-нибудь один товар, но по более высоким ценам: там продают только дамские шляпы, тот специализируется на корсетах, этот предлагает курительный табак (даже без сигарет), а этот – писчую бумагу и ничего более…
Как только Ханна объявила о своем настойчивом желании работать, Дутал и Коллин предложили ей свою помощь. Их положение, сказали они, открывает для нее любые возможности. И потом есть Род, который только что стал членом кабинета генерального секретаря колонии. Род наверняка может что-нибудь сделать для Ханны, скажем, устроить ее пребывание в Австралии на базе более солидной, чем та, которую предоставлял ей паспорт, полученный от Карузерса в Варшаве.