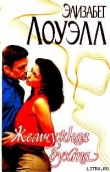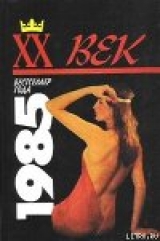
Текст книги "Ханна"
Автор книги: Поль-Лу Сулицер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
– А Варшава, Ханна?
– Нет.
– Добба Клоц все еще жива.
– Тем хуже. И тем более жаль.
Наконец она осмелилась написать матери. Холодное и краткое, в несколько строк, письмо. Ответа не получила, чем была не столько задета, сколько удивлена: она никогда бы не поверила, что Шиффра способна хотя бы на такую самостоятельность: дуться на нее. Объяснение материнского молчания придет к ней позднее в форме письма от брата Симона (теперь он раввин). Двадцать восемь страниц одних упреков: она – позор для всей Польши, впрочем, как и для всего остального мира. Он отрекается от нее как от сестры, от польки, от женщины. И требует тысячу рублей.
"Выкуп, что ли?"– думает она, не столь уж ошеломленная всеми этими проклятиями, которыми он ее наградил.
Она колеблется, а затем, прекрасно отдавая себе отчет в том, что с ее стороны это форменная блажь, он уж никогда не отстанет от нее с этими своими требованиями, утроив названную сумму, посылает деньги.
"Ханна, ты чудовище, ты не любишь свою мать. Впрочем, это не правда. Правда в том, что тебе на нее наплевать. Любила ли она тебя, испытывала ли к тебе то, что называет любовью? Она должна была обучить тебя нежности, а все ограничилось шитьем и кухней. Конечно, нельзя сказать, чтобы это ей хорошо удалось… Но ведь и ты всегда ее терроризировала… И, без сомнения, ты не простишь ей, что она даже не попыталась тебя понять, понять, что скрывается в твоих совиных глазах. А тебе нужно было лишь, чтобы она приласкала тебя, взяла на руки".
В конце августа, впервые за три с лишним года, Род Мак-Кенна приедет в Европу повидаться с сестрой. Каждые два месяца, разумеется, он писал ей длинные письма. И смертельно скучные. Слова практически оставались неизменными из одного письма к другому: она должна "хорошо работать", "быть умницей", "оказывать нам честь" – такая вот песня. И вот он здесь. Весел, как зяблик. Он женился, и его жена, этакая белая новозеландская кобылица, сопровождает его. "Если у них будут малыши, скажи, пусть оставит одного мне, – шепчет Ханна Лиззи. – Он может вымахать под три метра!"
Бешеный смех, от которого добряк Род ("все же он мил, как и Дугал, который, наверное, очень постарел") трясется, ничего не понимая. Когда Лиззи и Ханна беседуют между собой, у него, должно быть, возникает тягостное ощущение, будто он присутствует при беседе двух инопланетянок.
Одно достоверно: Лиззи отказывается даже думать о возвращении в Австралию в течение ближайшей полусотни лет. Да, на каникулы – конечно. А еще? Посмотрим. Ничто не гонит. Если отец хочет меня видеть, почему бы ему не приехать? Оценки? Оценки отличные, я лучшая ученица империи (это почти что правда, Ханна следит за ее учебой неусыпно, как цербер).
Род и его кобылица уедут через два месяца. Приедет Марьян. Из Испании, где продолжал поиски. Тадеуша нет ни в Испании, ни в Португалии. Нет и в Италии: его, Марьяна, брат только что исколесил Апеннинский полуостров от Турина до Сицилии. Сам же он, как и было приказано Ханной, выучил испанский.
Теперь Марьян говорит на семи языках. И наконец-то встречается с Лиззи, так много слышавшей о нем. Она не считает, чтобы он был красив, хотя… Она не считает, что он умен, хотя… Ни с того ни с сего она в упор спрашивает, девственник ли он. Краски сменяются на его лице – все тона красного (цвета полевого мака), он переминается с ноги на ногу и не дает ответа. Ему двадцать два года или около того, а зарабатывает он ненамного меньше, чем директор банка Англии.
Лиззи обнимает его. Она его уже любит. "И конечно же, я выйду за него замуж, за этого длинного дуралея, через два-три года". Длинного – это относительно: Марьян почти что одного с нею роста, и если она еще немного подрастет и будет носить туфли на более высоких каблуках, то они сравняются. Внешне Лиззи – платиновая блондинка, ей так и не удалось распрямить свои завитушки вопреки всем модам; она не красавица, но очень живая и веселая.
– Я создана для того, чтобы быть счастливой, – скажет она однажды Ханне. – Ты вполне уверена, что мне не стоит заводить любовника?
– Уверена.
– У тебя их много. А ведь все это – до брака с Тадеушем.
– С тобою не тот случай.
– Ха-ха-ха!
– Если ты заведешь любовника, я отправлю тебя в Австралию. И не надо говорить, что ты вернешься оттуда вплавь.
– Бедный Марьян, которому предстоит лишить меняневинности. Надеюсь, он знает, как это делается.
– Лиззи!
– А кто меня научил так говорить? Кто?
К декабрю 1898 года в ее активе уже 93 тысячи фунтов. Несмотря на вложения в институты Парижа, Брюсселя, Будапешта, Праги, Берлина и Лондона, которые сами по себе способствуют увеличению капитала.
Непостижимо!
Как о ближайших этапах, она думает о Цюрихе и Вене. Да, сначала Цюрих, потом Вена. По мнению Марьяна, есть резон вложить деньга сначала в Вену. Но инстинктивно и по совершенно необъяснимой причине она упорствует. "Вена после, Марьян, не спрашивай почему, Марьян, я не знаю".
Дальнейшие планы: одновременно Милан и Рим, затем Мадрид и Лиссабон, Стокгольм, Копенгаген, Амстердам.
– Все так же против Варшавы?
– Да.
– Санкт-Петербург?
Она не любит русских, этих антисемитов, он должен бы знать это. Помимо всего прочего, она еще и еврейка. (Тон ответа – холодно-сухой.)
После Амстердама будет сделан большой прыжок в Америку. Не поехать ли ей в Нью-Йорк в головном отряде хоть однажды вместо него, Марьяна? Один из кузенов Полли по ирландской линии этой неисчерпаемой семьи эмигрировал в страну янки. Он сейчас в Нью-Йорке и занимает очень видное положение: то ли агента по обмену валюты и банкира, то ли главаря банды – Полли сам уже точно не помнит и не видит особой разницы между этими двумя видами деятельности.
Приближаются предновогодние праздники, и, как уже вошло в привычку, она хочет провести их в одиночестве. "Это не что иное, как фетишизм, Ханна, и ты это знаешь. Ты ждешь Тадеуша и, раздираемая на части, будешь ждать его ровно столько, сколько понадобится. Кончай оплакивать себя! Ты найдешь его! Ты найдешь его, а празднование Нового года с кем-либо другим, даже с Андре, принесло бы тебе несчастье".
Как и в предыдущие годы, Лиззи (которая не обсуждает это решение) уезжает на Рождество и новогоднюю ночь погостить к своей подруге из пансиона в Шотландию.
Ханна, несмотря на мертвый сезон, едет в Цюрих. Вот уже два месяца, как она порвала с Андре. Разрыв произошел мягко, исключительно нежно и достаточно душещипательно. В день, когда он явился просить ее руки и когда она ответила ему "нет", он все понял. Ушел, как в театре уходят со сцены, и назавтра в качестве прощального подарка устлал двумя тысячами роз лестницу и лифт дома 10 по улице Анжу.
В Цюрихе она останавливается в отеле "Крестьянин на озере". Дни, а иногда и ночи, проводит наблюдая, как снег падает в темные воды, принесенные из Альп речкой Глерис. Не очень-то весело. Нужно сдерживаться, чтобы не заплакать. Она читает или пытается читать. Постоянно, навязчиво до невозможности, перед ее глазами вновь и вновь встает комната в Пражском предместье Варшавы.
28 декабря. Встреча, которая показалась ей почти мистической: из глубины большого салона "Крестьянина" она видит, как холл пересекает Лотар Хатвилл. Ничуть не изменившийся, элегантный и тонкий, обворожительный и спокойный с убеленными сединой висками. Хрупкая молодая светлоглазая женщина, очень оживленная, поспешает за ним, опершись на его руку. Она дожидается, пока пара пройдет, и знаком подзывает администратора. Тот сообщает ей, что Хатвилл вот уже по меньшей мере два года вдовец, жена трагически погибла, утонула во время прогулки по озеру, кажется, по Леману. Несчастный случай. Да, господин Хатвилл вторично женился; он очень богат.
В Лондон она возвращается 2 января. Лиззи вернется из Шотландии на следующий день. Возродив сиднейские привычки, они вместе лягут в кровать, в царство черных и ярко-красных подушечек, и будут говорить добрых пять часов кряду…
– Черт тебя дери, Лиззи, помолчи же хоть теперь. Уже час ночи!
– Леди не должна…
Назавтра Ханна встает немного позднее обычного – в 4.30. Разбирает счета и почту. К семи часам спускается вниз, чтобы встретить первых продавщиц, головной отряд которых возглавляет Сесиль Бартон – директор института в Англии, выше которой по иерархии лишь Жанна Фугарнл и, конечно же, Ханна. Приблизительно час спустя, убедившись, что все в порядке, она пытается вырвать Лиззи из объятий большой с балдахином кровати, и, так как у нее невозможно отнять черную простыню и подушку, за которые та цепляется, она погружает все это в ванну – единственный способ разбудить избалованную австралийку в столь ранний для нее час.
К десяти часам дня они вместе идут делать покупки. На Бонд-стрит Ханна покупает для Лиззи замечательный золотой браслетик, инкрустированный топазом – ее первую драгоценность. Чувств Лиззи не передать.
Когда Ханна возвращается в институт (Лиззи уехала в Сассекс с эскортом в лице шофера), на часах что-то около половины второго. Все салоны полны тихонько жужжащих людей: рота из девяти косметологов и одиннадцати продавщиц уже вступила на тропу войны.
И он тоже здесь. Сидит в кресле, обитом шелком гроген – по эскизу Генри-Беатрис. Он в костюме из грубой австралийской шерсти, на голове – фуражка, каким почему-то отдают предпочтение браконьеры. Во всей окружающей его женской утонченности он, похоже, играет роль туриста, заблудившегося в гареме, – улыбается с веселым видом повесы. Такой вид мужчины напускают на себя, когда знают, что им простятся все их похождения.
Ханна видит и не видит его: Она во власти могучего, способного, кажется, убить, чувства, приносимого разве что наивысшими радостями.
– Ах, Мендель! Боже мой, Мендель!
Мендель, бедный Мендель…– Все очень просто, – говорит Мендель. Дойдя до озера Байкал, он повернул налево. Идти через Иркутск с его гарнизоном было как-то не с руки. Сколько шел? Недолго. Два или три месяца, ну может быть, четыре, никак не больше. Помнит более-менее, как тащился через Монголию, как затем увидел тучи китайцев. Добрался до Шанхая. Это было десять – двенадцать месяцев назад, после того как он немного размялся с типами, называвшими себя боксерами. Если бы не одна женщина, у него были бы крупные неприятности.
В Шанхае чуть было не сел на борт клипера, совершающего чайные рейсы, который мог бы доставить его в Европу в рекордно короткие сроки. Но…
– Вы не получили ни одного моего письма из Австралии, не так ли?
– Почему же, получил. И они у него с собой. Он нес и вез их 30–35 тысяч верст. И естественно, что вызубрил наизусть. Уже в третий раз он берет ее за талию и приподнимает одной рукой.
– Ханна, только и не хватало, чтобы они без почтения отнеслись к адресованной мне корреспонденции. И за что, спрашивается? Ведь уходя, я уложил всего-навсего троих или четверых (один из которых, правда, был начальником всей каторги. Ты же знаешь, я просто не мог довольствоваться одним ударом по голове).
Он думает: "Мендель, ты слишком увлекся этим фривольным стилем". Но это его способ защитить себя и особенно ее от того потрясения, которое она испытала. Да, прошло ни много ни мало семь лет, как они не виделись. В последний раз это было, когда он крикнул ей: "С днем рождения, Ханна", подняв руки, стянутые этими чертовыми цепями, в которые его в очередной раз заковали после девятнадцатой попытки бежать. И в течение всех этих семи лет дня не прошло без того, чтобы он не подумал о ней. Он, пожалуй, и выжил-то лишь потому, что понимал: если он умрет, то чертовски разочарует Пигалицу. Об этом ей знать и необязательно, но абсолютно верно то, что вернулся он из ада. Сибирские охранники не слишком-то долго терпели его наглость, его упорное стремление к свободе, его нежелание покориться. А каково им было выносить, что во время порки кнутом он смеялся, вопил, что он – еврей (он, которому наплевать на расы и вероисповедания!). Но поскольку их раздражало то, что он еврей, то зачем упускать такую возможность? Его гоняли из лагеря в лагерь, вплоть до самых затерянных в тайге, где температура воздуха доходила до отметки 70 ниже нуля, где умирали девять человек из десяти.
Чтобы добраться до Байкала, ему потребовалось пять месяцев, при том что он делал по 60 километров в сутки. И так ежедневно. К чему говорить, как устаешь, отсчитывая эти километры, удлиненные зигзагами, которые ему пришлось выписывать, чтобы сбить с пути преследователей. А на смену холоду пришли безводье и жара пустыни Гоби, которую он пересек, питаясь змеями, ящерицами и вонючими остатками какого-нибудь верблюда, брошенного караваном, часто утоляя жажду собственной мочой. Китайские боксеры также не облегчили ему путь, и он уже хотел было восстановить силы в германской протестантской миссии, а по правде говоря, в постели жены одного из миссионеров, когда туда ворвалась секта Большого Ножа. Из этой, как и из многих других переделок, он выкрутился, если не считать, что ему немного порезали плечи и зад. Он нашел в себе силы одолеть и еще несколько тысяч километров – китайские женщины ограниченны, но зато очень радушны. В Шанхае он заделался моряком – он, который так боится моря. Сам толком не зная как, оказался в Японии, затем в Сан-Франциско, так как у японцев не было прямого сообщения с Австралией…
– Сколько моих писем вы получили?
– Шесть. Из последнего я узнал, что ты в Сиднее, что все хорошо и что ты встретила этих австро-германских графьев.
– Я вам написала и седьмое, где сообщала о своем отъезде в Европу. С указанием точных мест, где мы могли бы встретиться.
– Не получал. Одно из двух: либо почтальон принес его после моего, ну, скажем, отъезда, либо тамошние власти гневались на меня. Да, под конец я начал их слегка раздражать. Я ушел весной 95-го. Стояла хорошая погода, отличная погода для ходьбы. Всего-то и помех – метра два снега.
В Сан-Франциско (он хранит теплые воспоминания о Калифорнии, она ему очень понравилась, там хоть отбавляй очень интересных безумцев) он сядет на судно, идущее на Филиппины, где проработает какое-то время на плантации, чтобы скопить немного деньжат (он, который боится сидения на одном месте еще больше, чем моря). Затем перебрался на Яву. Там угодил в тюрьму за одно довольно темное дело, касающееся голландки, которая предпочла его своему Бадабуму. Да, этот самый Бадабум чуть не умер. Поскольку он был очень высок и толст, то Мендель невзначай отбил ему почки. Опять побег, потом каботажное судно, все эти чертовы острова – черт тебя дери, до чего же он ненавидит море! – до самого того дня, когда в Дарвине он ступил на австралийскую землю. Путь был так долог, что он начал уже сомневаться, существует ли Австралия в действительности…
– Когда это было?
– В прошлом году. Апрель – май, что-то в этом роде.
Он немного побродил, очень довольный, что обрел наконец земную твердь, под ногами и большие пространства, а месяц спустя был в горах Дарлинг, в Квинсленде.
– Некто Саймон Кланси, это имя тебе что-нибудь говорит? – Да.
– Мы познакомились под эвкалиптом, загоняя кенгуру. Поговорили о том, о сем, а когда я ему сказал, что приехал, мол, к Пигалице ростом с мешок пшеницы и с метровыми глазами, он заявил, разрази его гром, что знает тебя.
– Это совсем в его стиле, – говорит довольная Ханна.
– Что он тебя знает и даже работает на тебя. Снабжает будто бы травой для кроликов. И что ты уехала в Европу.
– Вы ездили в Сидней?
– Зачем? Тебя там уже не было.
– А в Мельбурн или Брисбен?
– Тем более нет. По той же причине. Города нагоняют на меня тоску. А этот Саймон Кланси мне очень понравился. Он и я, мы…
Мендель! Повсюду: в Сиднее, Мельбурне, Брисбене – я оставила для вас сообщения на случай, если вы туда приедете! И деньги!
Ну черт возьми, и откуда она взяла, что ему могли понадобиться деньги? Он чуть было вновь, уже в четвертый раз, не приподнял ее за талию, но и потом предпочел искать укрытия в углу просторной, прямо сказочной библиотеки на первом этаже особняка, отделанной панелями из шишек вяза, библиотеки, где хранилось, должно быть, тысяч пять книг.
Что погнало его в библиотеку? Ответ прост: ему нужно держаться подальше от Ханны. Он слишком боится того, что может в нем произойти, если он будет настолько неосмотрителен, что прижмет ее к себе. Он не сможет противиться этому, он растает, доверится ей, они, чего доброго, окажутся в постели. А вот этого-то и нельзя делать! Чему он так и не научился, так это читать по женским глазам. Тем не менее в глазах Ханны ему удается прочесть бурную радость, волнение, привязанность… но только не любовь. "Если ты возьмешь ее, как брал многих, ты себе этого никогда не простишь, Мендель, и это будет тяготить тебя потом до самой смерти. Вполне возможно, что в голове у нее сидит ее поляк или кто-нибудь другой. Но, увы, не ты".
Мендель делает вид, будто разглядывает книги, а на самом деле он охотно стер бы в порошок стул или еще что-нибудь из мебели, как уже ранее по той же причине поднял лошадь. Он спрашивает:
– А имя некоего Квентина Мак-Кенны тебе что-нибудь говорит?
– Да, – снова отвечает Ханна, – и еще больше, чем то, которое ты уже назвал.
– Любовь?
– Нет, – отвечает Ханна, – не то чтобы…
– Он умер, – произносит Мендель. – Он, скорее всего, умер. Ты знала, что он пытался пересечь всю Австралию пешком, от Брисбена и в другой конец, чего до него никто никогда не делал?
– Да.
– Я удивился бы, если бы это кому-нибудь когда-либо удалось. К примеру, я не рискнул бы. Даже если бы съел весь экипаж корабля, с пассажирами и парусами. Это дьявольское предприятие, что-то вроде попытки доплюнуть до звезд. Он сказал Саймону Кланси, что если добьется своего, то оставит знак: груду камней, пирамидку в определенном месте – на мысе Кювье, что на берегу Индийского океана, в чертовски заброшенном месте… Он говорил о пирамидке, обложенной камнями в виде пятиконечной звезды. Мы съездили туда, этот Саймон Кланси и я, поднявшись к северу от Фримантла. Камни там были… Не все, не хватало одного кончика звезды, а рядом скелет – обглоданный грифами. С камнем, зажатым в пальцах правой руки.
Затем он, Мендель, нанялся в Перте на пароход помощником кочегара и всласть покидал лопаткой уголька. Несколько приключений в Индии, один или два смерча в Бомбее, потерянное на поиски другого судна время в Кейптауне, но затем – полный штиль, и он, приободренный, прибывает в Лондон. Оставалось отмыться от этого проклятого угля, найти ее, и вот…
Но пусть она не строит на его счет никаких планов, он здесь только проездом. Просто приехал сказать ей "здравствуй". Он с удовольствием остался бы в Австралии, в стране, которая понравилась ему своими просторами и тем, что там живут люди, которых он хотел бы увидеть снова. Но теперь он предпочитает вернуться в Америку, которая ему нравится еще больше. Особенно тамошние женщины.
У него все те же черные усы и очень белые зубы, особенно когда он улыбается.
Он решается наконец выдержать взгляд этих серых глаз, который волнует его сердце.
– Ханна, ты спала с этим Квентином Мак-Кенной?"Мендель, куда ты, черт возьми, лезешь?"
– Да, – отвечает Ханна. (Она собиралась добавить ещекое-что, но сдержалась.)
– Скотина!
– Гоп, – отвечает она, забавляясь, как дурочка (и правда, она и вне себя от счастья. Конечно же, не из-за денег: просто потому, что он перед нею).
– Ты уверена, что там было 22 тысячи рублей?
– Голову даю на отсечение, – отвечает она невозмутимо.
– Наглая ложь. Никогда в жизни у меня не было такой суммы.
– Должно быть, в Сибири вы все позабыли. При 70 ниже нуля застывают даже воспоминания. Итак, я должна вам 21 тысячу 453 фунта и 11 шиллингов (она и не пыталась считать, сколько получится в английской валюте).
– Я бы весьма удивился, – замечает Мендель насмешливо, – если бы рубль столько стоил. Пойду в банк завтра и проверю курс обмена валют. Не пытайся меня надуть, тебя еще и на свете не было, когда я уже воровал яблоки и то, что прячется под женскими юбками. 22 тысячи рублей должны составить 3 тысячи – самое большее. Закрой рот. Пигалица.
Они вместе обедают, сидя друг против друга на противоположных концах длинного герцогского стола, такого длинного, что горничной-француженке (взирающей на Менделя с явным вожделением: он нравится женщинам по-прежнему, если не больше, чем семь лет назад) понадобилась бы лошадь, чтобы одолеть расстояние между ними. Они говорят на идиш, как и раньше, хотя на двоих должны хорошо знать 11–15 языков (помимо английского, Мендель в своих странствиях выучил испанский и тагальский на Филиппинах, голландский и яванский на Яве, плюс к этому два сибирских диалекта и – вполне прилично – китайский, который усвоил, даже сам этого не заметив. А так как он уже до этого знал идиш и иврит, польский, русский, немецкий и французский, он может странствовать более или менее спокойно).
Он молча разглядывает Ханну в теплом отблеске пламени свечей, горящих в позолоченных подсвечниках. Оба понимают: когда Ханна сказала ему "попробуй", между ними пробежал какой-то странный ток. Он уже знает, что спать будет не здесь – как эту, так и последующие ночи. И вообще, было бы чертовски хорошо как можно скорее сесть на пароход, отплывающий в Америку или все равно куда. Если он останется с нею, он сойдет с ума. Или отпадет, как ненужный кусок стены, – а это еще хуже.
Покончив с ужином, они переходят в гостиную. Она предлагает ему сигару и французский коньяк. Он в одиночку опорожняет бутылку, но хмель его не берет. Он всегда будет убежден, что на предложение, которое он сделает ей, алкоголь совсем не повлиял.
– И Марьян не смог его найти?
– Нет, не смог.
– Я бы встретился с ним, с Марьяном.
– Вчера он был в Берлине. Завтра утром выедет в Прагу. Затем в Вену – подготовить почву к весне, когда я открою там еще один институт. Я могу послать ему телеграмму и попросить, чтобы он приехал.
– Я поеду сам. Попробуем вместе.
– Как хотите. Молчание.
– Ханна? Ты знаешь, что я тебе скажу, а?
– Что вы отправляетесь на поиски Тадеуша. И вы, только вы его найдете.
Раздавленный горем, он закрывает глаза: "Самое худшее в том, что ты сделаешь это, Мендель. Ты найдешь этого негодяя, околдовавшего ее, когда ей было семь лет. С тех пор она и вбила себе в голову, что любит его. Ты сделаешь это, хотя, по твоему убеждению, он ногтя ее не стоит. Единственное, что у него есть, так это непомерная гордость, он любит только себя и просто снизошел до того, что позволил любить себя девчонке, которая стоит дороже его в миллиард раз. Ты не раздавишь его, как тебе этого хочется. Ты возьмешь его за шкирку и бросишь к ногам Пигалицы, как собака, принесшая хозяину добычу. Ты законченный идиот, Мендель, бедный Мендель…