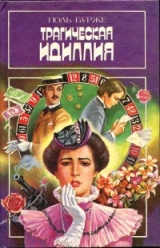
Текст книги "Трагическая идиллия. Космополитические нравы ..."
Автор книги: Поль Бурже
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
– Что скажешь ты, Отфейль, об этом зале и о курительной комнате? Нравится? Не правда ли, сколько изящества в этой обстановке из белого полированного дерева, и притом изящества тонкого, благородного!.. А эта столовая? А эти каюты? Тут не соскучишься месяцы, годы! Видишь, в каждой есть особая уборная и ванна…
И он играл роль гида не только для своего спутника, но и для молодой девушки. Он вспоминал все детали благодаря удивительной памяти на вещи, которой обладают подобные ему люди, созданные для реальной, внешней жизни. С обычным апломбом он рассказывал про все, начиная с пик и ружей в трюме, предназначенных для обороны от пиратов Китайского моря, и кончая приспособлениями для наполнения и опорожнения бассейнов. Наконец он предложил вопрос, весьма странный в коридоре этой колоссальной игрушки, которая являлась последним словом новейших изобретений в сфере комфорта и утонченной жизни:
– Мисс Флосси, нельзя ли будет нам посмотреть комнату покойной?
– Если это интересует господина Отфейля! – отвечала Флуренс Марш, которая с самого начала разговора не переставала раскаиваться в своей опрометчивости. – У моего дяди, – продолжала она, – была единственная дочь: ее звали Марион, как и мою бедную тетю… Вы ведь знаете, что мистер Марш, овдовевший очень рано, назвал свой город Марионвиллем в честь жены?.. Кузина моя умерла вот уже четыре года. Дядя чуть с ума не сошел. Он пожелал, чтобы в комнате, которую сна занимала на яхте, ничего не трогали и не изменяли. Он велел поместить там ее статую и постоянно окружает ее цветами, которые при жизни любила покойная. Вот посмотрите, но не входите…
Она отворила дверь, и молодые люди при свете двух ламп с синеватыми абажурами увидели комнату, сплошь обтянутую материей цвета розы, но розы поблекшей, увядшей. Она была переполнена всевозможными роскошными безделушками, всем, чего только может пожелать дитя, которое безумно балует отец, североамериканский железнодорожный магнат. Посредине на постели из инкрустированного дерева лежала статуя покойной, вся в белом, с закрытыми глазами, с полуоткрытым ртом, среди анютиных глазок и орхидей. Тишина этого странного склепа, таинственность, тонкий аромат растений, которые его наполняли, оригинальная поэзия этого посмертного обоготворения на судне дельца-яхтсмена – все это были вещи, которые при других обстоятельствах сильно задели бы врожденнный вкус к сентиментальному в сердце Пьера Отфейля.
Но во время всего визита он стремился только к одному – поскорее отделаться от мисс Марш и Корансеза, остаться одному и поразмыслить над фактами, которые с такой дикой, ужасной неожиданностью доказали ему, что его священнейшая тайна раскрыта. Покинуть судно для него было большим облегчением, а необходимость еще несколько минут слушать своего спутника – просто пыткой.
– Заметил ты, – говорил Корансез, – как покойная походит на госпожу де Шези? Нет? Как же! Если ты ее где-нибудь встретишь с Маршем, то советую вглядеться. Он тогда забывает обо всем: и о канале возле Великих Озер, и о железной дороге, и о марионвилльских сооружениях, и о копях, и о своем судне – он думает только о покойной дочери. Если бы маленькая Шези потребовала от него Кохинора, он вычерпал бы целое море, лишь бы отыскать этот камень – и все из-за этого сходства… Не правда ли, ведь это довольно необычайно: детский уголок, старые игрушки, трубадуры, картинки в стиле Греза, и рядом этот широкоплечий парень?.. Такой характер должен понравиться тебе.
Если он тебя интересует, ты вволю насмотришься на него 13-го, 14-го и 15-го… Еще раз благодарю за то, что ты согласился сделать для меня. Если тебе понадобится что-нибудь написать мне, то мой адрес: Генуя, до востребования… А теперь мне надо заняться последними приготовлениями к поездке… Если желаешь, я подвезу тебя. Вон как раз я вижу моего кучера Эне. Я велел ему быть тут к одиннадцати часам…
С этими словами Корансез поманил шарабан, который проезжал порожняком, запряженный маленькими корсиканскими лошадками в звонких бубенчиках. Ими правил субъект, который, приветствуя молодого человека, подмигнул плутоватыми глазами и воскликнул:
– Э! Здравствуйте, господин Мариус!
Это восклицание доказывало, что долгие разговоры установили между двумя провансальцами большую фамильярность. Паскаль Эсперандье, прозванный Эне (старшим), был ловким и разбитным малым, все самолюбие которого сводилось к тому, чтобы заставить своих двух «крыс» бежать быстрее, чем русские рысаки великих князей, проживавших в Каннах. Он чистил их, прибирал, украшал цветами и побрякушками, причем обнаруживал такую фантазию, что все компатриоты мисс Марш от Антиба и до Напуля при виде их невольно восклицали:
– How lovely!.. How enchanting!.. How fascinating!..[16] – вопли, которые американцы одинаково издают перед картиной Рафаэля и перед платьем от Борта, перед партией в поло и перед модным гимнастом.
Без сомнения, этот земляк с хитрой улыбкой обладал и дипломатическим талантом, который иногда делал его полезным при секретной интриге. По крайней мере, благоразумный Корансез никогда не брал другого экипажа, особенно когда у него предстояло, как и сегодня, свидание с маркизой Андрианой. Они должны были на пять минут встретиться в саду одного отеля, куда она отправлялась с визитом. Ее карета должна была остановиться у одних ворот, а экипаж Эне – у других. Ввиду этого обстоятельства нельзя было и выдумать ничего более приятного тайному жениху, чем ответ Пьера:
– Благодарю, я лучше пройдусь пешком…
– В таком случае, до свидания, – крикнул Корансез, садясь в экипаж.
И, пародируя известный стих, прибавил:
– И до скорого, синьор, вы знаете где, вы знаете с кем, вы знаете зачем!..
Экипаж повернул в сторону Антиба и удалился с безумной быстротой. Наконец-то Отфейль остался один! Наконец-то он мог остаться наедине с мыслью, которая со страшной ясностью формулировалась в его мозгу с того самого момента, когда мисс Флуренс Марш вымолвила простые слова: «ваш флирт – госпожа де Карлсберг».
«Они все трое знают, что я люблю ее: и маркиза, и Корансез, и мисс Марш. Вчерашний взгляд одной, фраза и улыбка второго, слова третьей и краска стыда за то, что подумала вслух, – вот это уже не грезы… Они знают, что я ее люблю?.. Ну, а вчера, неужели Корансез, подводя меня к игорному столу, понимал все, что происходило в моем сердце? Да возможно ли такое притворство с его стороны? А почему бы и нет? Ведь он сам только что говорил про скрытность. А как надо было уметь сдерживаться, чтобы скрыть от Наваджеро, Шези и всего этого ненавистного света чувство, которое он питает к госпоже Бонаккорзи… Вот он умел скрыть, а я не сумел совладать с моим… Как знать, может быть, все трое видели, как я покупал портсигар? Нет! У них не хватило бы жестокости самим говорить об этом при мне или поддерживать разговор других. Мариус не зол, да и маркиза тоже, и мисс Марш. Но они знают, все же они знают! Но откуда?»
Да, откуда? Задаться таким вопросом для человека влюбленного, и притом же изъеденного мнительностью, значило отдаться самоистязанию тех тайных исповедей совести, когда покаянное настроение создает самые безумные иллюзии в лихорадочном бреду. И на обратном пути в Калифорнию, и за отдельным столом, на котором ему готовили завтракать, наконец, во время длинной и уединенной прогулки до живописной деревушки Мужэн перед ним час за часом, день за днем проходила вся жизнь за последние недели. Роковое извращение духовной перспективы обнаружило ему в чистом и невинном счастье его безмолвной идиллии целый ряд непоправимых ошибок, которые завершало последнее преступление: покупка золотого ящичка в игорном зале, набитом народом, на глазах подобных людей!..
Он видел первую свою встречу с госпожой де Карлсберг в гостиной виллы Шези: оригинальная красота молодой женщины и ее очаровательность иностранки сразу поразили его, он поддался влечению созерцать ее до бесконечности… Ему и в голову не приходило, что этим он привлекает всеобщее внимание и напрашивается на комментарии!.. Он вспоминал, как попал к ней в первый раз, как бывал потом, как повсюду искал случаев встретиться с ней, вдыхать воздух, ее окружающий, говорить с ней. Разве могли пройти незамеченными эти нескромные искания и появление его в местах, в которых он прежде не показывался, а теперь стал завсегдатаем?
Он видел себя на дерне в гольф-клубе в то утро, когда баронесса Эли казалась ему особенно прекрасной в пикантном своей оригинальностью туалете из красного и белого – цветов клуба. Все маленькие эксцентричности в манере держать себя, которые шокировали его у другой женщины, у нее казались очаровательными! Он видел себя на балу, стоящим в уголке зала и ожидающим, что вот она войдет и внесет с собой те чары, которые изливались на него из каждой складки ее платья. Он видел себя у модного кондитера на Круазете, видел, как подошел к ней, а она, с всепокоряющей грацией, беспрестанно просила его помочь ей в выборе лакомств. И с каждым из этих образов неразрывно связывалось воспоминание о ее любезности, нежной снисходительности и внимательности.
Но теперь к чувству очарования, которое так ласкало его сердце, присоединялись упреки самому себе, приводившие его в окончательное отчаяние. Он вспоминал бестактные мелочи в своем поведении, разные неловкости, вполне естественные, когда человек не думает, что его в чем-нибудь заподозрили. Зато какими страшными ошибками представляются ему все эти мелочи, когда он чувствует, что за ним усердно наблюдают!
Например, десять дней госпожи де Карлсберг не было в Каннах и за все это время он ни разу не показывался в тех местах, в которых прежде бывал часто, но лишь затем, чтобы видеть ее. Никто не встречал его ни на заливе, ни на вечерах, ни на чаепитиях в пять часов. Он не сделал ни одного визита. Как можно было не заметить этого совпадения между его исчезновением и отсутствием баронессы? Что могли говорить об этом?..
С тех пор, как любовь вовлекла его в этот круг, живущий развлечениями и удовольствиями, он часто поражался, с какой легкостью и непринужденностью злые языки прогуливались насчет отсутствующих женщин. Почему же его поведение не могло стать источником сплетни насчет госпожи де Карлсберг? Да, наверно, о них и говорят уже. Но в каком духе? Служат ли они мишенью для простого зубоскальства, или его поступки особенно подчеркивают и создают клевету на женщину, к которой он питает любовь мучительную, страшно мучительную в настоящую минуту, благодаря химерическим угрызениям совести?
Новую пищу всем этим догадкам давало слово, сказанное Флуренс Марш: «ваш флирт». Пьер всегда питал искреннее презрение к отношениям, которые подразумеваются под этим термином, – эту растлевающую фамильярность между мужчиной и женщиной, осязание женской красоты сладострастным оком, нескромное панибратство и дурной тон сальных намеков. Приходило ли ему в голову, что его отношения к госпоже де Карлсберг носят подобный характер? Неужели можно было истолковать таким образом недостаток выдержки у него?..
Потом он стал думать о страданиях, которые он угадывал в жизни этого создания, единственного в мире, на его взгляд, о шпионстве, которое улавливает малейшее ее движение. Снова представал перед ним зал в Монте-Карло, вспоминался несчастный поступок, и он не понимал теперь, каким образом вчера не уразумел всей своей неделикатности. Зато сегодня он чувствовал это до острой боли.
Не один час продолжалась эта прогулка, и тяжкие мысли обуревали его. К своему отелю он вернулся уже в сумерки, в темные, южные сумерки, которые внезапно наступают после мягкого и светлого, как бы летнего, дня. Но что должен был испытать он, когда у ворот отеля консьерж передал ему письмо, на конверте которого он увидел адрес, написанный баронессой Эли!..
Дрожащими руками разорвал он конверт с античной печатью, изображавшей голову Медузы: эта фигура была вырезана на перстне, который молодая женщина купила в Италии и постоянно носила на пальце. И если бы в самом деле перед Отфейлем живьем предстало это чудовище, созданное языческой легендой, то оно не больше испугало бы его, чем простые слова записки:
«Дорогой господин Отфейль, я только что вернулась из Канн и буду рада, если вы найдете время явиться на виллу Гельмгольц завтра в половине второго. Мне надо поговорить с вами насчет одного довольно важного дела. Ввиду этого я назначаю вам час, в который, по моим соображениям, нам никто не помешает. Уважающая вас…»
На этот раз она подписалась уже не так, как в последних записках, которые он получал от нее, не поставила перед фамилией своего имени, но подписалась, как в самом первом письме: Заллаш-Карлсберг.
Молодой человек читал и перечитывал эти сухие, холодные строки. Ясность их сразила его окончательно: молодая женщина узнала про вчерашнюю его покупку в Монте-Карло. Все муки долгих самоистязаний слились теперь в одну страшно щемящую боль, и, войдя в свою комнату, он громко воскликнул:
– Она все знает. Я пропал!
IV. Решимость влюбленных
Само собой разумеется, что записка, которая довела беспокойство Пьера до высшего напряжения, была продиктована Эли де Карлсберг госпожой Брион. Это был первый шаг к осуществлению плана, который изобрела верная подруга, стремясь как можно скорее и проще покончить с чувством, грозившим бедою. Прозорливая женщина угадывала в будущем страшные мучения, целую драму и неизбежную катастрофу. Размышляя после страстного и неожиданного признания госпожи де Карлсберг, она сказала себе, что необходимо теперь же разлучить эти два существа, которых непреодолимо влечет друг к другу роковая страсть. В противном случае молодой человек непременно узнает, какие чувства пробудил он в душе той, которую любит. Если он не разгадал их до сих пор, то это можно объяснить только его наивностью и душевной чистотой. Но что случится в день, когда он узнает все? Как ни была чиста и наивна сама Луиза Брион, но этот вопрос она решала совершенно правильно. Раз между Отфейлем и Эли будет произнесено слово признания, эта последняя не остановится в своей любви ни перед какими преградами.
Во время вчерашней исповеди она достаточно обнаружила неукротимую смелость своей натуры, свою потребность жить, подчиняясь единственно логике страстей. Она станет любовницей молодого человека. Хотя последний разговор показал Луизе с очевидностью ошибки, уже совершенные ее старой подругой по монастырскому пансиону, однако ни сердце ее, ни ум не могли свыкнуться с реальностью этих ошибок. Одна только мысль о возможности связи между Эли и Отфейлем наполняла ее почти паническим ужасом. Целую ночь придумывала она способ, которым можно было бы побудить Отфейля к добровольному отъезду. Только в одном этом и видела она спасение для Эли.
Первой ее мыслью было обратиться к благородному сердцу молодого человека. В самом деле, все обнаруживало в нем необычайную деликатность натуры: и духовный облик его, изображенный вчера госпожой де Карлсберг, и выразительная физиономия, и честный взгляд, и наивность влюбленного, которую обнаружил он вчера, покупая золотой ящичек. Что если она прямо и благоразумно напишет ему анонимное письмо, где будет говориться об этом самом поступке, о покупке, которую могли видеть и другие, да которую и на самом деле видела, наверно, не одна она? Что если по этому поводу она попросит его уехать, чтобы пощадить спокойствие госпожи де Карлсберг?..
За долгую ночь, мучимая лихорадочной бессонницей, она не раз принималась набрасывать начерно письмо, но никак не могла найти удовлетворительную формулировку. Трудно было изложить просьбу так, чтобы она не говорила прямо: «Убирайтесь, потому что она любит вас!..»
Потом, утром, когда она пробудилась от недолгого сна, который закончил эту мучительную ночь, произошел один самый обыкновенный случай, но ее благочестивое настроение усмотрело в нем перст Провидения. Случай этот дал ей неожиданный предлог обратиться со своими настояниями уже не к молодому человеку (и притом письменно), а к самой госпоже де Карлсберг и принудить ее к немедленному решению.
Дело было вот в чем. Утром, еще лежа в постели, она рассеянно пробегала одну из ривьерских газет, тех вестников международного снобизма, которые всем кочевникам из высшего круга сообщают сведения про их собратьев. В отделе «Переезды» среди имен, стоявших под рубрикой «Прибывшие в Каир», она встретила имя секретаря посольства Оливье Дюпра и его жены. Она тотчас же вскочила и побежала показать Эли эту незначительную строчку светской газеты, строчку, предвещавшую обеим подругам страшную грозу.
– Если он в Каире, – сказала она баронессе, – то, значит, его путешествие по Нилу кончено и он собирается вернуться. Какой путь для него самый подходящий? Из Александрии в Марсель… А попав в Марсель, так близко от Канн, он непременно захочет повидаться с Отфейлем.
– Правда, – отвечала Эли, прочитав имя Оливье Дюпра, имя, которое заставило сильно забиться ее сердце. – Правда, – повторила она, – они свидятся…
– Не права ли была я вчера? – продолжала Луиза Брион. – Подумай, в каком положении была бы ты теперь, если бы у тебя не хватило силы до сих пор бороться против своего чувства? Подумай, что будет с тобой завтра, если не покончишь со всем раз и навсегда?
И она продолжала с красноречием нежной дружбы развивать план действий, который вдруг показался ей самым благоразумным и действительным.
– Надо воспользоваться случаем, который тебе представляется, – говорила она. – Лучшего у тебя никогда не будет. Тебе самой следует пригласить этого молодого человека и поговорить с ним о его покупке вчера вечером… Ты скажешь ему, что это видели посторонние лица. Ты выразишь ему свое удивление по поводу его нескромности. Ты скажешь, что его ухаживание привлекает внимание… Во имя покоя, во имя своей репутации ты прикажешь ему удалиться. Немного твердости на четверть часа, и все будет покончено… Если он не послушается твоего приказания, то он не такой, каким ты мне его изобразила: деликатный, благородный, гордый… Ах! Поверь мне… Одним только можешь ты выразить свою любовь. Спаси его от драмы, которая теперь возможна не только в далеком будущем! Она близка и неизбежна…
Эли слушала, не отвечая ни слова. Изнемогшая от страшного потрясения, вызванного ночной исповедью, она была бессильна против доводов дружбы, которая взывала к ней и против любви боролась этой же самой любовью. Во всеобъемлющих чувствах наблюдается инстинктивное и непреодолимое стремление к крайностям. Когда эти чувства не могут насладиться полным блаженством, они ищут некоторого утешения в полном несчастии. Наполняя все наше существо, они беспрестанно влекут нас к двум полюсам: к экстазу или отчаянию, и никогда не примиряются на чем-нибудь среднем.
Для Луизы Брион дилемма виделась вполне ясно: раз страсть дошла до роковых пределов, то непременно должно выйти, что либо баронесса Эли станет любовницей молодого человека, либо между ними еще до связи произойдет разрыв навеки. Дело кончится, как кончаются тайные романы стольких честных или интересных женщин!..
Да, сколько женщин таким же образом, поддавшись сладострастию самоотречения, вырывали бездну между собой и существом, которое они обожали втайне, и которое никогда не подозревало ни любви их, ни жертвы. Одним, невинным, эту энергию дали угрызения совести за собственную слабость, другие, уже павшие, чувствовали то же самое, что испытывала госпожа де Карлсберг: бессилие уничтожить свое прошлое. Мученическую экзальтацию самопожертвования они предпочли горести счастья, навеки отравленного неумолимыми укорами этого неизгладимого прошлого.
Еще одно обстоятельство окончательно убивало в душе молодой женщины всякий дух протеста. Чуждая всякой религиозной веры, она не видела, как ее благочестивая подруга, перста Божия – в обыкновенной случайности: в том, что данное имя попалось в данной газете. Но вследствие самого своего неверия она поддавалась бессознательному фатализму, последнему суеверию атеистов. Увидев напечатанными слова «Оливье Дюпра» через несколько часов после ночного разговора, она поддалась предчувствию, тому смутному чувству, которое для натур, живущих решительными поступками, гораздо тяжелее, чем явная опасность.
– Да, ты была права, – ответила она разбитым голосом, в котором слышалась мука бесповоротного самоотречения. – Я повидаюсь с ним, и все будет покончено раз и навсегда…
Когда в тот же день после завтрака она вернулась в Канны, то это решение было в ней прочно: она приняла его искренне, всем сердцем. Ее сопровождала госпожа Брион, которая не хотела покидать Эли, пока жертва не будет окончательно принесена. Вот каким образом она, только что приехав, написала и отправила записку, которая привела в отчаяние Отфейля. Да, тогда она верила в себя, она верила совершенно искренне в свою решимость.
Однако, если бы она умела хорошо читать в глубине собственной души, то один совсем ничтожный факт доказал бы ей, насколько хрупка была эта решимость и до какой степени любовь владела всей ее душой, наполняла все ее существо. Едва написав человеку, которого хотела навсегда разлучить с собой, она тут же тем же самым пером и теми же чернилами написала еще две записки двум особам, в романах которых она была поверенной и отчасти соучастницей: Флуренс Марш и маркизе Андриане Бонаккорзи. Она приглашала их на следующий день к завтраку.
Поступок был очень простой, но, совершая его, она повиновалась самому тайному инстинкту женщины любящей и страдающей: отыскать женщин, которые тоже любят, с которыми она может говорить о чувствах, счастье которых ободрит ее, которые сочувственно отнесутся к ее горю, если она откроет его, которых она понимает и которые поймут ее.
Обыкновенно, как она призналась вчера, сомнения робкой и сентиментальной итальянки утомляли Эли, а в страсти американки к препаратору эрцгерцога был элемент рассудочного позитивизма, который претил ее врожденной страстности. Но молодая вдова и молодая девушка были влюблены, и этого было достаточно, чтобы в минуты мучений для нее было приятным, даже необходимым, видеть их. Она и не подозревала, что это приглашение, сделанное по бессознательному побуждению, вызовет бурную сцену с мужем, что оно повлечет за собой супружескую борьбу, глухую, но беспощадную борьбу, последний эпизод которой так трагически повлияет на исход ее зародившейся страсти, которой она поклялась пожертвовать.
Приехав в Канны около трех часов пополудни, она не видела эрцгерцога в течение остальной части дня. Она знала, что он вместе с Марселем Вердье заперся в лаборатории. Это не удивило ее. Не удивило и то, что в обеденный час он появился в сопровождении своего адъютанта, графа Лаубаха, профессионального шпиона его высочества. И ни одного знака интереса к ее здоровью, ни одного вопроса о том, как она провела эти десять дней!..
В юности принц был одним из самых смелых и красивых кавалеров в той стране, которая считается в этом отношении несравненной. В мономане науки и теперь еще легко было узнать прежнего военного по манере держаться, по стану, который оставался гибким, несмотря на его шестьдесят лет, по командирскому тону, который сохранялся во всех его интонациях, по воинственному лицу, на котором виден был рубец от славного удара саблей под Садовой, по длинным сивым усам на красном лице. Но раз встретив этого странного человека, вы особенно запомнили бы навеки его глаза, голубые, лучистые, как-то дико беспокойные, а над ними – белые, почти рыжие брови, страшно густые.
У эрцгерцога была еще одна оригинальность: он постоянно носил, даже на балах, высокие сапоги и благодаря этому имел возможность сейчас же после закуски отправляться пешком в сопровождении то адъютанта, то Вердье в бесконечные ночные прогулки. Иногда он продолжал их до трех часов утра, и это было для него единственное средство успокоить свои больные нервы. Крайняя нервность ясно выражалась в его руках, очень изящных, но обожженных кислотами, почерневших от металлических опилок, изуродованных химическими инструментами. Его пальцы постоянно сжимались в беспорядочных жестах, по которым можно было угадать основное качество его характера: ту моральную шаткость, которой в нашем языке нет определенного названия, эту неспособность остановиться на каком-нибудь ощущении или на каком-нибудь решении.
В этом и заключался секрет того недоброжелательства, которое распространял вокруг себя этот человек, столь замечательный в некоторых отношениях, и от которого страдал прежде всего он сам. Чувствовалось, что в руках этого странного и порывистого человека должно рушиться всякое дело. Внутренняя, непреодолимая разнузданность мешала ему приспособиться к среде, обстоятельствам и требованиям необходимости. Эта одаренная натура была неспособна приспособляться.
Может быть, разгадку этой внутренней неуравновешенности надо было искать во владевшей им мысли о том, что одно время он был так близок от престола, а потом потерял его навсегда; что он видел, как совершались самые непоправимые ошибки в политике и на войне, он сознавал их в самый момент их выполнения и не в силах был воспрепятствовать. Например, в начале войны 1866 года он начертал план кампании, который мог бы изменить карту Европы за вторую половину нашего столетия. И вместо того ему пришлось рисковать своей жизнью, выполняя маневры, явную гибельность которых он предвидел. Каждый раз, когда наступала годовщина знаменитой битвы, в которой он был ранен, он становился буквально сумасшедшим на сорок восемь часов.
То же самое происходило с ним всякий раз, как он слышал имя какого-нибудь великого воинствующего революционера. Эрцгерцог не мог простить себе слабости, благодаря которой он сохранял все преимущества, связанные с его титулом и саном, в то время как отвлеченно-теоретические вкусы и удары неудачной судьбы заставили его присоединиться к убеждениям крайнего социалистического анархизма. Вообще казалось, что удивительно образованный, много читавший и прекрасно говоривший принц неуловимой едкостью своей критики вымещал на других собственную непоследовательность. В его одобрительных речах всегда была какая-то злостная, жестокая нотка.
Только научные изыскания и их неопровержимая достоверность давали, казалось, этому неупорядоченному уму некоторое успокоение, как бы почву под ноги. С того времени, как разлад с женой привел к негласному и благопристойному разводу по приказанию свыше, с того времени эти изыскания еще более поглотили его. Уединившись в Каннах, где его удерживал хронический ларингит, он так много стал работать, что из любителя превратился в профессионального ученого и целым рядом важных открытий в области электричества завоевал себе некоторую славу в мире специалистов.
Правда, враги его распространяли слух, что он просто публикует под своим именем труды Марселя Вердье, бывшего воспитанника Нормальной школы, несколько лет уже работавшего в его лаборатории. Но надо отдать справедливость эрцгерцогу, эта клевета, которую Корансез повторил Отфейлю, ничуть не задевала пылкого и ревнивого чувства, которое питал странный человек к своему помощнику.
Последней чертой в характере принца, неровного, взбалмошного и, следовательно, глубоко, страстно несправедливого, было то, что все чувства основывались у него на капризе. История отношений с женой воспроизводила историю всей его жизни. Он всю жизнь растратил на переходы от беспричинных симпатий к беспорядочным антипатиям относительно одних и тех же людей, и причина этого лежала исключительно в полной неспособности сознательно относиться к своим настроениям, той неспособности, которая сделала из этого богато одаренного человека тираническую, разочарованную, злонамеренную, глубоко несчастную личность и, заимствуя у Корансеза плоскую, но весьма справедливую остроту: «крупный неудачник «Готского Альманаха».
Госпоже де Карлсберг давно уже приходилось иметь дело с этим странным характером, и она изучила его до тонкостей. Слишком много вынесла она от него и потому не могла, со своей стороны, относиться к нему справедливо. Вообще, женщины из всех недостатков труднее всего прощают мужчинам духовную неустойчивость. Не потому ли это, что она диаметрально противоположна самой мужественной добродетели – твердости? Благодаря своей чуткости баронесса умела читать на взволнованной физиономии неудавшегося императора признаки приближающейся бури, как моряки угадывают ее по виду неба и моря.
Когда вечером, вернувшись из Канн, она сидела против него за столом, то ей нетрудно было догадаться, что обед не кончится без одной из тех жестоких выходок, которыми эрцгерцог обыкновенно облегчал свою желчь в минуты дурного настроения. С первого взгляда она поняла, что он опять страшно сердит на нее.
За что? Неужели он узнал уже от Лаубаха, этого бесчестного Иуды с острым профилем и кошачьими манерами, узнал, как вела она себя вчера за игрой? Неужели он поддался обычному приливу гордости, он, принц-демократ, и приготовлялся дать ей почувствовать, что подобные манеры богемы не согласуются с ее саном? Или, может быть, он раздосадован тем, что она пробыла в Монте-Карло целую неделю, не подавая ни малейшего признака жизни, не послав даже телеграммы о возвращении хозяину дома? Подобное ребяческое противоречие действительному положению дел ничуть не удивило бы ее.
Впрочем, какое дело было ей до причины гнева, который она презирала. Слишком уж глубокой грустью наполняло ее принятое решение. Сердце ее слишком переполнилось. Это новое огорчение натолкнулось на духовную анестезию, какая обыкновенно сопровождает сильные душевные потрясения. И вот, в течение всего обеда она не отвечала ни слова на едкие выходки эрцгерцога, который, обращаясь к госпоже Брион, с ловкостью нападал на Монте-Карло и светских женщин, на здешних французов и иностранцев, наконец, вообще на богатых людей и все общество.
Слуга в ливрее неслышными шагами ходил около стола. Короткие панталоны, шелковые чулки, напудренные парики – все это по контрасту придавало словам хозяина этого царского дома невыразимую иронию. Плут адъютант отвечал на выходки эрцгерцога с явной вежливостью и с затаенным коварством, подбирая слова, которые еще больше подогревали его. А госпожа Брион, все более и более краснея, покорно сносила бурю диких сарказмов, проникнувшись мыслью, что жертвует собой ради Эли. Между тем Эли сидела безучастно и едва одним ухом слышала тирады вроде следующих:
– По удовольствиям – вот по чему надо судить об обществе, и вот что мне нравится на здешнем побережье. По ним видишь всю глупость и низость плутократов… А их жены? Они развлекаются, как дуры, а сами они – как дураки… Налоги, законы, власти, армии, духовенство – к чему служит вся эта социальная машина, которая работает только на пользу богатых? К чему? К тому лишь, чтобы прикрывать золоченых дебоширов, дивную коллекцию которых мы имеем на этом чудном берегу… Удивляюсь наивности социалистов, которые распинаются за реформы перед аристократией этого сорта!.. Гангренозный орган прямо и глубоко отсекают и сжигают. Но и современные революционеры имеют большой недостаток: оглядку. К счастью, слабость и глупость правящих классов повсюду возрастают до таких грандиозных размеров, что народ в конце концов заметит это, и, когда миллионы рабочих, которые питают этот рой паразитов, сделают один только жест, тогда… О, тогда мы будем хохотать, хохотать!.. Тогда уже невозможны будут парламентаризм, либерализм, оппортунизм и все эти глупости на «изм». Через десять лет во всей Европе возможна будет только либо реакция вроде Филиппа II, либо коммуна… Нечего и говорить вам, что я за коммуну. А ведь с помощью науки совсем не трудно будет перевернуть все вверх ногами!.. Возьмите всех детей пролетариев, сделайте из них электротехников и химиков – и через одно поколение дело будет в шляпе…








