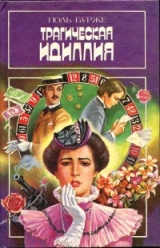
Текст книги "Трагическая идиллия. Космополитические нравы ..."
Автор книги: Поль Бурже
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
– Слушай, ты думаешь, что я все еще та, какой осталась ты, та, какой и я была когда-то – твоей непорочной Эли, как ты говоришь… Так нет же! Это неправда… У меня был любовник. Молчи, не прерывай меня. Это надо было высказать. И вот сказано… И этот любовник – ближайший друг Пьера Отфейля, такой же друг, какая ты мне подруга, брат по дружбе, как ты мне сестра… Вот тяжесть, которую ты угадала у меня здесь, – и она ударила себя в грудь. – Ужасно носить ее…
В некоторых признаниях заключается столько неисцелимой муки, что их откровенная нагота придает кающемуся какую-то величавость, которую не в состоянии омрачить даже позор падения. А когда такие признания мы выслушиваем от человека, которого мы любим, как Луиза любила Эли, тогда в нас пробуждается неизъяснимая нежность к этому существу, которое откровенностью доказывает свое благородство, и в то же время вид его сердечных ран терзает нам душу.
Если бы несколько часов тому назад в каком-нибудь зале Монте-Карло один из бесчисленных прожигателей жизни, слоняясь вокруг столов, высказал бы самое неопределенное сомнение в чести госпожи де Карлсберг и если бы госпожа Брион услышала его фразу, то какое негодование почувствовала бы она, какую скорбь! Скорбь, и притом душу раздирающая, подымалась и теперь, когда Эли произносила слова, навеки памятные. Но и тени негодования не было уже в этом сердце, и на скорбное признание она не ответила ничем, кроме слов, в которых самый упрек был новым доказательством нежности, слепой и терпимой, способной даже на укрывательство.
– Боже правый! Как ты должна была страдать! Но почему ты раньше не говорила со мной так, как заговорила теперь? Почему ты не доверилась мне? Неужели ты думала, что я стану меньше любить тебя?.. Смотри, я имею достаточно мужества, чтобы все выслушать…
И она прибавила тоном, в котором трепетала жажда знать все, жажда, которая охватывает нас, когда мы узнаем про падение дорогих нам лиц, как будто мы надеемся найти в ужасном факте подробности, которые дадут право все простить.
– Заклинаю тебя. Говори мне все, все… Прежде всего, кто он? Знаю я его?
– Нет, – отвечала госпожа де Карлсберг. – Его имя Оливье Дюпра. Я встретила его в Риме два года тому назад, когда провела там всю зиму. Это та пора моей жизни, когда ты меньше всего видела меня, когда я меньше всего писала тебе. Это было также время, когда я была самым скверным человеком благодаря одиночеству, бездействию, скуке, отвращению ко всему и к себе самой. Он состоял секретарем французского посольства при Квиринальском дворе и был очень в моде, потому что внушил страсть двум дамам из высшего римского общества, и они почти открыто оспаривали его одна у другой. То, что я тебе скажу, совершенно дико, а между тем верно. Мне показалась заманчивой перспектива отбить его у обеих дам. В похождениях такого сорта та же психология, что и в игре: думаешь, что найдешь новые впечатления там, где их находят другие. И потом выходит так же, как в игре: оказывается, что это скучно, а продолжаешь игру из самодурства, из тщеславия, из возбуждения бессмысленной борьбы…
В конце концов я стала его любовницей… Его любовницей! – и голос ее с усилием подчеркнул это слово. – А теперь я знаю, что я никогда его не любила! Я с отчаянным упорством поддерживала эту связь, так что он был бы вправе сказать, что я всячески добивалась его любви, я все делала, чтобы удержать его при себе… Он был бы прав, а я, повторяю тебе, я не любила его… А он сам!.. Это был исключительный характер, совершенно непохожий на богатых людей, обыкновенно таких пошлых. Он был так изменчив, так неровен, так пропитан насквозь противоречиями, так неуловим, что в эту минуту я даже не могу сказать, любил ли и он меня…
Ты, слушая меня, думаешь, что видишь сон. Да и я, рассказывая тебе, начинаю понимать, сколько было необъяснимого и непонятного в наших отношениях для того, кто не знал его. Я никогда не встречала человека, который более него возмущал бы и злил какой-то вечной неопределенностью, в которой он тебя постоянно держал, несмотря на все твои старания. Сегодня он был впечатлителен, отзывчив, увлекался до безрассудства, а назавтра, иногда даже в тот же самый день он замыкался и поворачивал в противоположную сторону: из ласкового он делался насмешливым, из доверчивого – подозрительным, из энтузиаста – скептиком, из влюбленного – тираном… И при всем том невозможно было ни сомневаться в его искренности, ни уловить причины невероятного перерождения. Такие скачки бывали у него не только в настроениях, но даже и в образе мыслей. Я видела его растроганным до слез во время посещения катакомб, а на обратном пути он был таким же утрированным атеистом, как эрцгерцог. Я видела, как в обществе он держал двадцать человек под обаянием своего остроумия и фантазии, и в то же время он просиживал иногда целые вечера молча, и из него нельзя было выжать пару слов…
Словом, и в мелочах, и в важном это была живая загадка, которую я лучше понимаю, отодвинутая от него временем. Он очень рано стал сиротой, провел очень несчастное детство, после которого наступила юность, полная преждевременных разочарований. Очень молодым он был помят и развращен. Вот откуда взялась эта неустойчивость характера, эта натура, живущая одним днем, которая с первого же мига, как только я заинтересовалась им, постоянно держала меня в напряжении.
Когда я была молода, я любила в Заллаше садиться на плохо объезженных лошадей и доканчивала их выучку. Для моих отношений к Оливье я не могла подобрать лучшего сравнения, как эти поединки с конями, которые стараются to get the best of you[13], как говорят англичане. Повторяю тебе: я вполне уверена, что не любила его, но я не вполне уверена, что не ненавидела его…
Она говорила с напряжением, которое показывало, до какой степени эти воспоминания задевают в ней самые глубокие струны. С минуту она помолчала. Подруги сидели подле куста роз; баронесса сорвала цветок и нервно стала губами ощипывать с него лепестки, между тем как госпожа Брион, глубоко вздохнув, вымолвила:
– Разве могу я осуждать тебя за то, что ты искала счастья вне брака и натолкнулась на этого человека!.. Это чудовище эгоизма, жесткости, капризности!..
– Я не судья ему, – возразила госпожа де Карлсберг. – Если бы я сама была иной, то я, без сомнения, переделала бы его. Но он пробудил во мне только эгоистичные инстинкты. Я желала удержать его, укротить, покорить и употребила для этого страшное орудие: я возбуждала в нем ревность… Из всего этого вышла грустная история, от подробностей которой я избавлю тебя. Мне ужасно было бы вспоминать их, да они не важны. Тебе будет достаточно, если я скажу, что в конце концов, после бурной недели, за которой последовал возврат такой нежности, какой я в нем прежде не замечала, в один прекрасный день Оливье покинул Рим неожиданно, без всяких объяснений, без последнего прости, без всякого письма. С тех пор я ничего больше о нем не слышала, если не считать случайного разговора нынешней зимой, откуда я узнала, что он женился… Вот и все!
Она умолкла, потом снова заговорила с мягкой интонацией, которая подчеркивала разницу между воспоминаниями, встававшими перед ней раньше, и воспоминаниями, к которым она приступала теперь.
– Теперь ты поймешь, какое странное впечатление испытала я, когда два месяца тому назад Шези попросил у меня разрешения представить мне брата подруги своей жены, приехавшего в Канны для поправления здоровья, весьма замкнутого, очень милого, которого он назвал Пьером Отфейлем. Во время бесконечных разговоров, которые мы вели с Оливье в промежутках между ссорами, часто произносилось это имя. Тут мне необходимо объяснить тебе еще одну вещь, совершенно личного и притом странного характера: как говорил этот человек и какую необыкновенную притягательную силу имели для меня его слова.
Это загадочное и замкнутое существо переживало иногда целые часы абсолютной откровенности, когда сердце раскрывалось у него так, как ни у кого другого. Выходило, как будто он вслух переживал свою жизнь вместе со мной, а я слушала его с любопытством, тоже беспристрастным. В такие моменты он проливал неумолимый свет и на других, и на самого себя, свет, который возбуждал в вас желание кричать, как при хирургической операции, и который в то же время гипнотизировал вас своим режущим интересом. Когда он говорил о себе, то это бывало такое жестокое и вместе с тем тонкое обнажение его детства и юности, с такими яркими образами, что даже в настоящее время те или другие личности, которых знал он один, вырисовываются передо мной, как будто я встречалась с ними в действительной жизни.
А он сам! О, какая странная, односторонняя и возвышенная душа, такая благородная и павшая, такая чуткая и сухая! В ней все, казалось, сводилось к дряхлости, истрепанности, грязи и разочарованности! Да, все, кроме одного только чувства. Этот человек, который презирал свою семью, который о родине говорил не иначе, как с раздражением, который объяснял все поступки и свои и чужие непременно дурными побуждениями, который отрицал Бога, отрицал добродетель, любовь, словом, этот анархист в нравственном смысле, столь похожий на эрцгерцога многими сторонами натуры, имел одну веру, один культ, одну религию: он верил в дружбу, по крайней мере, в дружбу мужчины к мужчине, потому что он не допускал, чтобы женщина могла быть другом женщины.
Он не знал тебя, дорогая Луиза… Он утверждал – я отлично вспоминаю его собственные слова, – что между двумя мужчинами, которые изведали друг друга, которые жили, чувствовали, страдали вместе и которые любят и уважают друг друга, устанавливается некоторое чувство, столь возвышенное, столь глубокое, столь благородное, что ничего нельзя сравнить с ним. Он говорил, что это единственное чувство, которое он уважает, единственное, против которого бессильны годы и бури житейские. Он сознавался, что такая дружба редка, что, однако, он сам встречал несколько примеров ее, что у него самого есть такой друг.
И вот тогда он вызывал перед собой образ Пьера Отфейля. Его интонации, его взор, выражение лица – все изменялось, когда он останавливался на воспоминании об этом отсутствующем друге. Он, человек, насквозь проникнутый иронией, рассказывал мне с нежностью и вместе с уважением целый ряд наивных подробностей первой их встречи в коллеже, зарождения их товарищеских отношений, детских вакаций! Он рассказывал мне про энтузиазм, который в 1870 году заставил их вместе собраться на войну, про их общие опасности, их общий плен в Германии. Он до бесконечности восхвалял мне душевную чистоту своего друга, тонкость его ума, благородство…
Я уже сказала тебе, что этот человек оставался для меня загадкой. И больше всего загадочным бывал он в эти часы откровенности о прошлом, когда я с изумлением, почти ошеломленная, констатировала странную аномалию: в этом сердце, таком истрепанном, таком пустом, на этой бесплодной почве – расцвет чувства до такой степени тонкого, юного, редкого, что оно напоминало мне нашу дружбу с тобой. Несмотря на парадокс Оливье, это лучшая похвала, которую я могу ему сделать.
– Благодарю, – сказала госпожа Брион, – мне стало легче. Слушая тебя сначала, я думала, что говорит совсем другой человек, совершенно мне незнакомый. Но снова нашла тебя, такую же любящую, сердечную, добрую…
– Добрую? Я вовсе не добрая, – отвечала баронесса Эли, качая головой. – Доказательством то, что, как только Шези произнес имя Пьера Отфейля, мной овладела злая мысль. Ты найдешь ее унизительной. Но я поплатилась за нее, может быть, слишком дорого. Сначала отъезд Оливье, а затем его женитьба подняли во мне целую тучу ненависти, о которой я тебе только что говорила. Поверишь ли? Я не могла вынести, что этот человек покинул меня и что теперь он счастлив, спокоен, равнодушен, что он устроил свою жизнь, а я не отомщена.
Когда человек долго остается в таком положении, в котором была я – несчастная, отчаявшаяся среди декорума счастья и роскоши, – тогда у него в сердце нарастают темные силы. Чрезмерность душевных мук портит человека в конце концов. Когда я узнала, что скоро встречу задушевного друга Оливье, то мне пришла в голову возможность мести, мести утонченной, жестокой и верной. Конечно, я и Дюпра были далеко друг от друга. Он, очень возможно, и забыл про меня. Но я ни минуты не сомневалась, что если я влюблю в себя его друга и если он узнает про это, то это поразит его сердце самым чувствительным образом. И вот почему я согласилась на то, чтобы мне представили Отфейля, почему я кокетничала с ним, за что ты меня упрекаешь. Да, сознаюсь, я начала с простого кокетства… Боже, как это близко!.. И как это далеко!..
– А Пьер Отфейль? – перебила госпожа Брион. – Он знает о твоих отношениях с Оливье?
– Ах! – отвечала госпожа де Карлсберг. – Ты касаешься самого больного места. Он этого не знает, как не знает всей низменной действительности жизни. Ведь этой-то свежестью натуры, этой-то простотой сердца, о которой столько говорил мне тот, другой, этой-то юностью и покорил меня ребенок, с которым я хотела так жестоко поиграть. Ты не можешь понять этого. Ты, всегда сохранявшая чувства, которые и должна была сохранять, ты не поймешь, что значит постоянно подавлять в себе добрую, доверчивую, увлекающуюся душу и вдруг почувствовать, как эта душа пробуждается в тебе… Думаешь, что никогда уж больше не полюбишь. Думаешь и желаешь быть сухой, бездушной, злой…
И вдруг чудо воскресения при столкновении с сердцем столь юным, правдивым, простым, что обмануть его – значит обмануть дитя. О, если бы ты его знала, как я теперь знаю! Если бы день за днем, час за часом ты сближалась с этой душой и научилась его ценить, преклоняться перед ним, любить его все больше и больше при каждом новом проявлении его доброты!.. Никогда и никаких сомнений, никакого недоверия, никакой низости в этом сердце, которое осталось совершенно нетронутым, для которого зла не существует, которое не видит зла, не знает его. Не поговорила я с ним и трех раз, а уже поняла все, что Оливье рассказывал про него, что тогда, во время наших бесед в Риме вызывало во мне то недоверие, то раздражение. Я сама испытала теперь уважение и почти благоговение, которое он чувствовал перед этой незапятнанностью и правдивостью.
О, среди очарования, овладевшего мною, именно это-то и вызвало чувство, которое я едва могу высказать, – столько горечи примешивалось к блаженству. Все фразы, которые повторял некогда Оливье, говоря мне о своем друге, вспомнились мне с первого же дня, и при каждой новой встрече я убеждалась, насколько они были справедливы, насколько они были тонки, насколько они были верны… Мы никогда не произносили имени Оливье, и Пьер Отфейль даже не знал, что я с ним знакома, а между тем Оливье постоянно невидимо присутствовал между нами! И все-таки, несмотря на эту муку, очарование продолжалось. Сразу же я, конечно, решила отступиться от низкой мести перед этим нежным и нетронутым существом, которым я упивалась, как упиваюсь этим цветком.
Произнося эти слова, она поднесла к лицу розу, лепестки которой обрывала, и потом грустно, нежно, страстно продолжала:
– Это было что-то вроде наслаждения светлым ручейком в пустыне!.. Если бы ты знала, до чего свет, в котором я живу, утомляет меня, убивает мое сердце, мучит! Как надоели мне все эти вечные рассказы о завтраках, которые дает великим герцогам Дикки Марш на своей яхте, о безиках Наваджеро с принцами, о биржевых операциях Шези и полудюжины титулованных праздношатаев, которые следуют его советам! Если бы ты знала, как утомляют меня лучшие представители этого поддельного света, до какой степени мне безразлично знать, решится ли Бонаккорзи выйти замуж за господина Корансеза, как мало интересуют все бесчисленные клеветы, повторяемые на каждом чае в пять часов в двухстах каннских виллах. Я уже не говорю тебе о домашнем аде, который начался с тех пор, как мой муж заподозрил, что я благосклонно отношусь к браку Флосси Марш с его препаратором Вердье!..
И вот в этой фальсифицированной атмосфере, составленной из скуки и тщеславия, из глупостей и ребячества, встречаешь человека, в одно и то же время глубокого и простого, правдивого и романтического, словом, «архаического», как я в шутку называю его. Да ведь это чудо, это значит попасть в оазис! Наконец наступила минута, когда я почувствовала, что полюбила этого молодого человека и что он меня любит, поняла без сцен, без жестов, без слов, а просто по одному его взгляду, случайно подмеченному… Вот из-за этого-то я и скрылась сюда на неделю… Я боялась. Я и теперь боюсь… Боюсь за себя немного. Я хорошо себя знаю. Я знаю, что, раз попав на эту тропинку страсти, я дойду до конца, что я ничего себе не оставлю, что я отдам все свое сердце и навсегда, что я всю жизнь свою вложу в эту любовь. И если он пренебрежет мною, если…
Она не докончила, но ее подруга могла понять отчаянную перспективу из последующих слов.
– Я боюсь и за него. О, как тяжело говорить себе: «Он так молод! Так нетронут! Он думает обо мне одной… Если бы он знал!..» До какой степени я изменилась, лучше всего докажет тебе следующее: шесть недель тому назад, когда мне представляли Отфейля, я думала только об одном: «Как бы довести до сведения Дюпра, что я знакома с его другом?» А теперь ради того, чтобы эти два человека никогда не свиделись или, если свидятся, чтобы мое имя никогда не было произнесено в разговоре между ними, ради этого я отдала бы десять лет жизни… Понимаешь ли ты теперь, почему слезы закапали у меня из глаз, когда ты мне рассказала, что он сделал сегодня вечером? Я подумала тогда, что он, хотя и не подходил ко мне, но видел, что я трачу время вдали от него, и как трачу! Мне стало стыдно от этого, жестоко стыдно. Суди же, что было бы, если бы он узнал все.
– Но что же ты будешь делать? – с горечью вскричала госпожа Брион. – Эти люди свидятся снова. Они будут говорить о тебе. Если этот Оливье любит своего друга, как ты рассказываешь, то они все расскажут один другому… Слушай же, – продолжала она, складывая руки, – слушай, что говорит тебе моими устами самое нежное, самое преданное чувство. Смотри, я ничего не говорю тебе о твоем долге, о мнении света, о мести твоего мужа. Я понимаю, что ты перешагнешь через все это, чтобы идти навстречу своему счастью, потому что ты уже перешагнула раз. Но ты не достигнешь этого счастья! Ты не будешь счастлива этой любовью, раз у тебя на сердце останется тайна. Ты задохнешься от молчания. А если ты скажешь… Я знаю тебя, ты думала о том, чтобы сказать, чтобы во всем покаяться, как сейчас… Если ты скажешь…
– Если я скажу, он никогда больше не взглянет на меня, – сказала госпожа де Карлсберг. – О! Не будь я уверена в этом!..
– Тогда будь мужественна до конца, – перебила Брион. – У тебя хватило силы покинуть Канны на неделю, у тебя должно хватить и на то, чтобы уехать совсем. Ты будешь не одна: я отправлюсь с тобой, я буду тебя поддерживать. Ты будешь страдать. Но ведь эта скорбь – ничто, если только ты подумаешь о другой, более ужасной вещи: ты будешь все для этого молодого человека, он будет все для тебя, и вдруг он узнает, что ты была любовницей его друга!..
– Ты права, – сказала баронесса надломленным голосом. – Я встретила его слишком поздно… Но ведь так больно вырвать из сердца истинное чувство, когда в течение долгих лет не приходилось знать ничего, кроме любопытства, тщеславия и горя, вечного горя!
Потом с горечью, почти со страстью она продолжала:
– О, я найду силы на это. Я так хочу, я так хочу, – повторила она. И наконец воскликнула:
– О, какая это жалкая жизнь!..
Испуская этот крик, она взглянула на небо совсем не таким взором, каким смотрела в первые минуты этой прогулки. Светлый отблеск месяца озарил на прекрасном лице гнев, мятеж против невозмутимой бесстрастности звезд, гор, всей природы. Затем обе подруги снова, но уже молча, стали прогуливаться среди все резче вырисовывавшихся пальм и алоэ, между клумб с благоухающими розами, мимо сонных громад апельсинов. Эли, придавленная своим тяжким решением о самоотречении, ее подруга – повторяя шепотом:
– Я ее спасу… хотя бы даже против ее воли.
III. Угрызения совести
Господин де Корансез был вовсе не таким человеком, который мог бы пренебречь хоть одной маленькой деталью, полезной для достижения раз намеченной цели. Его отец-винодел говаривал про него: «Мариус?.. Не беспокойтесь за Мариуса: это тонкая бестия…»
В то самое время, когда баронесса Эли начинала свои горестные признания в пустынных аллеях сада Брионов, этот ловкий субъект снова отыскал Отфейля на вокзале, посадил его в вагон между Дикки Маршем и Шези и повел дело так искусно, что, еще не доезжая до Ниццы, под Болье, американец пригласил Пьера посетить завтра утром его яхту «Дженни», которая в то время стояла на якоре в Каннской бухте. А завтрашнее утро было для Корансеза последними часами, которые ему оставалось еще провести в Каннах перед отъездом якобы в Марсель и Барбентан, на самом же деле – в Италию.
Мисс Флуренс Марш обещала, что вслед за этим визитом на «Дженни» Отфейль будет приглашен на прогулку 13-го числа… Примет ли Пьер это приглашение? И, главным образом, согласится ли он быть свидетелем той таинственной церемонии, на которой венецианский аббат с громким именем дон Фортунато Лагумино изречет слова, навеки соединяющие миллионы покойного Франческо Бонаккорзи с сомнительной знатностью Корансезов?
Чтобы настроить должным образом своего старого товарища, провансальцу оставалось только это последнее утро. Но он не сомневался в успехе, и в половине десятого он пружинящей походкой подымался по кряжу, отделяющему Канны от залива Жуана, свежий и бодрый, как будто и не возвращался вчера из Монте-Карло на последнем поезде. На этом кряже, которому каннские жители дали громкое название Калифорнии, в одном из отелей с сотнями окон, глядящих на фруктовые рощи, поселился на зиму Пьер Отфейль.
Утро было из тех, которые делают здешнюю зиму очаровательной: много солнца, потоки лучей, но солнце не жжет, лучи не палят. Мириады роз распустились на клумбах и вдоль террас. Из рамки пальм, алоэ и бамбука, мимоз и эвкалиптов выглядывали белые и цветные виллы. На окраине кряжа полуостров Круазет удлинялся, вытягивался по направлению к островам. Темные громады сосен вперемежку со светлыми домами возвышались между нежной синевой неба и почти черной синевой моря.
А господин де Корансез весело шагал с букетом фиалок в петлице самого изящного пиджака, какой только когда-либо снисходительный портной шил в кредит для красивого малого, охотящегося за приданым. Желтые ботинки ловко облегали его красивую ногу, на густых черных волосах красовалась соломенная шляпа, взор был влажен, зубы сияли белизной из-за улыбающихся губ, борода была тщательно расчесана – он шел цветущий, здоровый.
Он блаженствовал, ощущал какой-то животный комфорт, испытывал счастье чисто физическое, чисто телесное. Он прямо пожирал этот божественный свет, этот морской ветерок, насыщенный ароматами цветов, этот мягкий, совершенно весенний воздух. Он наслаждался этим ярким пейзажем, своим здоровьем, силой, юностью, и в то же время расчетливый человек, сидевший в нем, обсуждал в длинном монологе характер друга, к которому он шел, и взвешивал шансы, говорящие за успех его предприятия:
«Согласится? Не согласится?.. Без сомнения, согласится, если только узнает, что госпожа де Карлсберг будет на судне. Не сказать ли ему про это? Э, нет. Если я скажу, то это омрачит все. Как его рука задрожала под моей вчера, когда я произнес ее имя!.. Ба! Да ему про это скажут Марш или его племянница – иначе они будут не американцы. У этих господ такая уж манера – говорить громко и во всеуслышание про все, что они думают и чего хотят. И это у них отлично выходит…
Ну, если согласится! Благоразумно ли привлекать еще лишнего свидетеля?.. Конечно, чем больше людей будет участвовать в секрете, тем вернее наш Наваджеро, когда наступит день великого объяснения… Секрет? При участии-то трех женщин!.. Госпожа де Карлсберг расскажет все госпоже Брион. Ну, а еще?.. Флосси Марш расскажет все молодому Вердье. Ну, а еще?.. Отфейль? Отфейль самый надежный из всех четырех… Как мало изменяются некоторые люди! Вот человек, которого я после коллежа почти не видал: а он так же прост, так же наивен, как в то время, когда мы каялись в школьнических проделках славному аббату Таконе… Жизнь ничему не научила его. Он и не подозревает, что баронесса влюблена в него не меньше, чем он в нее. Ей придется первой объясняться в любви. Вот если бы нам с ней удалось поговорить об этом!..
Но предоставим все силам природы. Женщина, которая восчувствовала страсть к молодому человеку и все-таки не отдалась бы ему, – да такая штука возможна разве только среди ужасных туманов хладного севера, а под этим солнцем, среди этих цветов?.. Никогда… Прекрасно! Вот я и перед его отелем. Однако эта казарма очень удобна для свиданий: столько народу входит и выходит, что дама может пройти десять раз, и никто ее не заметит…»
Отель «Пальм» – это библейское имя блистало на фасаде и оправдывалось садом в восточном вкусе – отель «Пальм» возвышался сбоку у дороги серой громадой, которая была претенциозно заполонена громадными скульптурными украшениями. Колоссальные кариатиды поддерживали балконы, на колоннах с каннелюрами покоились просторные террасы.
Пьер Отфейль занимал скромную комнату в этом караван-сарае, который ему рекомендовал его доктор. Если вчера чувствовалась какая-то несообразность, когда он предавался сентиментальным грезам на диване казино в Монте-Карло, то тут бросалась в глаза другая несообразность, тянущаяся изо дня в день: пребывание такого человека в этой банальной ячейке космополитического улья. Он жил тут совершенно особняком, поглощенный своей химерой, погруженный в атмосферу своих мечтаний до такой степени, что для него совершенно не существовало соседей, обитавших бок о бок с ним, у него под ногами и над головой, этой шумной толпы гуляк, которых привлекает на здешний берег карнавал.
Не дальше как сегодня утром насмешливый ум Корансеза нашел бы себе богатую добычу, если бы тяжелые камни этого дома силой волшебства сделались бы прозрачными и если бы предприимчивый южанин увидел, как его товарищ сидел, облокотившись на письменный стол, и как будто загипнотизированный смотрел на золотой ящичек, купленный вчера вечером. Но насмешки перешли бы в истинное остолбенение, если бы он мог проследить перепутанные нити мыслей в уме влюбленного, который после этой покупки стал добычей лихорадочного возбуждения: его мучили угрызения совести, которые, при всей своей беспочвенности, придают глубоко трагический характер страстям робким и молчаливым.
Этот кризис беспокойства, утонченной деликатности и угрызений совести начался в поезде, который увозил из Монте-Карло всю компанию, собранную Корансезом. Вызван он был словами Шези.
– Правда ли, – спросил он у Мариуса, – что баронесса Эли проиграла сегодня вечером сто тысяч франков и, чтобы продолжать игру, продала одному из понтировавших свои бриллианты?
– Вот как пишется история! – отвечал Корансез. – Я был вместе с Отфейлем. Она только проиграла то, что выиграла. Вот и все. А продала несчастную безделушку в сто луидоров: золотой портсигар…
– Тот, который она постоянно носит? – спросил Наваджеро.
– Ну, не желаю я ей, чтобы эрцгерцог узнал про эту историю. Он хотя и демократ, а все же бывает строг, когда дело коснется до кодекса приличий…
– Да кто же, по-вашему, расскажет ему про эту историю? – возразил Корансез.
– Адъютант, черт возьми! – настаивал Шези. – Эта каналья Лаубах. Он шпионит за всеми ее поступками. Если безделушки не будет налицо, эрцгерцог узнает…
– Ба! Завтра утром она выкупит ее. Монте-Карло кишит этими благородными спекулянтами. Они одни и получают выгоду от игры…
Отфейль вслушивался в этот диалог, и каждое слово отзывалось болью в его сердце. Вдруг он заметил, что на нем остановился взгляд маркизы Бонаккорзи, один из тех любопытных взглядов, которые невыносимы для робкого влюбленного, потому что в них он отчетливо читает знание его тайны. Разговор скоро перешел на другую тему, но сказанных фраз и выражения глаз госпожи Бонаккорзи было вполне достаточно: молодым человеком овладело невыносимое душевное смятение, как будто боковой карман его сюртука разорвался и все эти люди увидели драгоценный ящичек.
«Не видела ли маркиза, как я покупал его?.. – спрашивал он самого себя, содрогаясь всем своим существом. – И если она меня видела, то что она думает?..»
Но вскоре он заметил, что итальянка углубилась в разговор с Флуренс Марш и, по-видимому, относилась совершенно индифферентно к его существованию.
«Нет, мне пригрезилось, – думал он. – Невозможно, чтобы она меня видела. Я так укрылся от всех, кто был там!.. Я обманулся. Она посмотрела на меня так, как всегда смотрит, тем пристальным взглядом, который у нее ничего не обозначает. Мне пригрезилось… Но я не грезил, слушая других. Эли несомненно захочет завтра утром выкупить этот портсигар. Она разыщет купца. Он расскажет ей, что уже продал. Он меня опишет. Что, если она меня узнает по описанию?..»
При этой мысли новый трепет пробежал по его телу. В мгновение ока внутренняя галлюцинация нарисовала перед ним маленький салон на вилле Гельмгольц (эрцгерцог окрестил свой дом этим именем в честь великого ученого, который был его учителем). Влюбленный увидел баронессу Эли сидящей в уголке у камина в платье из черных кружев с шелковой отделкой цвета зеленого мирта – этот туалет нравился ему больше всех других. Он увидел комнату в час вечернего чая: мебель, цветы в вазах, лампы с матовыми абажурами – всю эту обстановку, которая так много говорила его сердцу. Вот он сам входит туда и встречает ее взгляд, в котором читает – на сей раз догадка бреда совпала с действительностью, – что госпожа де Карлсберг знает про его поступок… Эта мысль причинила ему живейшую боль, но зато сразу вернула его к действительности.
«Я все еще грежу, – подумал он. – Но тем не менее факт, что я поступил крайне неблагоразумно, даже хуже – прямо нескромно. Я не имел права покупать эту драгоценность. Нет. Я не имел права. Прежде всего, я рисковал быть замеченным и тем скомпрометировать ее. А затем завтра или послезавтра, если дело огласится и эрцгерцог начнет расследовать?..»
Новая волна галлюцинации: он увидел эрцгерцога Генриха-Франца и баронессу лицом к лицу друг с другом. Он видел, как слезы наполнили прекрасные, дорогие глаза любимой женщины. Она снова переживала тяжелый момент в своей личной жизни, и причиной того был он, готовый с радостью отдать всю свою кровь до последней капли, лишь бы радость озарила эти глаза, обыкновенно столь грустные, лишь бы счастливая улыбка мелькнула на этих устах, с горьким выражением. И вот почему беспокойство самое фантастическое, но тем не менее в высшей степени мучительное, начало истязать молодого человека.








