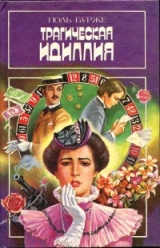
Текст книги "Трагическая идиллия. Космополитические нравы ..."
Автор книги: Поль Бурже
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Вся «свадьба» – пользуясь мещанским выражением южанина, которого аббат Лагумино пожаловал в сан «знатного французского имени», – спустилась вслед за Фрегозо по узкой лестнице, которая вела в жилые комнаты коллекционера. Теперь он шел впереди, гордо показывая путь. Как постоянно случается в подобных огромных итальянских домах, жилые комнаты были настолько же малы, насколько залы для приемов – громадны и великолепны. Князь, когда бывал один, то жил в четырех совсем тесных комнатках, вся меблировка которых свидетельствовала о физическом стоицизме старика, погруженного в мечты, равнодушного к комфорту так же, как к тщеславию.
Но по стенам были размещены некоторые фрагменты, которые составляли настоящий музей: их было двадцать или двадцать пять, не больше. На первый взгляд эта коллекция Фрегозо, известная в обоих полушариях, состояла из бесформенных обломков той грубой композиции, которая на всякого неспециалиста должна была произвести такое же впечатление, как и на Корансеза.
Изучая античное искусство, Фрегозо пришел к тому, что преклонялся только перед мраморами дофидиевской эпохи, перед реликвиями VI века, в которых живет и трепещет примитивная, героическая Греция.
Едва он, после всех своих гостей, переступил через порог первой комнаты, которая обыкновенно служила ему курительной, как вдруг старый подагрик каким-то чудом, казалось, помолодел: поясница выпрямилась, ноги не волочились уже по паркету тяжелыми шагами. Его божество, как сказали бы его дорогие афиняне, овладело им, и он начал представлять свой музей с таким воодушевлением, над которым нельзя было посмеяться. Под чарами его горячих слов разбитый мрамор оживал, одухотворялся. Он видел этот мрамор во всей его девственной свежести две тысячи четыреста лет тому назад, и в силу непреодолимого гипнотического влияния его видение сообщалось самым скептическим слушателям.
– Вот, – говорил он, – самые почтенные изваяния… Это три статуи Геры, три Юноны в их примитивных формах: деревянный истукан, скопированный на камне еще робким резцом.
– Ксоанон, – сказала Флуренс Марш.
– Вы знаете ксоанон! – вскричал Фрегозо и с этого момента обращался уже только к одной молодой американке. – В таком случае, вы вполне можете оценить красоту этих трех экземпляров. Они неподражаемы… С ними не сравнятся мраморы ни с Делоса, ни с Самоса, ни из Акрополя… Взгляните на все три… Вы видите тут зарождение жизни. Вот тело еще в стадии возникновения, и какого возникновения!.. Оно грубо, как и ткань толстого полотна. И между тем оно дышит: вот груди, ягодицы, ноги… Потом материя делается тонкой; это уже мягкая ткань из нежного льна. Длинная рубашка спускается свободно и не стесняет движений. Статуя оживает. Она идет… Полюбуйтесь на этот могучий торс, обрисовывающийся под пеплосом, на эту тунику в обтяжку, которая с одной стороны лежит вертикальными складками, а с другой – складки идут веером. Полюбуйтесь на эту позу богини: вся тяжесть корпуса на правой ноге, а левая выдвинута вперед… Она идет, она живет… О, красота!.. А эти Аполлоны!..
Дыхание у него прерывалось от лихорадочного энтузиазма, и, не будучи в состоянии говорить, он молча показывал на три торса из камня, ставшего уже рыжим, вероятно, оттого, что долго пробыл в железистой почве. У торсов не было ни рук, ни голов, а от ног остались только какие-то культяпки.
Потом он таинственно продолжал:
– Теперь надо запереть ставни и спустить занавеси. Дон Фортунато, будьте добры, помогите мне!..
Когда воцарился мрак, старик дал аббату в руки зажженную свечу, сделал ему знак идти за собой и, подойдя к мраморной голове, лежащей на пьедестале, сказал голосом, дрожащим от волнения:
– Ниобея Фидия!..
Тогда три женщины и два молодых человека увидели при свете тусклого огонька кусок мрамора, совершенно бесформенный. Нос был разбит и практически исчез. Едва можно было узнать места, где были глаза. Недоставало целого куска волос. Но это страшное разрушение случайно пощадило нижнюю губу и подбородок. Дон Фортунато, знавший уже все невинные театральные эффекты археолога, направил свет именно на этот полуразбитый рот и на подбородок.
– Разве вас не поражает в этом рте экспрессия жизни и скорби! – воскликнул Фрегозо. – Разве не мощен этот подбородок!.. О, как он выражает силу воли, гордость, всю энергию той царицы, которая презирала Латону!.. А эти губы – слышите ли вы крик, который вырывается из них? Проследите эту щеку: по тому, что осталось, ее можно восстановить… А нос! Какую благородную форму сумел придать ему художник!.. Взгляните!..
Он схватил голову и наклонил ее под известным углом, затем, вытащив носовой платок, взял кончики его в обе руки и приставил к нижней части лба статуи, к тому месту, где не оставалось на камне ничего, кроме зияющей впадины.
– Вот она, эта линия носа! Я вижу ее… Я вижу, как катятся слезы, вот, тут… – И он поставил голову под другим углом. – Я вижу их… Ну, будет! – закончил он после молчаливого вздоха. – Надо вернуться к жизни. Раскроем ставни и поднимем занавеси…
И когда дневной свет снова заиграл на бесформенном обломке, Фрегозо опять испустил вздох. Потом, повернувшись к другой голове, не так сильно пострадавшей, он взял ее, поклонился мисс Марш, которая приятно польстила его мании своими техническими познаниями и внимательностью, и сказал ей:
– Сударыня, вы достойны обладать фрагментом статуи, которая украшала Акрополь… Позвольте мне предложить вам эту голову, отысканную при последних раскопках… Взгляните на улыбку…
И голова, поднятая руками старика, действительно улыбалась беспокойной, чувственной и вместе таинственной улыбкой.
– Не правда ли, это эгипетская улыбка? – спросила американка.
– Так называют ее археологи, – отвечал князь, – по месту нахождения мраморов знаменитого фронтона. По-моему, это елисейская улыбка, экстаз, который вечно должен витать на устах тех, кто вкушает вечное блаженство, а боги и богини еще на земле раскрывают это блаженство своим верным слугам… Вспомните стих Эсхила о Елене. Он весь вылился в этой улыбке: «Душа ясная, как тишь морей»…
Когда три женщины и Отфейль, после этого фантастического брака и еще более фантастического визита, снова очутились в ландо, которое везло их к порту, то было около трех часов пополудни. Все четверо с удивлением оглядывались вокруг: им было странно снова попасть сюда, на улицу, полную народа, видеть дома, нижние этажи которых заняты лавками, стены, оклеенные афишами, словом, всю эту сутолоку современной жизни. Это то самое впечатление, которое испытываешь, побывав в театре на дневном спектакле и «отряхаясь» от мира грез на тротуаре при солнечном свете. Эта театральная галлюцинация, которой вы два часа любовались при свете газа, делает для вас тяжелым резкий переход к реальной жизни. Андриана первая выразила вслух это странное ощущение:
– Если бы у меня не было брачной песни этого славного дона Фортунато, – сказала она, показывая маленькую брошюру, которую держала в руках, – я подумала бы, что спала… Он передал мне ее с большой церемонностью и пояснил, что эта поэма напечатана в четырех экземплярах у типографщика, который печатал прокламации Манина, нашего последнего дожа. Один экземпляр предназначается Корансезу, один – Фрегозо, один – для самого аббата, и вот этот!.. Да, я подумала бы, что спала!..
– Да и я тоже, – сказала Флуренс Марш, – если бы эта мраморная голова не была так тяжела. – И она покачала своими маленькими ручками странный подарок, которым почтил ее археолог… – Боже мой, как мне хотелось бы посетить этот музей без князя! Мне кажется, что он всех нас загипнотизировал и что, не будь его там, мы ничего бы не увидели… Да ведь вот сейчас все мы видели улыбку этой головы, когда Фрегозо показывал нам ее?.. А теперь я не нахожу и следа. А вы?
– И я… И я… И я… – вскричали одновременно Эли де Карлсберг, Андриана и Отфейль.
– Во всяком случае, – сказал последний со смехом, – я видел, как плакала Ниобея, у которой не было ни глаз, ни щек…
– А я, – сказала госпожа де Карлсберг, – видела, как бежал Аполлон, у которого нет ног.
– А я, – сказала Андриана, – видела, как дышала Юнона, у которой не было груди.
– Корансез предупредил меня, – прибавил Отфейль, – когда там нет Фрегозо, то его музей становится простой кучей камня; когда он сам его показывает – это Олимп.
– Это человек верующий и влюбленный, – подхватила баронесса Эли, – и несколько часов, проведенных с ним, гораздо лучше познакомили меня с Грецией, чем все прогулки по Ватикану, Капитолию и по галерее Уффици. Это утешает меня в том, что я не успела показать вам «Красный Дворец», – прибавила она, обращаясь к Отфейлю, – и тамошние работы Ван Дейка… Они божественны…
– У вас на это достаточно будет времени завтра, – сказала мисс Марш. – Я знаю наверное, что дядя поедет сегодня вечером, но вас всех оставит на берегу: «Дженни» будет страшно «плясать», а он не допускает, чтобы на его яхте болели. Смотри, как вода бушует даже в порту. А в море уже настоящая буря.
Ландо приехало на набережную к тому месту, где путешественников ожидала шлюпка с яхты. Действительно, мелкие волны дробились о камни; по всей бухте разбушевавшийся ветер поднял небольшое волнение, которое не в силах было раскачать грузные пакетботы, стоявшие на якорях, но подбрасывало увеселительные и рыбачьи лодки. Какая разница была между этим трепетанием седой стихии, которое чувствовалось даже в порту, укрытом двумя молами, и неподвижным зеркалом из цельного сапфира, которое вчера в тот же час простиралось в открытом Каннском заливе! Какой контраст между этим небом, затянутым облаками, и лазурью во время отъезда, между суровостью этого северного ветра и ароматным дыханием вчерашнего зефира!..
Но кому приходило в голову заметить это? Отнюдь не Флуренс Марш, которая, несмотря ни на что, была счастлива своим архаическим скальпом, который она увозила на борт яхты. Отнюдь не Андриане, которой перспектива провести ночь на суше сулила тихую, сладкую и верную надежду: она увидится со своим мужем, как с любовником, и, Корансез не обманывался в этом, пикантность этого тайного, но законного свидания после романтического брака окончательно кружила голову влюбленной женщине, которая в первый раз в течение стольких лет совершенно забыла про своего ужасного брата. Отнюдь не Отфейлю и его любовнице; они тоже предвкушали эти долгие часы ночи, которые проведут вместе.
Молодой человек шел позади вместе с Эли де Карлсберг и говорил ей весело и нежно, приближаясь к шлюпке с «Дженни», флаг которой – белый, черный и красный – развевался по ветру:
– Я начинаю верить, что этот милый Корансез прав, толкуя про свою линию счастья!.. И, кажется, оно заразительно…
Эли отвечала улыбкой, полной неги и обещаний, и в этот же самый момент матрос, стоявший на набережной возле шлюпки, протянул мисс Марш большой портфель. Это был курьер с яхты, которого послали справиться, нет ли чего для пассажиров на почте. Молодая американка начала разбирать пачку в пятнадцать – двадцать писем.
– Вот телеграмма вам, Отфейль, – сказала она.
– Вы увидите, – воскликнул он, продолжая шутить, – это хорошая новость…
Он разорвал желтую бумагу, и лицо его озарилось доброй улыбкой. Он протянул депешу госпоже де Карлсберг, промолвив:
– А что я вам говорил?
Вот что было в депеше:
«Покидаю Каир сегодня, буду Каннах воскресенье, самое позднее понедельник. Получишь новую депешу. Страшно рад свидеться снова. Оливье Дюпра».
VII. Оливье Дюпра
Вторая депеша была получена, и в понедельник около двух часов Пьер Отфейль входил на Каннский вокзал, собираясь встретить скорый поезд. На этом поезде в ноябре месяце прибыл из Парижа он сам, еще очень слабый, страдающий от плеврита, от которого он чуть не умер. Кто видел, как в тот ноябрьский день он выходил из вагона, исхудалый, бледный, зябко кутающийся в шубу, тот не узнал бы изможденного лихорадкой, только что вставшего с одра болезни в этом красивом молодом человеке, который шел по той же самой дороге четыре месяца спустя, стройный, гибкий, с розовыми щеками, с улыбкой на устах, с огнем счастья в глазах, озарявшим все его лицо.
Между двадцатью пятью и тридцатью пятью годами, в этот период энергии, созревшей, но еще не истраченной, у самых скромных, самых робких натур бывают часы, когда в малейшем их жесте сквозит жизнерадостное самодовольство: это признак того, что они любят, что и их любят, что вся окружающая природа как бы сговорилась благоприятствовать их любви и как волна приподымает их ощущение, что их страсти нет никаких препятствий на пути. Самая внешность их от этого проникается экстазом, как бы преображается. У них появляется другая походка, другая манера держать голову, другой взгляд. Можно сказать, что какое-то магнетическое сияние исходит от этих счастливых влюбленных и облекает их во временную красоту, относительно которой женщины никогда не обманываются. Они сразу узнают этот «влюбленный вид» и испытывают либо ненависть к нему, либо нежное чувство, смотря по тому, будут ли сами они ригористками или мягкосердечными, прозаическими натурами или романтичными.
Именно к последней категории принадлежали две особы, с которыми Отфейль встретился на маленьком центральном тротуаре, который служит платформой на Каннском вокзале. Одна была Ивонна де Шези, сопровождаемая мужем и Орасом Брионом, другая – маркиза Бонаккорзи, как она все еще продолжала называть себя официально. Ее конвоировал брат ее, Наваджеро.
Чтобы подойти к ним и поздороваться, молодому человеку пришлось пробираться через элегантную толпу, которая собирается тут каждый день в этот час, чтобы ехать в Монте-Карло. А в течение двух минут, пока длилась эта маленькая операция, две женщины и их кавалеры обменялись на его счет такими замечаниями, которые лишний раз ясно доказывали, что слабый пол отнюдь не скупится на едкие уколы.
– Смотрите, Отфейль! – сказала госпожа де Шези. – Как его сестра обрадовалась бы, увидев в нем такую перемену!.. Знаете ли, ведь он в самом деле очень красивый малый!..
– Очень красивый малый, – повторила венецианка, – и вид у него такой, что явно он даже и не подозревает этого… Это так мило!..
– Не надолго же вы оставите ему это достоинство, – вставил Брион. – Отфейль здесь, Отфейль там… у вас, – обратился он к Ивонне, – у маркизы, у госпожи де Карлсберг только и слышишь разговоры, что о нем… Это был просто какой-то мальчишка, безобидный и незначительный, как всякий другой, а вы из него сделали страшного позера…
– Не говоря уж о том, что в конце концов он скоро скомпрометирует одну из вас, если дело будет так продолжаться, – сказал Наваджеро, поглядывая на сестру.
После возвращения из Генуи прозорливый синьор начал замечать, что в Андриане происходит какая-то необычайная внутренняя работа, и стал искать причины этого, но, как можно видеть, в ложном направлении.
– А! Вы оба додумались до этого?.. – перебила Ивонна со смехом. – Хорошо же! Чтобы вас наказать, я сейчас попрошу его прежде всего сесть в наше купе, потом приглашу обедать с нами в Монте-Карло и поручу ему наблюдать за Гонтраном… Ему это необходимо… Обещайте, Пьер, – продолжала она, обращаясь к молодому человеку, который наконец стоял перед ней, – вы будете к моим услугам весь день и весь вечер… На вас возлагается обязанность доложить мне, в случае если мой муж и повелитель проиграет больше ста луидоров… Третьего дня он проиграл в trente-et-quarante тысячу. Две такие партии в неделю, и выйдет премиленький зимний бюджет… Мне тогда скоро придется приняться и за приданое…
Шези ничего не отвечал. Он продолжал теребить свои усы, нервно пожимая плечами. Но его лицо исказилось в принужденную улыбку, совсем не похожую на ту, с какой он обыкновенно принимал вольные и рискованные шутки своей жены. Катастрофа, предсказанная Дикки Маршем, была непредотвратима, и у несчастного джентльмена хватило ребячества, чтобы попытаться исправить свою беду, рискуя на зеленом поле в Монте-Карло крохами, которые у него оставались.
Жена его не знала настоящего положения дел. Таким образом, слова Ивонны были для него особенно жестокими, да и для нее самой, раз она произносила их при Брионе, профессиональном банкире светских женщин, впавших в нищету. Отфейль, просвещенный своими разговорами с Корансезом и госпожой де Карлсберг, остро почувствовал всю иронию подобного рассуждения в такой обстановке.
– Я не еду в Монте-Карло, – сказал он, – я пришел сюда встретить одного моего друга, которого и вы знаете: Оливье Дюпра.
– Который ухаживал за мной у вашей сестры?.. Да, да, я в него была влюблена, по меньшей мере пятнадцать дней… Отлично! Пригласите его пообедать с нами сегодня вечером: вы поедете с пятичасовым поездом.
– Но он женат.
– Пригласите его жену без всяких церемоний, – весело настаивала шалунья. – А ну-ка, Андриана, повлияйте на него, у вас больше силы, чем у меня…
И, продолжая свою роль балованного ребенка, она схватила Наваджеро под руку. Ничто ее так не забавляло, как мины итальянца, когда он знал, что его сестра говорит с глазу на глаз с каким-нибудь мужчиной, к которому он ее ревновал. Она и не подозревала, какую услугу оказывала своей подруге, которая воспользовалась этими несколькими секундами, чтобы сказать Пьеру:
– Он тоже приезжает с этим поездом. Я пришла только затем, чтобы видеть его. Будьте добры, скажите ему, что я назначила Флуренс Марш свидание на «Дженни» завтра утром, в одиннадцать часов. А потом, прошу вас, не обижайтесь, если Альвиз будет не особенно любезным: он забрал в голову, что вы ухаживаете за мной… Но вот и скорый поезд.
Локомотив показался из глубокой выемки, по которой идет путь под Каннами, и почти тотчас же Пьер увидел сияющий профиль господина де Корансеза. Он спрыгнул на землю, не дожидаясь, пока остановятся колеса, и, обнимая Отфейля, сказал ему громко, так, чтобы и его жена слышала:
– Как это мило было выехать мне навстречу! – и шепотом прибавил: – Постарайся на одну минутку освободить меня от присутствия моего свояка.
– Не могу, – отвечал Отфейль, – я ожидаю Оливье Дюпра. Ты, значит, не видел его в поезде?.. А, я вижу его…
И, покинув провансальца и не обращая внимания на новый акт matrimonio segreto, который разыгрывался на платформе вокзала, Пьер бросился к молодому человеку, который смотрел на него, стоя на подножке вагона, и улыбался ему с радостью и нежностью.
Оливье Дюпра был в тех же годах, что и Пьер, но казался старше на несколько лет – до такой степени его очень смуглое, сухощавое и помятое лицо было изборождено резко очерченными морщинами. Черты у него были неправильные и в общем носили страдальческий отпечаток, которого нельзя было забыть. Черные глаза с влажным, бархатистым блеском, ослепительно белые, крепкие зубы, густые, пышные волосы придавали его физиономии какую-то животную грацию, если можно так выразиться, грацию, которая скрадывала выражение горечи, застывшее на его губах, лбу и особенно на щеках. Он не был высок, но плечи и руки изобличали силу.
Едва выйдя из вагона, он также обнял Отфейля с порывистостью, которая чуть не вызвала слезы у него на глазах, и оба несколько минут смотрели друг на друга, забыв, и тот и другой, предложить руку молодой женщине, которая, стоя на довольно высокой подножке, с полной бесстрастностью дожидалась, чтобы который-нибудь из молодых людей вспомнил про нее.
Госпожа Оливье Дюпра была двадцатилетним ребенком, очень красивым, очень изящным; но в ее красоте было что-то неуловимое, тонкое, почти острое: ее золотистые волосы были такого светлого тона, что от них веяло холодом; в ее голубых глазах в этот момент выражалось что-то такое непроницаемое, неопределимое, что часто появляется у новобрачных, когда они видят мужниных друзей детства. Что чувствовала она к этому избранному другу, который был шафером Оливье, – симпатию или антипатию, доверие или недоверие?
Она ничем этого не выдала, когда молодой человек подошел извиниться, что он не поздоровался с ней с самого начала, и помог ей сойти. Она кончиками пальцев едва оперлась на руку, которую протянул ей Пьер. Но это могло быть и вполне естественной сдержанностью. Точно так же, как и фраза, которой она ему ответила, когда он осведомился у нее об их путешествии, могла выражать только вполне естественное желание отдохнуть.
– Мы отлично попутешествовали, – сказала она, – но после такого долгого отсутствия очень хочется попасть наконец домой…
Да, эта небольшая фраза была вполне естественна. Но она могла также означать в устах этой тонкой и холодной женщины: «Мой муж захотел увидеть вас, и я не могла этому воспрепятствовать. Не заблуждайтесь: я очень недовольна…» По крайней мере, такое толкование ее слов невольно зародилось в голове Отфейля, и он был благодарен Корансезу, который подошел к ним и таким образом избавил его от необходимости отвечать. Поезд пошел дальше, очистив для гуляющих свободное место, и южанин подбежал с протянутой рукой, с улыбкой на устах.
– Здравствуй, Оливье… Ты меня не узнаешь?.. Корансез, твой сосед по классу риторики. Если бы Пьер дал мне знать, что ты в поезде, мы пропутешествовали бы вместе и почесали бы языки!.. Ты выглядишь чудесно, тебе будто всего двадцать лет… Представь же меня, пожалуйста, своей жене…
– Я его и в самом деле не узнал, – говорил Оливье через пять минут, сидя в карете, которая везла его с Пьером и женой в отель «Пальм». – А между тем он не изменился. Это настоящий южанин со всей своей фамильярностью, несносной, когда она искренна, и пошлой, когда это комедия. Из всех противных вещей нашей родины – а выбирать есть из чего – самая противная, я думаю, старый лицейский товарищ. Только потому, что вас записали вместе в один из тех безводных колодцев, которые называются французскими колледжами, только потому он называет тебя уменьшительным именем, тыкает… Ты часто виделся тут с Корансезом?
– Он, по-видимому, очень любит вас, господин Отфейль, – сказала молодая женщина. – Соскочив с поезда, он прямо бросился вам на шею…
– Он немного экспансивен, – отвечал Отфейль, – но, право, он добрый товарищ и был для меня большой поддержкой…
– Удивляюсь и тебе, и ему, – возразил Оливье, – но почему ты ни разу не говорил мне про это в своих письмах? Я был бы любезнее…
Ничего особенного не было в таком начале разговора, но этого оказалось достаточно, чтобы между тремя собеседниками прошла та струйка стеснения, которая иногда портит самые желанные встречи. Отфейлю послышался легкий упрек в словах друга о письмах, а в замечании госпожи Дюпра он снова почувствовал холод неприязни. Он замолчал.
В эту минуту экипаж подымался по холмистой дороге, по которой они спускались с Корансезом в то утро, когда шли на «Дженни», и белый силуэт виллы Гельмгольц показался слева из-за серебристой чащи олив. В душе молодого человека с необычайной силой восстал образ его любовницы, и он невольно сделал сравнение между своей дорогой, своей божественной Эли и женой друга. Маленькая француженка, сидевшая рядом с ним, слегка надменная и сухая, при всей своей блестящей элегантности вдруг показалась ему такой незначительной, жалкой, безликой, такой совершенно неинтересной рядом со стройным и страстным образом великосветской аристократки!
Вся особа Берты Дюпра была проникнута той особенной, несколько серенькой трезвостью, которая служит ясным признаком хорошо воспитанной парижанки. Это особый тип. Ее дорожный костюм вышел из мастерской известного мастера, но она так заботилась избежать всего, в чем хоть отдаленно проглядывала бы эксцентричность, что дошла до полного обезличенья. Да, она была красива, как красива хрупкая и нежная куколка из саксонского фарфора; но физиономия у нее была до такой степени сдержанная, губы сжаты, глаза немы, что это милое личико совсем не возбуждало желания знать, какая душа скрывается за ним. Было вполне очевидно, что в этой душе нет ничего, кроме мыслей, одобренных светом, благопристойных чувств и комильфотных желаний.
Такого сорта женщины обыкновенно ищут в муже человека, который много пожил, и Оливье, развратив свое соображение среди бесчисленных похождений на поприще блуда и прелюбодеяния, естественным образом пришел к женитьбе на этом ребенке, красота которого льстила бы его самолюбию мужа и в то же время безукоризненная манера держать себя не давала бы повода к ревности.
Не менее естественно было и то, что Пьер, воспитанный в среде, проникнутой условностями, и заразившийся ее воззрениями, лишь теперь заметил в молодой женщине явную бедность ее натуры, всю ее посредственность и убожество, лишь теперь – благодаря сравнению. Впечатления такого рода очень быстро вызывают то удаление, отступление души куда-то назад, которое объясняют многозначительным словом, весьма удобным при своей таинственности: антипатия.
Пьер не испытывал этой антипатии при всех прежних встречах, когда госпожа Дюпра была еще Бертой Лионнэ. Однако она должна была бы еще больше не понравиться ему в своей родной среде, рядом с отцом, самым церемонным бюрократом, и матерью, типичной матроной из высшей парижской буржуазии. Но тогда в душе молодого человека еще спали романтические струнки, а теперь опьянение любви пробудило их и он стал понимать такие нюансы в женской натуре, которые раньше ускользали от него.
Однако он слишком плохо умел читать в собственной душе и не мог уразуметь, до какой степени эти последние недели изменили его склад мыслей, а потому чувство резкого неудовольствия, охватившее его от присутствия Берты Дюпра, он объяснил простым способом, который помогает нам оправдать все наши ошибки в диагнозе чужих характеров:
«Что такое в ней переменилось?.. Я знал ее такой милой в то время, когда она выходила замуж! А теперь это совсем другой человек… Да и Оливье переменился. Он был так влюблен, нежен, весел! А теперь кажется индифферентным и даже печальным. Что такое происходит?.. Неужели он несчастлив?..»
Экипаж остановился возле отеля «Пальм», когда эта мысль формулировалась в голове Пьера с такой беспощадной ясностью. Он повторял свой вопрос, следя взглядом за Оливье и его женой, которые входили в подъезд. Они шли, совещаясь, как распорядиться относительно багажа и горничной. Походка их была совсем различная, совсем несогласная, и уж одно это изобличало, что между этими двумя людьми, вероятно, произошел тайный разрыв. Именно в таких мелочах – невольном подражании, перенимании жестов друг у друга – любовники и супруги яснее всего выдают тайную гармонию, которая соединяет их. Оливье и его жена «шли враждебно». Приходится создавать новые выражения, чтобы передать те нюансы в движениях, которых не определяли, не анализировали, но которые с неоспоримой очевидностью кидаются в глаза.
И как ясна была фраза, сказанная Дюпра, когда конторщик отеля показал ему помещение, оставленное для него. Это помещение состояло из одной только спальни с большой постелью, из двух уборных – одна из них была очень большая – и из гостиной.
– А где же вы поставите постель для меня? Эта уборная очень мала…
– У нас есть другой номер, состоящий из гостиной и двух сообщающихся спален, – сказал конторщик, – но он на четвертом этаже.
– Это для меня безразлично, – отвечал Дюпра.
Его жена и он сели в подъемную машину, не обратив даже внимания на прекрасные цветы, которыми Пьер сам убрал вазы. Он приготовлял для Оливье и Берты такой брачный покой, какой он хотел бы приготовить, чтобы разделить его со своей Эли. Оставшись один, он вдохнул одуряющий аромат мимоз, смешанных с розами и нарциссами, а потом посмотрел в окно на светлый пейзаж, на Эстерелу, море и острова. Да ведь эта комната, залитая солнцем, с таким ароматом, с таким видом – это настоящее гнездышко для поцелуев, уютное, веселое. И первой мыслью Оливье было искать две отдельные спальни! Он не спал уже в одной постели с женой, а между тем они повенчались едва шесть месяцев тому назад!
Этот незначительный факт в соединении с другими наблюдениями и особенно с невольными его интуициями поверг Отфейля в самую глубокую задумчивость. Он припоминал свою первую ночь настоящей любви, эту ночь чудной близости на тесном пароходном ложе, с которого ему было так трудно подняться. Он припоминал вторую ночь, которую они вместе провели в Генуе, и как сладко было ему задремать на минутку, опустив голову на грудь своей любовницы. Он припоминал, как третьего дня Эли, уступая его мольбам, согласилась принять его ночью в своей спальне в вилле Гельмгольц; как он проскользнул в сад по откосу, не защищенному никакой изгородью, и добрался до теплицы; как он нашел открытую дверь и свою любовницу там. Она провела его в свою спальню по винтовой лестнице, которая шла из зала и служила только для нее одной. О! Какими трепещущими поцелуями обменялись они тогда, охваченные двойным могучим чувством – любви и страха!
В тот раз, когда ему пришлось уйти с этого ложа и из этой комнаты, его охватило отчаяние, исступление… Он возвращался один по пустынным дорогам при свете звезд, а в душе его теснились мечты о бегстве вдвоем, далеко-далеко, чтобы жить возле нее, как муж живет с женой. Право проводить на этом обожаемом сердце ночи, целые ночи, казалось ему драгоценным правом, самым драгоценным из всех прав – ночи, целые ночи, половину лет, и так до конца лет, половину жизни, и так до конца жизни; целые ночи, когда вместе со своим дневным туалетом женщина сбрасывает свою социальную оболочку и снова превращается в простое, естественное создание, украшенное одной только своей юностью, одной только своей любовью, доверчивое, нежное, преданное, – и никто другой не видит ее такой…
Значит, Оливье не питал подобных чувств к своей молодой жене? Но если он так мало любил ее после немногих месяцев супружеской жизни, то любил ли он ее хоть когда-нибудь? А если он никогда не любил ее, то зачем он женился?.. На этом месте мысли Пьера были прерваны: чья-то рука опустилась ему на плечо и внезапно вывела его из задумчивости. Перед ним снова стоял Оливье Дюпра, но уже один.
– Отлично! Я нашел, что было надо, – сказал он, – хоть немного высоко, но вид оттого только выигрывает. Ты ничего не собирался делать сейчас? Что, если бы нам пойти прогуляться!..
– А госпожа Дюпра? – спросил Отфейль.
– Надо дать ей время прибраться, – отвечал Оливье, – и, признаться, я вовсе не досадую, что придется немножко побыть с тобой с глазу на глаз. Люди хорошо разговаривают только вдвоем. Люди, я хочу сказать, мы… Если бы ты знал, как я рад снова свидеться с тобой!
– Дорогой Оливье! – сказал Пьер, которого умилило это восклицание, сделанное простым и задушевным тоном.
Они взяли друг друга за руки и глядели один на другого, как на платформе вокзала, не говоря больше ни слова. В «Fioretti»[34] святого Франциска есть рассказ, как однажды святой Людовик, переодевшись пилигримом, постучался в монастырь Сент-Мари-дез-Анж. Ему открыл другой святой, монах по имени Эгидио, и узнал его. Король и монах бросились на колени друг перед другом, а потом расстались, ничего не сказав. «Я читал в его сердце, – говорил Эгидио, – а он читал в моем».








