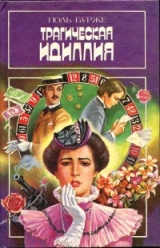
Текст книги "Трагическая идиллия. Космополитические нравы ..."
Автор книги: Поль Бурже
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
– А баронесса? – спросила итальянка.
– Вы желаете знать, любит ли его баронесса или не любит? – продолжал Корансез. – По счастью, вы верите в хиромантию, вы и мисс Флуренс, потому что я могу сказать вам в ответ лишь то, что открывает мне мой маленький талант прорицателя… Вы не прочь послушать? Отлично! – продолжал он после утвердительного кивка обеих дам со своим обычным видом, в котором сочеталась серьезность с мистификацией. – Линия сердца на руках баронессы совершенно красная, а это означает сильную страсть, притом же есть значок, который заставляет отнести эту страсть к тридцатому году ее жизни, – возраст, в котором она находится теперь. Не надо особенно удивляться, если эта страсть повлечет за собой трагическую смерть… Но не пугайтесь: не всегда сбывается то, что начертано на руке. Хотя, впрочем!.. Говорил ли я вам когда-нибудь, что вот тут, под горой Юпитера, у нее есть ясно очерченная звездочка, один из лучей которой образует крест соединения?
– И это значит? – спросила американка с тем интересом, с которым граждане этой страны, столь положительной, относятся к вопросам сверхъестественного порядка, «спиритуалистическим», как там говорят.
– Брак с принцем, – отвечал южанин.
Наступила минута молчания, в течение которой Корансез с особенным вниманием продолжал рассматривать Пьера Отфейля, потом искорка блеснула в его взоре, и тоном человека, которому только что пришла в голову славная мысль, он сказал:
– Маркиза! Что если бы его взять свидетелем, которого мы искали для церемонии в Генуе и не нашли?.. Мне кажется, что его присутствие на нашем венчании принесет нам счастье.
– Это правда, – отвечала госпожа Бонаккорзи. – Приятно в известные часы смотреть на честные, искренние лица. Но лишний соучастник тайны… Благоразумно ли это?..
– Если я предлагаю вам его, – возразил Корансез, – то верьте, что я отвечаю за его скромность. Мы с Отфейлем познакомились еще в ранней юности. Честность этого человека – как золото, испытанное в горниле! И уж во всяком случае, он гораздо надежнее, чем подкупленный свидетель, который всегда готов будет выдать, лишь бы ему заплатили побольше…
– Согласится ли он? – перебила маркиза.
– Это я узнаю завтра перед отъездом из Канн, если только вы в принципе не против этого выбора… Однако, – прибавил молодой человек, – в таком случае было бы более благоразумным пригласить его на яхту…
– Это уж будет мое дело, – сказала мисс Марш. – Но как и где представить его моему дяде? Не думаю, чтобы они были знакомы.
– Они познакомятся сегодня же вечером, – отвечал Корансез, – в том самом поезде, который всех нас повезет в Канны. Я пойду подготовить нашего влюбленного к этому шагу и не покину его до самого вагона, тем более, – закончил он, вставая, – что мы слишком уж долго заговорились здесь, и если стены тут не имеют ушей, то найдутся глаза… Мой друг, – продолжал он со вздохом, беря маленькую ручку госпожи Бонаккорзи, которая также поднялась, и сжимая ее со страстным порывом, – мне больше не придется говорить с вами до того великого дня. Скажите же мне лишь одно словечко, которое дало бы мне силы дожить до тех пор…
– Бог да сохранит тебя, amina mia[9], – отвечала госпожа Бонаккорзи голосом серьезным, почти торжественным, с этим «ты», которое изобличало глубину страсти, искусно вызванной ловким и хитрым господином.
– Это записано тут, – весело отвечал Корансез, показывая свою руку. – И тут, – прибавил он, кладя руку на сердце.
Потом, обращаясь к молодой девушке, он сказал:
– Мисс Флосси, когда вам потребуется отважный малый, который пошел бы ради вас на верную гибель, то одно лишь слово, и он бросится right away[10]…
И пока мисс Марш смеялась над этой невинной эпиграммой на один из маленьких идиотизмов языка янки, пока маркиза следила за провансальцем взором любящей женщины, сердце которой переполняется от каждого движения любимого человека, он сам пробирался к своему старому товарищу. В самом деле, в его движениях было столько могучей грации, столько гибкой силы, его походка была так легка и мужественна, что молодая американка не удержалась, чтобы вслух не высказать этого. Женщины этой энергичной расы, которая так много отводит места физическим упражнениям, целые часы проводят на открытом воздухе в атлетическом содружестве с игроками в теннис или гольф. Они вполне объективно и невинно ценят животную красоту мужчины и фигуру юного римлянина или грека.
– Как красив твой Корансез! – сказала она маркизе. – И притом в нем столько веселости, столько увлекательности! На мой взгляд, это типичный француз, именно такой, каких я себе воображала, когда читала еще в Марионвилле романы Александра Дюма. Как ты будешь счастлива с ним!..
– Очень счастлива! – отвечала итальянка. И повторила, как бы объятая мрачным предчувствием: – Очень счастлива, но Бог не допустит этого.
– Бог допускает все, чего мы хотим, если только мы действительно хотим и если это не преступно, – возразила мисс Флуренс.
– Нет, – настаивала ее собеседница. – Мне много пришлось налгать Альвизу. Я буду за это наказана…
– Если ты так думаешь, – сказала американка, – то почему ты не поговоришь с братом? Или, может быть, ты возложишь это на меня? Пять минут разговора, и на твоей совести не останется ни капельки лжи. Полагаю, что ты имеешь полное право выйти замуж. Деньги твои! Чего же ты боишься?..
– Ты не знаешь Альвиза, – перебила ее госпожа Бонаккорзи, и на лице ее отразился настоящий ужас. – А если он вызовет его на дуэль и убьет?.. Ну, все равно, будем делать, как условлено, и Мадонна да будет за нас!..
Она на секунду закрыла глаза и тяжело вздохнула. Флуренс Марш смотрела на нее с изумлением. Она, англосаксонка, воспитанная в полной самостоятельности, никак не могла понять магнетического ужаса, который внушал своей сестре Наваджеро.
А маркиза в своих мыслях далеко унеслась от игорных зал и от своей собеседницы. Она видела маленькую капеллу Богоматери у Сосен в Каннах, где в течение нескольких месяцев она каждый день заказывала мессу, чтобы простилась ей ложь брату. Она видела алтарь, пред которым заставила Корансеза стать на колени и обещать, что они вместе отправятся на богомолье в Лоретту, как только брак их будет оглашен!
Провансалец верил в Мадонну почти так же, как верил в линии руки, с полускептицизмом и полуверой ребяческой и хитрой южной натуры, весьма сложной, несмотря на примитивность своих инстинктов, искренней даже в рисовке и несколько суеверной в самых положительных расчетах. В угрызениях госпожи Бонаккорзи он видел самую прочную гарантию своего успеха: раз влюбившись, женщина, в которой соединялось подобное благочестивое усердие с бурей страстей, самым роковым образом должна была прийти к браку.
Но, с другой стороны, он почти верил сам, что зажженные в маленькой каннской церкви свечи охраняют его от мести ужасного брата, безусловно, способного на все, лишь бы не допустить, чтобы состояние сестры перешло в другие руки. Он слишком хорошо изучил страшный характер венецианца и потому не удивлялся, как мисс Марш, паническому ужасу своей невесты. Но при всей своей ярости, что поделает Альвиз против брака, совершенного настоящим священником по установленной форме, когда будет недоставать только гражданской санкции, которая для благочестивой маркизы была совершенно излишней?
Но, верный старому изречению «две предосторожности лучше одной», Корансез был не прочь пригласить на эту церемонию нескольких лиц из своего круга – оно могло пригодиться в день неизбежного объяснения. Как он раньше не вспомнил о старом товарище, которого нашел этой зимой в Каннах и который был чист сердцем и невинен душой так же, как в то время, когда они вместе учились в старом лицее Людовика Великого?
С первого же рукопожатия, которым они обменялись при теперешней встрече, Корансез почувствовал эту юношескую невинность, эту чистую правдивость друга своей юности. Почувствовал он их и в невинном увлечении Отфейля баронессой Эли де Карлсберг. День за днем на его глазах вырастала эта страсть, о которой он только что рассказал своим собеседницам. Но он не сказал им, что, по его мнению, баронесса увлеклась молодым человеком не менее чем он ею. Тут он действительно мог похвалиться своей прозорливостью, которая и в этом случае, как и во многих других, оказалась незаурядной.
Но как ни был прозорлив южанин, а все же он не предвидел, что, воспользовавшись своим открытием для собственной выгоды, он превращал в драматический эпизод ту оперу-буфф, которой должен был быть его брак с госпожой Бонаккорзи. Когда Корансез говорил о самом себе и о своей знаменитой линии счастья, то постоянно повторял: «У меня всегда выходят забавные штуки…»
Действительно, в жизни, кажется, встречаются два весьма различных типа людей, и их вечное существование доказывает законность двух точек зрения на жизнь, в течение веков проводимых в комедии и трагедии. Каждый человек примыкает к одной из этих категорий, и редко встречаются люди, в которых смешиваются оба элемента. Для одного типа субъектов, похожих на Корансеза, самые романтические положения сводятся к водевилю. У другого класса, к которому – увы! – принадлежал Пьер Отфейль, наоборот, самые простые эпизоды превращаются в драму. Если первые любят, и любят искренно, то никогда любимая женщина не причинит им боли. Другие обречены на глубокие потрясения, на тяжкие волнения: все их идиллии суть трагические идиллии.
И действительно, стоило только поглядеть на двух молодых людей, один подле другого, в ту минуту, когда Корансез положил руку на плечо Отфейля, и с полной очевидностью обнаруживалась противоположность между этими типичными представителями персонажа из комедии и героя из трагедии: один крепкий и веселый, с блестящими глазами, с чувственными губами, самоуверенный и как бы брызжущий благодушием; другой – хрупкий и нежный, взор омрачен думой, он готов на страдание при малейшем соприкосновении с жизнью.
Когда подошедший пробудил его от мечтаний, то по его телу пробежала дрожь от враждебного чувства, которое он едва скрывал. Но эта враждебность не обидела хитрого южанина. Он отлично знал, что она бесследно исчезнет, стоит только произнести одно имя. Заставив своего друга подняться, он взял его под руку и начал так:
– Что за странная скрытность явиться сюда, не предупредив меня? Скрытность и глупость! Мы преспокойно могли бы пообедать. Сегодня я был за столом в самом лучшем обществе Монте-Карло: госпожа де Карлсберг, госпожа де Шези, мадемуазель Марш, госпожа Бонаккорзи. Ты не соскучился бы…
– Да в пять часов я и сам не знал, что поеду с шестичасовым поездом, – отвечал Отфейль.
– Знаю я это, – продолжал Корансез, – некоторые очень спокойно сидят в своей комнатке в Каннах, но вдруг, подобно Жанне д’Арк, слышат голоса, только совсем другие: «Rien ne va plus… Messieurs, faites vos jeux…». И вот банковские билеты начинают корчиться в их бумажниках, а луидоры танцевать в кошельках, и человек, сам не зная как, попадает за зеленое поле. Выиграл ты, по крайней мере?
– Никогда не играю, – отвечал Пьер.
– Все имеет свое начало, – возразил другой. – Но скажи, пожалуйста, ты часто сюда являешься?
– Сегодня первый раз.
– И ты всю зиму провел в Каннах! Недаром Дюпра называет тебя «мадемуазель Пьерретта». Ты слишком молод, чтобы быть таким благоразумным. Берегись, молодость возьмет свое. Кстати, речь зашла о Дюпра… Не имеешь ли ты известий о нем?
– Он все еще на Ниле с женой, но уже на пути в Каир, – отвечал Отфейль. – Он даже настаивал, чтобы я присоединился к ним…
– Но ты не пожелал ехать и провести с ними конец их медового месяца… Это еще благоразумнее, чем не играть, – подхватил Корансез. – Вот что значит не ехать в свадебное путешествие на здешний берег, как то делается во всем свете: хотят сфинксов, пирамид, пустынь, катарантов, разрушенных храмов… А в конце концов соскучатся со своей женой и ей опостылят, не успев даже устроить домашний очаг…
– Но уверяю тебя, что Оливье очень счастлив, – отвечал Отфейль с живостью, показывавшей, как близок был его сердцу друг, о котором Корансез говорил так шутливо.
Затем без сомнения, чтобы сразу обрезать всякие комментарии касательно отсутствующего, он прибавил:
– Да и что такое, говоря серьезно, свадебное путешествие сюда! Неужели ты находишь интересным это общество? – Он показал на толпу игроков, которая становилась вокруг столов все возбужденнее с каждой минутой. – От Ниццы до Сан-Ремо раскинулся рай растакуэров[11]. Это пошло, это гадко, это унизительно. Роскошная природа, опозоренная людьми, – вот этот берег… Серьезно, Оливье прав, предпочитая пустыню: стоит ли труда покидать Париж, чтобы ехать сюда и найти карикатуру на него?
– Это мнение парижанина, – молвил провансалец.
После эпизода в аристократическом клубе он питал против столицы злобу, которую облегчил, повторяя:
– Растакуэры! Растакуэры! Произнеся эту анафему, вы думаете, что все выразили. Но, говоря это, вы и не подозреваете, что близок тот час, когда вы, гордые парижане, станете провинциалами для Европы. Но это так, это так… Кто же отрицает, что на Ривьере есть авантюристы? Но зато сколько тут истинных аристократов! И эти истинные аристократы, разве они парижане? Нет, это англичане, русские, американцы. А взгляните на итальянцев, которые обладают не меньше вас умом и изяществом, да еще обнаруживают под этим изяществом темперамент, чего у вас никогда не было, и веселость, что вы совершенно утратили. А иностранки, которые встречаются на здешнем берегу! Говорить ли нам об иностранках? Не сравнить ли нам их с той куклой без сердца и ума, этой тщеславной игрушкой из папье-маше, которую называют парижанкой…
– Во-первых, я сам вовсе не парижанин, – перебил Отфейль. – Ты забываешь, что семь месяцев из двенадцати я провожу в моем тихом Шамгане и что мои бедные овернские горы вовсе не походят на бульвары. А во-вторых, я согласен со второй половиной твоего парадокса: да, некоторые из здешних женщин прямо поражают своим изяществом, образованием, умом и красотой… Однако, – прибавил он, покачивая головой, – эта красота разве сравняется когда-нибудь с обворожительностью не парижанки (я за это не стою), а настоящей француженки с изящным умом, с тонкой тактичностью, словом, с поэзией истинного чувства меры и вкуса?..
Его мысли парили, и он не обращал внимания на тонкую, едва заметную усмешку, бродившую на губах его собеседника. Господин Корансез не был человеком, способным на продолжение такого пустого разговора. Он слишком мало заботился, проводит ли Оливье Дюпра свой медовый месяц среди могил фараонов или в Корнише, а про этого старого товарища, самого близкого друга Отфейля, он заговорил только для того, чтобы придать их разговору некоторый характер интимности. Фразы, которые Отфейль только что произнес касательно иностранок, доказали Корансезу лишний раз, насколько он был прав, считая друга влюбленным в госпожу де Карлсберг.
И в ту же минуту он снова вернулся к осуществлению своего проекта. Оба друга в этот момент проходили мимо стола с trente-et-quaranle. И как раз за этим столом сидело одно из лиц, имевших весьма близкое отношение к задуманному плану: дядя мисс Марш, один из самых знаменитых железнодорожных королей Америки, Ричард Карлейль Марш, или проще Дикки Марш, тот самый, который в известный день, сам того не подозревая, должен был одолжить свою яхту для свадебной поездки маркизы Бонаккорзи.
Час тому назад Корансез думал представить Отфейля владетельному янки в вагоне на обратном пути. Но почему же не начать подготовку почвы для этого знакомства теперь же?
– А я тебя уверяю, – заговорил он, – что в этой иностранной колонии немало мужчин столь же интересных, как и их жены. Иностранцы стоят иностранок. Мы только мало обращаем на них внимания, потому что они не так красивы на вид. Вот и все.
И затем продолжал:
– Я вижу одного из них за этим игорным столом. Я тебя с ним познакомлю. Вчера мы встретились с его дочерью у баронессы Эли. Это Марш, американец… Я хотел бы, чтобы ты посмотрел, как он играет… Прекрасно, кто-то встает. Не отставай от меня, мы сейчас воспользуемся проходом и проберемся в первый ряд…
И тотчас же южанин ловко протиснулся вместе с Отфейлем через внезапно раздавшуюся и моментально снова сомкнувшуюся толпу зрителей. Он устроил так, что они оба попали как раз за кресло крупье, сдававшего карты, и теперь могли ясно видеть весь стол и подмечать малейшие жесты игроков.
– Смотри хорошенько, – снова заговорил Корансез вполголоса, – вон Марш…
– Этот маленький человек с серым лицом, с целой пачкой банковских билетов перед ним?
– Он самый. Ему нет еще пятидесяти лет, и он стоит уже десять миллионов долларов. Девятнадцати лет он был кондуктором на конке в Кливленде, штат Огайо. И вот этот самый человек, которого ты видишь, основал город, в котором теперь насчитывается пятьдесят тысяч жителей. Он назвал его по имени своей жены, Марионвиллем.
Свое состояние он нажил буквально собственными руками. Рассказывают, что он сам вместе с рабочими пролагал по прерии первые километры железнодорожного полотна своей компании, которой теперь принадлежит более трех тысяч километров пути.
Изучай хорошенько эти руки рабочего. Как ловко они теперь действуют на зеленом поле! Гляди, как они сильны и в то же время необыкновенны. Узловатые пальцы говорят об обдуманности, здравомыслии и расчетливости. Концы этих пальцев слегка приплюснуты – это склонность к тираническим поступкам, любовь к подвижности и наклонность к мрачным мыслям.
Я тебе расскажу про его поведение после смерти дочери… Видишь ты большой палец? Оба сустава одинаково велики, это соединение воли и логики; он сдвинут назад – это расточительность. Марш пожертвовал сто тысяч долларов на Марионвилльский университет… А вглядись в эти жесты: сколько решительности, сколько спокойствия в его игре, какое отсутствие нервности… Разве это не мужчина? А?
– Это все-таки прежде всего господин, у которого много денег, – отвечал Отфейль, которого забавлял азарт друга, – столько денег, что ему совершенно безразличен проигрыш…
– А вот другой, через два места от Марша, – продолжал Корансез, – разве у него нет денег? Этот субъект с розеткой, очень красный, с неловкой фигурой! Ты его не знаешь? Это Брион, финансист, директор одного из крупнейших банков. Разве ты не встречал его у госпожи де Карлсберг? Его жена близкая подруга баронессы Эли…
Он хотя и миллионер, а посмотри на его руки, как они нервны и жадны. Замечаешь, что у него большой палец шаром: это знак преступности. Смотри, если этот парень не вор!.. А его манера брать банковские билеты… Разве не достаточно характеризует этот жест его грубость?
А дальше, рядом с ним, погляди, играет глупец. Посмотри на Шези с его заостренными, мягкими пальцами: два средних одинаковые – палец Сатурна и палец Солнца. Это несомненный признак игрока, которому суждено разориться, особенно, если он лишен логики, а на это указывает его большой палец. И он еще считает себя дельцом! Он обделывает делишки с Брионом, а тот волочится за госпожой Шези. Предчувствуешь ты неизбежный конец?..
– Эта красавица госпожа Шези, подруга моей сестры? – с живостью воскликнул Отфейль. – И этот негодяй Брион?.. Да это невозможно…
– Я же не сказал, что у них что-нибудь уже было, – отвечал южанин. – Я только сказал, что, принимая во внимание ничтожность мужа и его страсть к игре и здесь, и на бирже, есть основание опасаться, что в один прекрасный день дойдет до того… А, господин пуританин, вы негодуете, но зато скука исчезла… Право, этот уголок вовсе уж не так банален, если только пожелаешь открыть глаза. И признайся: из двух парижан и растакуэра, которых мы только что видели, ведь интересен-то как раз растакуэр!..
С этой фразой молодые люди покинули свой наблюдательный пост. Теперь Корансез увлек своего спутника в залы с рулеткой, причем произнес слова, которые заставили Отфейля содрогнуться с головы до ног:
– Если это не производит на тебя впечатления, так не поискать ли нам госпожу де Карлсберг? Я оставил ее за одним из этих столов и хочу попрощаться с ней… Представь себе, она ненавидит, когда знакомые присутствуют при ее игре… Но, вероятно, она проиграла уже все свои деньги и давно ушла…
– Она часто и много играет? – спросил Отфейль, который теперь уже вовсе не желал покидать своего старого товарища.
– Да, она играет, и часто, но и это она делает, как и все остальное – из каприза или от скуки, – отвечал Корансез. – И ее брак вполне оправдывает это. Ты знаешь принца? Очень мало. Но ты знаешь его привычки. Скажи мне, есть ли тут смысл – принадлежать к Габсбургско-Лотарингскому дому, называться эрцгерцогом Генрихом-Францем, иметь такую жену и в то же время проповедовать анархистские идеи, шестнадцать часов из двадцати четырех проводить в физической лаборатории и обжигать себе руки, бороду и глаза в огне горна, принимать друзей баронессы, как он их принимает, когда удостаивает показаться им…
– В таком случае, – спросил Отфейль и рука его задрожала под рукой друга, когда он предлагал этот наивный вопрос, – ты думаешь, что она несчастлива?
– Да стоит только взглянуть на нее, – отвечал Корансез, который, наконец, поднявшись на носки, узнал госпожу де Карлсберг.
Это был как раз единственный стол, к которому Пьер не подходил, когда осматривал залы, потому что его отбросила волна народа, которая скучилась там теснее, чем во всех других местах. Корансез сделал знак своему товарищу, который был недостаточно высок, чтобы смотреть поверх этой массы плеч и голов, и начал пробираться, таща за собой робкого спутника, через эту живую стену зрителей и зрительниц, любопытство которых было, казалось, возбуждено до крайней степени. Молодые люди поняли причину этого, когда после долгих минут нечеловеческих усилий они снова заняли такое же место за креслом крупье, какое занимали только что возле стола с trente-et-quarante.
Там происходила, действительно, одна из тех необычайных игр, которые потом попадают в легенды этого прибрежья и затем расходятся по всей Европе и по обеим Америкам. Как будто кто-то ударил Отфейля, когда он сообразил, в чем дело: героиней игры была именно та баронесса Эли, милое имя которой – нежное австрийское уменьшительное от «Елизавета» – постоянно отзывалось в его сердце, как очаровательная музыка.
Да, действительно, госпожа де Карлсберг была теперь центром всех взоров этой публики, обыкновенно столь бесчувственной. Поддаваясь соблазну азартной игры, она и тут умела сохранить какую-то нежную и покоряющую грацию, которая внушала молодому человеку чувство страстного обожания. О! Как она была горда даже в этот момент, как она была прекрасна!
Ее легкий бюст, единственная часть ее тела, которую можно было видеть, был одет в корсаж из лилового шелка, отделанный оборками из черного шелка, с такими же рукавами, которые, казалось, дрожали при каждом ее движении. Аграф из крупного дунайского жемчуга, с бриллиантами кругом, застегивал этот корсаж, на котором блистала длинная золотая цепочка от часов, тоненькая и усыпанная камнями с чудной игрой. На голове у нее была очень маленькая шляпа, сделанная из двух крылышек, отделанных лиловым шелком и серебром. Эта модная безделушка на тяжелых косах ее черных волос и бьющий на эффект туалет представляли резкий контраст и с ее лицом, и с ее занятием, которым она была поглощена в этот момент.
На лице этой женщины сияла столь редкая во времена нашей стареющей цивилизации величавая красота, которая не поддается разрушительному действию лет и горя, потому что она заключается в основной соразмерности частей: в форме головы, в линии лба, в строении челюстей, в зрачках глаз. Но если вы узнаете, что в ее жилах текла греческая кровь, то для вас станет понятна классическая изящность этого лица.
Ее отец, генерал Заллаш, бывший тогда адъютантом при коменданте Зары, женился по любви на черногорке, которая сама была дочерью уроженки Салоник, и только эта наследственность могла создать то величавое и вместе изящное лицо, на котором матовая и знойная белизна кожи окончательно закрепляла какой-то неопределенный восточный колорит.
Только в одних глазах не было блаженного или страстного огня восточных очей. Они были какого-то неуловимого оттенка, темные, почти с желтизной, с каким-то неизъяснимым выражением зрачков, как будто внутренняя боль омрачала взор. В них читалась такая глубокая скука, такое неисцелимое утомление, что, разглядев это выражение, вы невольно стали бы жалеть эту женщину, столь одаренную на первый взгляд, и вы почувствовали бы стремление исполнять малейшие ее желания, лишь бы только с этого чудного лица исчезло это выражение хоть на одну секунду. Но, без сомнения, это была просто игра физиономии, которая ничего общего с душевным настроением не имела, потому что дивные глаза сохраняли свое странное выражение даже в настоящую минуту, когда баронесса Эли вполне отдавалась безумной фантастичности своей игры.
С тех пор, как Корансез расстался с ней, она выиграла громадную сумму: перед ней высилась пачка тысячефранковых билетов, пожалуй, до пятидесяти, – и целая колоннада из монет в двадцать и сто франков. Прелестная ручка в перчатке, вооружившись лопаточкой, с грациозной ловкостью хозяйничала среди этих куч денег, и – это и возбуждало вокруг ее игры лихорадочное любопытство – она каждую очередь рисковала наивысшей ставкой: девять луидоров на цифру (цифру ее лет – 31), столько же на карре и шесть тысяч франков на черную. Размеры возможного выигрыша и проигрыша были так велики, а она относилась к тому и другому с такой очевидной бесстрастностью, что, вполне естественно, стала душой партии и вокруг нее раздавались бесчисленные замечания, на которые она, по-видимому, обращала столь же мало внимания, как и на движение шарика на рулетке.
– Уверяю вас, это эрцгерцогиня, – говорил один.
– Нет, это русская княгиня, – возражал другой. – Только русские и способны на подобную игру.
– Ее цифра вышла сейчас три раза подряд. Если она выйдет еще раз, банк лопнет!
– Э, нет, на цифре она не может выиграть… Ее спасает цвет.
– Я верю в ее звезду. Я ставлю на ее цифру.
– А я играю против нее. Она начала теперь проигрывать.
– Руки… – говорил Корансез, нагибаясь к уху Отфейля, – взгляни на руки: даже и под перчатками видны руки аристократки и фантазерки. Посмотри на другие, как вытягиваются и прячутся эти жадные и дрожащие пятерни. Все кажутся плебейскими, когда взглянешь на ее пальчики… Но можно сказать, что мы принесли ей несчастье. Красная и 7… Она проиграла… Красная, 10… Еще проиграла… Красная и 9… Снова проигрыш… Красная и 27… Она потеряла двадцать пять тысяч франков! Если бы это слово не было вульгарным в приложении к такой красивой женщине, то я сказал бы: «Ай да бабища!» Она продолжает…
Молодая женщина действительно продолжала распределять свое золото и билеты на ту же цифру, то же карре, тот же цвет, но, по-видимому, ни эта цифра, ни карре, ни черная не хотели больше выходить. Еще несколько ставок, и монеты в двадцать и сто франков исчезли, как бы потонув в бездне, а вслед за ними и билеты отправились под лопаточку и присоединились к куче, выросшей перед крупье.
Не больше четверти часа прошло с того момента, когда Отфейль и Корансез начали следить за этой партией, а перед баронессой Эли не было уже ничего, кроме маленького пустого кошелька и какой-то драгоценной вещицы варварского типа: коробочки для папирос русской работы из массивного золота, инкрустированной сапфирами, рубинами и алмазами.
Молодая женщина взяла эту коробочку в руки, как бы взвешивая ее, в то время как новый удар рулетки опять дал красную. Уже в одиннадцатый раз выходил этот цвет. С тем же видом безразличия, она обратилась к своему соседу, толстому господину лет пятидесяти, с квадратной головой и в очках, который бросил всякий расчет и прямо играл против нее. Теперь перед ним высились целые груды золота и билетов.
– Милостивый государь, – сказала она ему, протягивая коробочку, – не дадите ли вы мне двадцать пять луидоров за этот ящичек?..
Она говорила довольно громко, так что Отфейль и Корансез слышали, как она произносила эту до странности неожиданную фразу.
– Да ведь это нам надо ее умолять, чтобы она позволила нам одолжить ей деньги… – сказал Пьер.
– Я тебе этого не советую, – возразил другой. – Баронесса очень умеет быть эрцгерцогиней, когда захочет, и я полагаю, что она плохо нас примет… Да притом же тут всегда найдется какой-нибудь золотых дел мастер, который охотно купит вещь за такую цену, если господин в очках откажется… Он отвечал ей по-немецки… Она не понимает… Ну, что я тебе говорил?..
Как будто нарочно, чтобы оправдать претензию Корансеза на пророческий дар, как раз в ту самую минуту, когда госпожа де Карлсберг по-немецки повторяла соседу свой вопрос, из толпы выдвинулась крючконосая физиономия торговца драгоценностями, рука протянула билет в пятьсот франков, золотой ящичек исчез, а аристократка даже и не удостоила взглядом этого господина – одного из бесчисленных ростовщиков, которые занимаются за этими столами тщетно преследуемым ремеслом.
Она взяла билет и даже не потрудилась разогнуть его, потом подождала, пока красная вышла еще два раза, как будто колеблясь, и, наконец, кончиком своей лопаточки подвинула билет к крупье, со словами:
– На красную.
Шарик снова забегал. Вышла черная. Тогда баронесса Эли взяла свой веер и пустой кошелек и встала. В сутолоке, происшедшей при ее отъезде, расталкивая сам толпу, чтобы попрощаться с дамой, так смело игравшей, Корансез вдруг заметил, что потерял Отфейля.
«Нет на свете более глупого человека, чем этот бедняга», – подумал он, подходя к госпоже де Карлсберг.
Если бы в течение этих нескольких минут он не был всецело поглощен тщеславным удовольствием разговаривать с супругой австрийского герцога, хотя бы и морганатической, то он заметил бы, что его спутник в это же время пролагал себе путь к господину, купившему ящичек, столь фантастически предложенный и проданный. И, может быть, он нашел бы весьма недурным коммерческий оборот, сделанный этим беднягой, если бы видел, как он вынул из кармана бумажник, а из бумажника два банковских билета и как купец передал ему тот самый предмет, который только что блестел на рулеточном столе перед баронессой Эли. Ростовщик продал коробочку влюбленному за сумму втрое больше той, которую заплатил сам. Так зарождаются крупные фирмы!
II. Крик души
Если поступок Пьера Отфейля ускользнул от недоброго взора Корансеза, то это еще не значит, чтобы его совсем никто не заметил. Другая личность видела, как баронесса Эли продала ящичек для папирос и как молодой человек перекупил его. И эта личность была такая, что влюбленный романтик, конечно, должен был скорее всего опасаться ее приметливости. Быть замеченным ею или госпожою де Карлсберг – это было совершенно одно и то же: свидетелем обеих торговых сделок был не кто иной, как госпожа Брион, поверенная баронессы Эли, ее задушевный друг, у которого на вилле она провела целую неделю. Мог ли такой друг не передать того, что видел?








