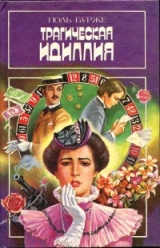
Текст книги "Трагическая идиллия. Космополитические нравы ..."
Автор книги: Поль Бурже
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Теперь ты избегнешь подобных угрызений. Женись на этой женщине. Продай наше изобретение этому аферисту… Продай ему науку! Я уполномочиваю тебя. Но я больше не увижусь с тобой… Слышишь ли ты, что ты собираешься продать ему науку! Продай, но знай, что ты продаешь, и знай также, что, поступая так, ты становишься причастным к самой низменной стороне нашего времени, к той необъятной вине всего общества, которую невежды называют цивилизацией. Из твоего открытия, из твоих открытий – ведь ты останешься по-прежнему тружеником и гением – твой новый хозяин будет извлекать миллионы за миллионами, а миллионы означают презренную роскошь и извращенные пороки наверху, смрад нищеты и рабства людского внизу…
О! Как верно оценил я эту девочку с первого же дня! Вот ее работа! Она явилась, и ты не устоял. Против чего? Против улыбок и взглядов, которые дарились бы другому, если бы ты не встретился на пути, первому встречному глупцу с красивым торсом и усами!.. Против туалетов, главным образом, и против роскоши!..
Позволь мне продолжать! Через час ты будешь возле нее и будешь с ней смеяться, сколько захочешь, над твоим старым учителем, над твоим другом… Ты не знаешь, чего стоит такой друг, как я, который любил бы тебя, как любил я! Ты поймешь это в тот день, когда измеришь разницу между тем, что ты покидаешь – это идейное общение двух мужчин, эту возвышенную близость двух умов, – и тем, что ты предпочел: принижающую, обманывающую, отравленную жизнь, в которую ты вступаешь…
Прощай, Вердье! – и у странного человека нашлись для этого слова звуки, полные бесконечной горечи и грусти. – Ты женишься на этой девушке, я читаю это в твоих глазах. Раз оно так, то уходи, я предпочитаю никогда больше не видеть тебя. Будь счастлив, опираясь на знания, полученные от меня. Ты мог бы получить их иным путем, и мы квиты: я обязан тебе лучшими часами в течение нескольких лет моей жизни. Поэтому прощаю тебя. Но, повторяю, я не увижу тебя более. Все кончено между нами… А вы, сударыня, – продолжал он, пронизывая Эли молниями ненависти, – вам я обещаю, что мы еще встретимся…
XII. Развязка
Эта угроза была произнесена голосом, в котором звучало твердо принятое решение, но она не заставила молодую женщину опустить глаза. Эта сцена была роковой для Эли, потому что она окончательно навлекла на себя ненависть мстительнейшего и несправедливейшего человека, но, возвращаясь в свою комнату, она думала только об одном пункте, не имевшем никакого отношения к ее защите от козней принца.
Слушая, как эрцгерцог испускал страстные вопли о погубленной дружбе, она слишком отчетливо представила себе, каким должен был быть разговор двух других друзей – Оливье и Пьера. Она живо поняла чувство, которое соединяло их против нее: это возмущение несчастного мужчины против женщины и любви, это стремление укрыться в мир братских отношений между двумя мужчинами, как в единственную крепость, где его не в состоянии будет настигнуть женщина, загубившая всю его жизнь. Она видела любовь в борьбе с дружбой.
В сердце Вердье любовь победила: к принцу он питал лишь чувство ученика к учителю, клиента к покровителю, чувство уважения и признательности; наконец, Вердье уважал женщину, которую любил. Совершенно иначе держал бы он себя, если бы платил своему покровителю дружбой за дружбу, как Пьер Оливье, и особенно, если бы он думал о Флуренс Марш так, как Пьер думал о своей любовнице!
Это сходство и это различие поразили Эли, когда она выходила из лаборатории, с такой силой, что остатки физической энергии истощились у нее. Необходимость действовать ради других более не поддерживала ее. Она была одна, лицом к лицу с самой собою, и, как всегда бывает после слишком сильных потрясений и чрезмерного напряжения энергии, ее организм обессилел.
Едва вернулась она к себе, как у нее началась страшная мигрень, доходившая почти до агонии. Да, подобные кризисы и в самом деле похожи на агонию нервной системы, на которую воля возложила непосильное бремя, и она вопит о пощаде. Эли не пыталась бороться. Она легла, как больная, послав сначала депешу единственному человеку, присутствие коего могла вынести, единственному, от которого ждала она поддержки, – преданной Луизе Брион, своей подруге, почти забытой в течение последних недель.
– Это мой друг, – повторяла она сама себе, – и наша самоотверженная дружба выше их дружбы, которая скреплена ненавистью…
В своем глубочайшем несчастье она тоже прибегла к дружбе. Она была не права, думая, что Луиза более преданна ей, чем Оливье Пьеру или эрцгерцог Вердье. Но она не ошибалась, полагая, что эта преданность была другого характера.
В самом деле, мужская дружба отличается от женской прежде всего тем, что первая почти всегда является смертельным врагом любви, а вторая чаще всего оказывается снисходительным союзником ее. Редко бывает, чтобы друг участливым оком смотрел на любовницу своего друга, подруга же, наоборот, даже самая честная, сохраняет искреннюю симпатию к любовнику своей подруги, лишь бы этот любовник составил ее счастье.
Это происходит оттого, что большая часть женщин влюблена в самое чувство любви, во всякую любовь, в чужую так же, как и в свою. Мужчина, наоборот, в силу инстинкта, в коем чувствуется гордый деспотизм первобытного самца, принимает к сердцу только один вид любви – любовь, которой пылает он или которую он внушает.
Мы уже видели, что Луиза Брион была воплощенным благожелательством и состраданием к Отфейлю еще в то время, когда, выслушав исповедь Эли в саду своей виллы, она умоляла ее отказаться от этой опасной любви. С того вечера она с особым интересом следила за молодым человеком, за его чувствами, за его тревогами и пустила в ход все красноречие обеспокоенной нежности, чтобы упросить свою подругу не видеться больше с ним никогда.
Позже, когда Эли безвозвратно предалась своей любви, Луиза удалилась, исчезла, отчасти из скромности, чтобы не мешать влюбленным своей обременительной близостью, отчасти из стыдливости и немного чопорного смущения честной женщины перед запретными наслаждениями.
Но ни одной минуты в своем удалении и уединении не испытывала она ни малейшей враждебности к Пьеру. Ее нежное женское воображение постоянно и невольно заставляло ее переживать страстный роман ее подруги. В ней продолжало совершаться странное перемещение центра тяжести личной жизни, то перемещение, которое всегда заставляло ее мысленно жить больше жизнью Эли, чем своей собственной.
Но особенно после возвращения Оливье такое отождествление собственного сердца с сердцем дорогой подруги достигло у нее совершенной полноты. Тот обед в Монте-Карло, в двух шагах от супругов Дюпра, потряс ее и довел до лихорадочного состояния; и с тех пор уже ожидала она этого призыва от сестры, этого приглашения разделить ужасы, битвы, все страдания любви, блаженством которой она тщетно хотела пренебречь.
Таким образом, она не была ни удивлена, ни обманута депешей Эли, которая сообщила всего лишь о пустячной болезни. Сразу же угадала она всю катастрофу и еще до наступления вечера сидела у постели несчастной, с готовностью выслушивая и сама вызывая полную откровенность, не имея уже сил осуждать это горе. Чтобы осушить слезы, которые катились по этому дорогому лицу, чтобы укротить жар этой маленькой руки, которая жгла ее руку, она была готова на всякую слабость, на всякое снисхождение, на всякую помощь!
Впервые Эли попросила ее помощи по самому невинному поводу лишь через два дня: в течение тридцати шести часов ее мучила страшная мигрень. Как все люди физически сильные, Эли никогда не была здорова или больна наполовину.
Когда наконец она заснула тяжелым сном, что всегда следует за подобными потрясениями, то она снова почувствовала в себе такую же энергию и силу воли, как накануне удара, поразившего ее среди упоения счастьем; но она еще не знала, как употребить эту вновь обретенную энергию.
И вот снова она задалась вопросом, от ответа на который зависело все ее дальнейшее поведение: «В Каннах ли еще Пьер?» Она надеялась, что днем ее посетит кто-нибудь и выведет из неизвестности. Но ни одно лицо, побывавшее у нее, не произносило даже имени Отфейля, а сама она не имела смелости назвать молодого человека. Ей казалось, что как только она вымолвит эти звуки, ей в лицо бросится кровь, и чувства ее немедленно будут замечены всеми.
Между тем в этот день у нее были лишь самые преданные друзья. Сначала явилась Флуренс Марш с глубокой и спокойной радостью в блестящих глазах, с ясной улыбкой на губах, за которыми сверкали красивые белые зубы.
– Я пришла поблагодарить вас, дорогая баронесса: я помолвлена с господином Вердье. Я знаю, как многим мы вам обязаны, и никогда этого не забуду… Мой дядя просил извинить его. Ему столько дел надо переделать, чтобы мы могли завтра же поехать на «Дженни». Мой жених едет с нами…
Могла ли Эли примешать к этой радости, невинность которой причиняла ей боль, примешать хоть один вздох печали, теснившей ее сердце? Тем более, могла ли она зародить подозрение касательно своего горя в доброй Андриане, которая приехала и вся расцвела, когда лакей, вводя ее, доложил: «Госпожа виконтесса де Корансез»?
– Представьте! – залепетала итальянка. – Альвиз был необычайно деликатен. Какое ребячество бояться! Скольких волнений избежали бы мы, если бы я все рассказала ему с первого дня!.. Но, – прибавила она, – я не сожалею об этой глупости! Это будет такое сладкое воспоминание!.. И я так журила Мариуса за то, что он до сих пор еще сомневается… Да что можно сделать нам теперь, спрошу я вас?
Вслед за ней явились Шези: она – вся трепещущая от обретенной вновь радости, он – уже преисполненный аристократического величия в своей роли будущего «воспитателя» Запада.
– Когда дело идет о лошадях, то у этого бедного Марша являются самые ребяческие идеи, – говорил он. – Но как ему везет! Как раз в тот момент, когда он затевает подобную спекуляцию, он находит меня…
– Наконец-то я увижу американок у них дома! – щебетала Ивонна. – Я не поскуплюсь дать им несколько уроков настоящего шика…
Как было Эли не предоставить этой чете милых парижских птичек продолжать их обезоруживающую болтовню, радуясь только, что они даже не касаются предмета, который так близок ее сердцу… Она слушала, как они рассказывали про свою будущую поездку в Америку с легкомыслием, которое еще раз подтверждало впечатление, будто они лишь играют в жизнь. Оба они только что пережили страшное испытание, и оно прошло для них бесследно!.. Эли завидовала их способности забывать, начинать все сначала, предаваться иллюзиям.
Да и судьба всех этих людей – мисс Марш, Вердье, Корансеза – имела что-то общее. Ведь перед ними всеми раскрывалась свобода, простор, бесконечная будущность – как перед судами, плывущими по большой реке, которая вынесет их вниз, в открытый океан.
Ее же судьба, наоборот, походила на корабль, загнанный в узкий рукав реки и упершийся в риф, за которым его ожидают водовороты, пороги, стремнины. Этот образ возник в душе Эли от одного слова, произнесенного Ивонной, которая радовалась, что скоро увидит Ниагару. Она ухватилась за это сравнение, как за картину, вполне верно передававшую ее душевное одиночество.
Во время всех этих посещений взгляды ее беспрестанно обращались к Луизе, как будто она хотела убедиться, что все же у нее есть хоть один свидетель ее треволнений, хоть одно сердце, способное ее понять, ей сочувствовать, ей помочь. Да, главным образом, помочь! Среди фраз, которые она выслушивала и на которые отвечала, ее мысль продолжала работать в одном направлении: узнать, уехал ли Пьер. И, естественно, с ее губ, как только они с госпожой Брион остались один на один, сорвался вопрос:
– Ты слышала все, что они рассказывали?.. Я знаю теперь не больше, чем знала ранее… Здесь ли еще Пьер? И если он здесь, то когда едет?.. Ах, Луиза!..
Она не договорила. Услуга, о которой она хотела попросить у своей подруги, была такого деликатного свойства! Она сама стыдилась высказать свое желание. Но нежное создание, к которому она обратилась, поняло ее и было благодарно ей за это колебание.
– Почему ты не доверишь мне всю твою мысль целиком? – сказала она. – Ты хочешь, чтобы я постаралась узнать это для тебя?
– Но как ты это сделаешь? – спросила Эли, не удивляясь легкости, с которой ее слабая подруга готова была исполнить миссию, столь противоположную ее характеру, ее принципам, ее рассудку.
В самом деле, к чему могло привести это расследование насчет того, здесь ли еще Пьер и долго ли останется? Не был ли это новый случай для Луизы еще с большей силой обратиться к советам, данным во время первого признания?
Между госпожой де Карлсберг и Отфейлем теперь возможно было только молчание и забвение; увидеться вновь – значило для обоих осудить себя на самое тщетное и тягостное объяснение; возобновить прежние отношения – это был бы ад.
Луиза Брион отлично знала все это, но в то же время она знала, что если она исполнит желание Эли, то эти милые, грустные губки заиграют немного радостью, и потому вместо всякого ответа на предложенный вопрос она поднялась со словами:
– Как я сделаю? Это очень просто. Через полчаса я узнаю то, что тебя интересует… Есть у тебя список проживающих здесь иностранцев?
– Он должен быть на четвертой странице этой газеты, – молвила Эли. – Но зачем он тебе?
– Чтобы отыскать имя какой-нибудь особы, которую я знаю и которая живет в отеле «Пальм»… Отлично, я нашла… госпожа Ниель… Вооружись терпением и жди меня…
– Ну-с! – говорила она, возвращаясь в гостиную через полчаса, как и обещалась. – Они оба здесь и поедут лишь через несколько дней. Госпожа Дюпра больна… Это стоило мне маленького труда, – прибавила она с взволнованной улыбкой. – Приехала я туда, спросила, тут ли госпожа Ниель, и послала ей свою карточку, потом взглянула на список жильцов и с безразличным видом обратилась к секретарю: «А я думала, что господин и госпожа Дюпра уже уехали!.. Долго еще думают они пробыть здесь?» – спросила я его. Этой маленькой фразой я узнала все…
– И ты сделала это для меня! – сказала Эли, взяв за руку и лаская ее. – Как я люблю тебя!.. Смотри. Я прямо оживаю… Я снова увижу его. Ты поможешь мне увидеть его… Ты обещаешь мне это… Ах, мне необходимо поговорить с ним еще раз, один только раз! Я хочу, чтобы он узнал правду, чтобы он узнал, по крайней мере, что я любила его искренне, страстно, глубоко любила. Ведь это так тяжело – даже не знать, что он думает обо мне!
Да, что думал Пьер Отфейль о своей любовнице, столь обожаемой несколько дней тому назад, так высоко стоявшей в его мнении и вдруг загрязненной в его глазах таким позором?.. Увы! Знал ли это сам несчастный? Был ли он в силах разобраться среди вихря противоречивых мыслей и впечатлений, которые теснились, клубились, бушевали в его душе? Быть может, если бы он мог сразу оставить Канны, то эта внутренняя буря была бы не так сильна.
Был только один разумный образ действий после клятвы, которой обменялись они с Оливье: это – удалиться, поставить время, пространство, события между ними и той женщиной, которую оба они любили и которой поклялись пожертвовать ради их дружбы.
Решимость может быть непоколебимо твердой, но разве властна она над воображением, над сердцем, над темной бездной чувства? Мы господа только своих поступков, но не мечтаний, не сожалений, не желаний. Они просыпаются, бушуют, растут в нас. Они осаждают нас картинами взглядов, улыбок, лица, блестящего плеча, очертаний груди – и вот прежний огонь течет в наших жилах… Покинутая любовница стоит перед нами, зовет нас, жаждет, готова принять в свои объятия. И если мы в одном городе с ней, если, чтобы ее увидеть, нам стоит пройти четверть часа – о, сколько мужества надо, чтобы не поддаться искушению!..
Пьер и Оливье прекрасно сознавали необходимость этого спасительного отъезда, они решились на него. Но несчастный случай непредвиденно заставил их остаться в отеле. Как сказал секретарь Луизе Брион, госпожа Дюпра была действительно больна. Она испытала слишком сильное потрясение и не могла сразу оправиться от него. У нее осталась сильная нервность, и, встав с постели, она при малейшем волнении снова подвергалась таким страшным судорогам, что, казалось, могла умереть от удушья тут же на месте. Врач нашел необходимым приглядеть за ней и запретил ехать из Канн раньше чем через несколько дней.
При таких обстоятельствах благоразумие требовало, чтобы по крайней мере Отфейль уехал. Но он этого не сделал. Для него было невозможно оставить Дюпра в Каннах одного. Он воспользовался как предлогом своей обязанностью не покидать друга в затруднительную минуту.
Если бы он заглянул в тайники своей души, в то место, где скрываются мысли, коих мы сами стыдимся, невысказанные расчеты, мрачный эгоизм, то он открыл бы другие, не столь благородные мотивы, заставлявшие его продолжить свое пребывание здесь. Хотя он безусловно верил в честное слово Оливье, все же его коробило от одной мысли, что он останется один в том городе, где живет Эли де Карлсберг.
Несмотря на их героические усилия сохранить дорогую дружбу, несмотря на уважение, нежность, сострадание друг к другу, несмотря на ряд священных воспоминаний, несмотря на честь, все же женщина встала между ними, а вместе с нею все, что так быстро вносит в наш духовный мир ее роковое влияние: ревнивые инстинкты, дикая подозрительность, молчаливое зложелательство. Скоро они оба почувствовали это, почувствовали, как глубоко проник в их существо пагубный яд.
Осознали они и еще один страшный факт, на первый взгляд чудовищный, но, в сущности, вполне естественный: эта любовь, которую они поклялись убить во имя своей дружбы, была теперь связана с их дружбой самыми тесными узами. Ни тот, ни другой не могли подумать друг о друге, видеть, слушать один другого, не увидев в то же время образ Эли, любовницы, принадлежавшей им обоим. А теперь оба они принадлежали ей в силу «общности владения», которая сделала для них эти несколько дней, проведенных с глазу на глаз, настоящим кризисом «безумия вдвоем», тем более мучительным, что, верные своему обету, они избегали даже произносить имя этой женщины. Но зачем было им говорить о ней друг другу, когда они и так знали, что думают о ней одной?
Как тяжелы были эти дни, и хотя их было немного, но они, казалось, тянулись бесконечно, целую вечность!… Утром, около десяти часов они сходились в гостиной Оливье. Кто услышал бы, как они здоровались, как Пьер осведомлялся о здоровье Берты, а Оливье отвечал ему, как потом они начинали рассуждать о только что прочитанной газете, о погоде, о том, что делать в этот день, – тому и в голову не пришло бы, что эта встреча была для них сущей мукой.
Пьер чувствовал, что друг изучает его, и в то же время сам изучал Оливье. Каждый терзался как бы голодом и жаждой поскорее узнать, те ли самые мысли или, вернее, та ли самая мысль, что и его самого, обуревала другого в часы разлуки. В глазах друг у друга они читали эту мысль так же ясно, как если бы она была написана буквами на бумаге подобно ужасной фразе, раскрывшей глаза Пьеру. Невидимый призрак проходил между ними, и они умолкали…
Однако они могли видеть в окно, что роскошная южная весна по-прежнему наполняла небо лазурью, землю – цветами, воздух – ароматами. Один из них предложил прогуляться в надежде, что светозарная ясность этой дивной природы хоть немного проникнет и в их души. В прежние времена они так любили ходить вместе, думая вслух, устанавливая единство между своими сердцами, так же как и между телами!
Они вышли, и через десять минут разговор их оборвался. Инстинктивно, не договариваясь заранее, они избегали тех кварталов Канн, где рисковали встретить либо Эли, либо кого-нибудь из ее общества: улицу Антиб, Круазетту, набережную Яхт. Точно так же избегали они соснового леса близ Валлори, где они говорили о ней в день приезда Оливье. Они не пошли по хребту Юри, чтобы не видеть силуэта виллы Гельмгольц, белеющего среди чащи пальм.
Позади одного из холмов, окружающих Калифорнию, они нашли ложбину, спокойную и безлюдную оттого, что она была обращена на север. В этой ложбине оказалось нечто вроде запущенного парка, который уже много лет продавался по участкам. И вот сюда, в эту чащу без горизонта, пришли они, наконец, поддаваясь одному и тому же влечению, как два раненых зверя, которые забиваются в одну берлогу. Узость тропинки не позволяла им идти рядом, и они воспользовались этим предлогом, чтобы прервать всякий разговор.
Ветки хлестали их по лицу, кусты царапали им руки; наконец они добрались до ручья, протекавшего на дне ущелья. Тут они уселись на какой-то камень среди высоких кустарников. Дикость этого уголка, такого пустынного у ворот блестящего города, на несколько минут заглушила их общее горе. Влажная свежесть этой растительности, спрятавшейся в тени, напоминала им такие же чащи в Шамеанских лесах, и они могли снова заговорить, вызвать образы детства и самые отдаленные воспоминания своей дружбы. Можно было сказать, что, чувствуя разрушение своей связи, они с отчаянием возвращались к времени, когда она расцвела, надеясь оживить ее источник. От детства они перешли к ранней юности, к годам в колледже, к впечатлениям войны.
Но в этом обращении к прошлому было что-то насильственное, условное, натянутое, такое, что мешало их искренности. Сравнивая с прежними разговорами того же рода, они прекрасно понимали, что теперь им недостает той полноты чувства, той искренности увлечения и естественности, которые когда-то придавали прелесть самым незначительным их разговорам. Любили ли они друг друга менее чем прежде? Неужели их чувство никогда более не будет счастливо, никогда не освободится от этого страшного привкуса горечи?..
Во время таких утренних и дневных прогулок они одни оставались свидетелями своих настроений. Если они не всегда делились мыслями, то, по крайней мере, им не приходилось обманывать друг друга, играть комедию. В обеденное время дело обстояло совсем иначе.
Обедали они в гостиной, чтобы и Берта могла быть за столом. Сразу начать снова обыденную близость после сцен вроде тех, которые произошли между двумя друзьями и молодой женщиной, – это сначала кажется невозможным. В действительности же это очень просто и легко. Вся семейная жизнь держится на том.
Из чувства деликатности к их сотрапезнице Оливье и Пьер силились говорить весело и много. Уж одно такое условие было для них мученьем. А притом же в разговорах, даже при полной бдительности, возможны случайности. Достаточно было одной фразы, одного слова – и каждый из них принимался думать о связи другого с Эли.
Стоило Оливье хоть отдаленно коснуться Италии, воображение Пьера устремлялось в Рим. Он видел Эли, свою Эли с террасы, украшенной белыми и красными камелиями, свою Эли из сада Элен-Рок, свою Эли, которая провела с ним ночь на море. Но вместо того, чтобы идти к нему, она шла к Оливье. Вместо того чтобы прижать его к своему сердцу, она прижимала Оливье. Она обнимала Оливье, она отдавалась ему, и это видение ревности к прошлому начинало мучить Пьера!
Стоило ему самому среди разговора упомянуть о прелести прогулок вокруг Канн, он видел, как глаза его друга омрачались страданием, в котором он узнавал свое страдание. Оливье в своем воображении видел, как Пьер идет к Эли, обнимает ее, целует в губы.
Такое соединение их душ в печали одного и того же рода причиняло им страшную боль и в то же время привлекало их с волшебной силой. Как хотелось им в подобные моменты расспросить друг друга о самых интимных тайнах их общего романа, все узнать, все понять, истерзать себя всеми эпизодами! С глазу на глаз последний остаток достоинства мешал им предаться этим позорным откровенностям, а за столом, в присутствии Берты, они сейчас же меняли разговор, чтобы не причинить лишнего волнения молодой женщине. Они слышали, как она дышит неровными вздохами, то слишком короткими, то слишком глубокими, протяжными, что указывало на нарушение правильной деятельности сердца. И это ощущение физического страдания тут, рядом с ними, окончательно их потрясало: Оливье угрызениями, а Пьера жалостью, так что им еще труднее было справляться с самими собой.
Так проходили утра, дни, вечера, и оба друга со страхом и вместе с нетерпением ожидали дня, когда можно будет уехать: с нетерпением, потому что уединение было равносильно свободе отдаться целиком своим чувствам; со страхом, потому что они скоро почувствовали, что клятва, которой они обменялись, не разрешила столкновения между их любовью и их дружбой.
Писание говорит: «Не прелюбодействуй», а Евангелие прибавляет: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем»… Изречение, удивительное по своей глубине; оно прямо устанавливает тождественность, с нравственной точки зрения, мысли и акта, вожделения и обладания!
Оба друга имели слишком чуткую совесть, чтобы не понять, к своему стыду, что, оставшись наедине, каждый из них всеми мыслями своими томительно и страстно нарушал клятву!.. Едва Пьер выходил, Оливье начинал шагать взад и вперед по своей комнате и по комнате жены, разговаривая с Бертой, пробуя говорить ей нежные фразы, борясь уже с демоном и чувствуя, что сейчас же станет его жертвой.
Затем он удалялся в свою комнату, и тут овладевало им, мучило и терзало его то, что он называл «своим искушением». Перед ним восставали все римские воспоминания. Он снова видел Эли, но не гордую и кокетливую Эли того времени, которую он мучил, вожделея, ненавидел, любя, из отчаяния, что никогда не завладеет всем ее существом вполне; нет, теперешнюю Эли, которую он видел такой нежной, такой страстной, искренней, с душой столь же прекрасной, как и тело.
И все существо его рвалось к этой женщине в неудержимом стремлении страсти и любви. Он громко говорил с ней, умолял ее, как помешанный. Звук собственного голоса выводил его из этого странного сна. Он с ужасом чувствовал все безумие своего ребячества и всю преступность такого низкого вожделения.
Он вызывал образ друга, он говорил себе: «Если бы знал он это!..» Он хотел просить у него прощения, что не в силах разлюбить Эли, что принял от него честное слово, которого никогда не должен был бы брать. Он знал, что в эту самую минуту Пьер страдал от того же, от чего и он сам, а это было слишком несправедливо!
В такие минуты мучений ум и сердце Оливье постоянно останавливались на одной мысли – пойти разыскать Пьера и сказать ему: «Ты ее любишь, и она любит тебя… Оставайся с ней и забудь меня…»
Увы! Перед таким проектом высшего великодушия он одинаково ясно сознавал, что и Пьер ответит ему отказом, и что сам он будет неискренен. И сознавал он это со смесью ужаса и стыда: несмотря ни на что, для него было радостью, дикой и гнусной радостью, но все же радостью – думать, что если Эли уже более не любовница его, то никогда не будет она и любовницей его друга!
Жестокие часы!
Минуты, которые переживал Пьер, были не менее горестны. И он также, оставшись один, запрещал себе думать об Эли, но, налагая этот запрет, он уже думал о ней. Чтобы прогнать этот образ, он противопоставлял ему образ друга, и вот тут-то наступал самый кризис: он начинал говорить себе, что Оливье был любовником той женщины, и этот факт, полную, неоспоримую истину которого он знал отлично, овладевал его мозгом, подобно руке, которая сдавила ему голову и не отпустит ее более.
Оливье видел свою римскую любовницу преображенной, облагороженной, смягченной любовью к Пьеру. А Пьер за нежным и мягким образом Эли, какой он знал ее в эту зиму, улавливал фигуру женщины, которую описал ему Оливье, не называя ее.
Он представлял ее себе извращенной кокеткой с тем же прекрасным лицом, которому он так верил. Он говорил себе, что она имела еще двух любовников: одного в то время, когда была любовницей Оливье, другого еще раньше. Оливье, Пьер и эти два человека – выходит, уже четыре, а, без сомнения, у нее были и другие, которых он не знает!
Мысль, что эта женщина, которая, как он думал, отдала ему девственную душу, переходила на самом деле от одного адюльтера к другому, что она пришла к нему замаранная массой связей, – эта мысль поражала его тоской, доходившей до безумия.
Все эпизоды его дорогого романа, его светлой любовной идиллии опошлялись, загрязнялись в его глазах. Во всем романе он видел лишь безнравственный расчет уязвленной великосветской дамы, которая хитро заманивала его в свои сети.
Тогда открывал он ящик, в котором хранил остатки того, что было его высшим счастьем, и вынимал оттуда портсигар, купленный в Монте-Карло с таким благоговейным чувством. Вид этой славянской вещицы разрывал его сердце, напоминая фразу, произнесенную его другом в лесу Валлори: «У нее были любовники до меня, по крайней мере один, – русский, убитый под Плевной…» Без сомнения, этот любовник и подарил Эли вещицу, над которой он, бедный Пьер, повергался в благоговейном и трепетном обожании! Эта ирония была до такой степени унизительна, что молодой человек дрожал от негодования.
Потом он глядел на лежавший в другом уголке ящика пакет с письмами от своей любовницы, которые он не в силах был уничтожить.
Но вот приходили ему на память другие фразы Оливье, который утверждал и клялся, что с ним, Пьером, она была искренна, что его она беззаветно любила. И разве каждая деталь их очаровательной близости не подтверждала, что Оливье был прав? Возможно ли, чтобы она лгала на яхте, в Генуе, в другие часы восторгов?..
Пьером овладевала страстная потребность видеть ее. Ему казалось, что если бы он мог поговорить с ней, спросить, понять ее, то мир снизошел бы в его душу; он воображал, какие вопросы задаст ей, что она ответит, он слушал ее голос… Вся его энергия гибла в роковом порыве желания – самого низменного желания, чувственность которого усиливалась еще презрением!..
Тогда молодой человек восставал против себя самого. Он напоминал себе свою клятву, напоминал, к чему обязывает его уважение к самому себе, долг по отношению к другу. Ведь то, что он сказал в момент самопожертвования, было так справедливо! Он чувствовал, что оно было справедливо!
Если он снова увидит любовницу, то будет не в силах более увидеться с Оливье. И вот у него подымалось смутное ощущение, что он ненавидит их обоих. Он так страдал из-за него, вспоминая о ней, и из-за нее, вспоминая о нем!..
Но честь, наконец, брала верх, он снова укреплялся в самоотверженном решении и говорил себе: «Это великое испытание. Но оно временно… Уехав подальше отсюда, я исцелюсь…»
С того времени, когда начались эти необыкновенные отношения, прошло уже пять дней, как вдруг, один за другим и вызванные один другим, случились два инцидента, которым суждено было иметь решающее влияние на трагическую развязку этого невыносимого положения.








