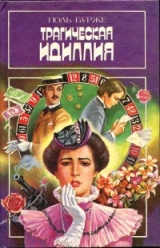
Текст книги "Трагическая идиллия. Космополитические нравы ..."
Автор книги: Поль Бурже
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Сильный запах эфира бросился в нос Дюпра на пороге комнаты Берты. С подушки глядело на него взором, полным горьких слез, бледное, истомленное личико этого ребенка, который верил в него, отдал ему всю свою жизнь, цвет своей юности, все свои надежды. Имел ли он право быть жестоким к бедному, неловкому созданию лишь за то, что, горячо любя мужа, оно никогда не осмеливалось выказать свою любовь. И тут Оливье ничего не нашелся сказать. Он уселся возле постели и, облокотившись, долго смотрел на больную.
Его сердце разрывалось на части от сознания несчастья, которое постигло всех четырех: Берту, Пьера, Эли, его самого. Берта любила его и знала, что он ее не любит. Пьер любил Эли, и она любила его, но их любовь навеки была отравлена ужаснейшим открытием. Что касается до него самого, то он весь был охвачен страстью к прежней любовнице, которую он подозревал, оскорблял, покинул и которая принадлежала теперь его лучшему, самому близкому другу! Как человек, упавший с судна в открытое море, плывет по бездонной пучине и видит вздымающиеся валы, готовые поглотить его, так и Оливье чувствовал, как со всех сторон внутри и вокруг него растет и бушует непреодолимая сила любви, которой он так жаждал и которая теперь захватывала его, несла, ужасала.
Возле этой постели, прислушиваясь к прерывистому дыханию молодой женщины, он пережил несколько моментов того умственного и нравственного напряжения, которое позволяет наименее философским натурам видеть в роковые минуты высшие силы природы, неумолимые созидательницы нашей судьбы. И вот, как пловец, которого вздымает огромная океанская волна, делает бессильные попытки бороться с ужасной стихией, пока она еще не проглотила его, так и он попробовал вырваться из пассивного состояния. Ему захотелось говорить с Бертой и смягчить ее горе, насколько это возможно.
– Вы сильно негодуете на меня? – сказал он ей. – Но, видите, едва узнав, что вы нездоровы, я поспешил сюда… Когда вам будет лучше, я объясню вам, что такое произошло. Тогда вы поймете, что дело было не совсем так, как вы себе представляете… Ах, от скольких огорчений спасли бы вы и себя и нас всех, если бы раньше открыли мне свое сердце!..
– Я не обвиняю вас, – отвечала молодая женщина, – и не требую от вас никаких объяснений… Я вас люблю, а вы меня не любите: вот что я знаю наверное. Это не ваша вина, и ничем дела не поправишь… Вы заговорили сейчас участливо, – прибавила она, – и я благодарна вам за это… Я так разбита! Мне бы хотелось отдохнуть немного.
«Это начало конца, – подумал Оливье, уходя в гостиную, чтобы исполнить желание жены. – Что станется теперь с нашей супружеской жизнью?.. Если мне не удастся собраться с силами и исцелить рану в ее сердце, то неизбежен в ближайшем будущем развод, и снова для меня начнется скитальческая жизнь… Исцелить ее сердце, когда мое так страдает!.. Бедное дитя! Куда завел я ее?..»
Среди всего водоворота своих страстей он сохранил все-таки достаточно честных инстинктов, так что ответ на этот вопрос пробуждал в его сердце угрызения совести. Но кто не знает этого по опыту? Ни угрызения, ни жалость – две высокие добродетели людского сердца – никогда не могли пересилить у влюбленного человека всепокоряющей разнузданности страсти.
Мысли Оливье скоро покинули бедную Берту и целиком устремились в другом направлении. Жар поцелуев, которыми он осыпал Эли, ее бледное, конвульсивно передернувшееся лицо, снова разжигал его кровь. В то же время образ друга – любовника, которому эта женщина принадлежала теперь, – снова вставал в его воображении. И обе раны в его сердце заныли с такой болью, что он забыл все, что не было Пьером или Эли, Эли или Пьером.
И вот им овладело страдание, более острое, чем все испытания, какие он пережил до сих пор. Что делал, что думал друг, брат, которому он отдал лучшую часть своего существа? Что оставалось в этот момент от их дружбы? Что останется от нее завтра? Думая о возможности разрыва с Пьером, Оливье чувствовал, что это будет для него верхом несчастья, последним ударом, которого он уже не в состоянии будет вынести.
Крушение его супружеской жизни было бедой, к которой он был приготовлен. Ужасное и отчаянное возрождение страсти к Эли де Карлсберг было тяжким испытанием, но он вынесет его. Проститься же с этой священной дружбой, с редкостным братским союзом, в каком он всегда обретал прибежище, опору, утешение, основу для уважения к себе и для веры в добро, – нет это было последним ударом. После того у него не оставалось в жизни никакой уже поддержки, ни души, с кем и для кого стоило бы жить, наступало царство холодного, мрачного, полного одиночества… Вся будущность этой дружбы решалась в эту минуту, а он без движения оставался здесь, упуская, быть может, невозвратимое время.
Недавно, когда они ехали в карете в отель, он ни слова не мог сказать Пьеру. Но теперь ему во что бы то ни стало необходимо было заговорить, защитить свое бесценное и благородное сокровище, принять участие в битве, происходившей в сердце его друга, так тяжко пораженного. Как Пьер примет его? Что скажут они друг другу? Оливье и не задавался такими вопросами. Инстинкт, заставивший его выйти из своей комнаты и спуститься к Отфейлю, был так же бессознателен, так же непродуман, как и мольбы его жены к тому же Отфейлю, мольбы, которые погубили все. Не окажется ли таким же пагубным и поступок Оливье?..
Раскрыв дверь в комнату Пьера, он увидел его на стуле перед столом. Руки крепко стиснули голову; чистый листок бумаги, лежавший перед ним, доказывал, что, едва вернувшись домой, он сел писать письмо, но был не в силах. Перо упало на бумагу, и он так и оставил его.
Позади этой живой статуи отчаяния, за открытым окном дивное вечернее небо разливалось в чудно мягких тонах, лазурь начинала подергиваться пурпуром. Гордые цветы мимоз распускались в вазонах и наполняли своим свежим и вместе томным ароматом эту келью влюбленного, где молодой человек спокойной зимой переживал романтические часы мечтаний и где теперь он испивал до дна тяжелый кубок горького напитка, который вечная Далила особенно охотно подносит своим наиболее чистым жертвам.
За этот трагический день Оливье испытал много острых ощущений. Но ни одно из них не могло сравниться жестокостью со зрелищем этого безмолвного, простого, неизлечимого горя. Все мужественное чувство друга проснулось в нем, и его собственное горе обратилось в глубочайшую нежность к этому товарищу его детства, его юности, который терзался тут, у него на глазах. Он прикоснулся рукой к его плечу, мягко и слегка, как бы угадывая, что при этом прикосновении тело ревнивого любовника должно было содрогнуться от отвращения, почти от ужаса.
– Пьер, – сказал он, – это я, Оливье… Ведь ты сам должен чувствовать, что мы не можем таить в сердце то, что гнетет нас обоих. Это бремя давит меня так же, как и тебя. Ты несчастен. Я тоже несчастен. Вместе нам будет легче сносить горе, опираясь друг на друга… Я обязан объяснить тебе все и пришел для этого. Ты можешь выслушать меня и отвечать мне. Между нами нет более тайн. Госпожа де Карлсберг все мне сказала…
Отфейль, казалось, не слышал первых слов своего друга, но при имени любовницы он резко поднял голову. Страшно исказившееся лицо его говорило о той муке, когда человек не в силах даже и плакать. Отрывистым голосом, дрожавшим от внутренней бури, отвечал он:
– Объяснение между нами? Какое? Что узнавать тебе? Что узнавать мне? Что ты был любовником этой женщины в прошлом году? Что я сменил тебя теперь?..
Потом, как бы ожесточаясь от беспощадности собственных слов, он вскричал:
– Если ты снова хочешь повторить мне то, что ты говорил, когда я не знал, о ком идет речь, так это бесполезно: я ни словечка не забыл… ни историю о первом любовнике, ни историю о другом, из-за которого ты ее покинул… Это чудовище лживости и притворства. Я знаю. Ты показал мне это. Не начинай снова. Мне будет очень тяжело, да оно и бесполезно. С сегодняшнего дня она умерла для меня. Больше я не знаю ее…
– Ты слишком суров к ней, – возразил Оливье, – и ты не прав.
Он не мог вынести циничных обвинений, направленных Пьером против Эли. Какое горе обнаруживали они в сердце влюбленного, который так оскорблял любовницу, еще вчера бывшую его кумиром! И притом в его ушах все еще звучал искренний и страстный тон этой женщины, когда она говорила о своей любви. Непреоборимое великодушие заставило его высказать все это, и он повторил:
– Нет, ты не прав. Нет, с тобой она не была ни лгуньей, ни притворщицей! Она любила тебя, она любит тебя глубоко, страстно… Будь беспристрастен: могла ли она сказать тебе то, что ты знаешь теперь? Если она лгала тебе, то для того, чтобы сохранить тебя: ведь ты был первой и единственной любовью всей ее жизни…
– Неправда, – с горечью перебил Отфейль, – нет любви без полной откровенности… Но я простил бы ей все, все это прошлое, если бы только узнал от нее самой!.. Да ведь был же первый день, первый час… Я отлично помню этот день, я не забыл этого часа… В тот день мы говорили о тебе. Я еще слышу, как она произнесла твое имя. Я не скрыл от нее, как люблю тебя. Она знала от тебя, как ты меня любишь… Ведь так просто было не видеться больше со мной, не завлекать меня, не овладевать мною! Ведь на свете есть столько людей, для которых это прошлое было бы только прошлым…
Но нет: она хотела мести, низкой мести! Ты покинул ее. Ты женился. Она ухватилась за меня, как убийца хватает нож, чтобы поразить тебя прямо в сердце… Посмей отрицать… Но ведь я же читал, что ты сам думаешь так, я читал написанное твоей собственной рукой! Написал ты, да или нет?
– Я написал, – отвечал Оливье, – и был не прав. Я думал так и обманулся. Ах! – продолжал он с истинным отчаянием. – Ведь надо же так случиться, чтобы я, я защищал ее перед тобою!.. Но если бы я не верил, что она любит тебя, разве я первый не сказал бы тебе теперь: «Это негодница!..» Да, я думал, что она завлекла тебя, чтобы отомстить, я думал так с самого дня приезда, когда мы гуляли в сосновом лесу и ты назвал мне ее. Я так ясно видел, что ты любишь ее, и так страдал от того!..
– Значит, ты сознаешься! – вскричал Пьер.
Он поднялся и, схватив друга за плечи, начал с яростью трясти его, повторяя:
– Ты сознаешься, ты сознаешься!.. Ты угадал, что я люблю ее, и ты ничего не сказал мне! Целую неделю ты оставался со мной, рядом со мной, видел, что я отдал все свое сердце, все, что есть во мне доброго, преданного, нежного, все отдал твоей бывшей любовнице, и ты молчал! И если бы я не узнал вчера от твоей жены, ты оставил бы меня с каждым днем все глубже и глубже погружаться в эту страсть к женщине, которую ты презираешь!.. Не теперь надо было сказать мне: «Это негодница», а в первый час, в первую минуту…
– Но мог ли я? – перебил Оливье. – Ты сам знаешь, долг чести запрещал мне…
– А долг чести не запрещал тебе писать ей, – подхватил Пьер, – когда ты знал, что я люблю ее, не запрещал просить, потихоньку от меня, свидания у нее, идти к ней, когда меня там не было!..
И смотря на Оливье взглядом, в котором тот увидел блеск настоящей ненависти, он продолжал, задыхаясь:
– Но теперь я все вижу ясно. Вы оба играли мной… Ты хотел воспользоваться своим открытием, чтобы снова вторгнуться в ее жизнь. О, Иуда! Ты предал меня, ты тоже… О, предатель, предатель, предатель!
И, испуская рев раненого животного, он упал в кресло и разразился рыданиями, повторяя:
– Дружба, любовь, любовь, дружба – все погибло, я все потерял, все меня обмануло, все солгало… О, как я несчастен!..
Дюпра побледнел и отступил перед этим взрывом ярости. Оскорбления друга причиняли ему жестокую боль, но ни капли гнева, ни капли самолюбия не примешивалось к этой боли. Ужасная несправедливость существа, столь доброго по натуре, столь деликатного, нежного, только увеличивала его сострадание. В то же время он сознавал, что их взаимные отношения непоправимо рухнут, если разговор так кончится, и это сознание несколько вернуло ему хладнокровие, которое другой потерял бы окончательно, и серьезным голосом, глубоко растроганный, он отвечал:
– Да, мой Пьер, ты должен быть очень несчастен, если заговорил так со мной, твоим старым товарищем, твоим другом, твоим братом!.. Я – Иуда? Я – предатель?.. Но взгляни мне прямо в лицо. Ты оскорбил меня, грозил мне, почти бил… И видишь – в сердце моем нет к тебе ничего, кроме дружбы, такой же полной, нежной, живой, как и вчера, как и третьего дня, как десять, как двадцать лет тому назад!.. Мне играть тобою, мне обманывать тебя? Нет, ты не можешь верить в это, и не веришь… Наша дружба! Ты знаешь, что она не умерла, что она не может умереть!..
И все это, – голос его, в свою очередь, зазвучал негодованием и горечью, – и все это из-за женщины!.. Женщина встала между нами! И ты все забыл, от всего отрекся… Умоляю тебя, Пьер, опомнись, скажи, что ты говорил в возбуждении, что ты не переставал любить меня и верить, что я люблю тебя. Прошу тебя во имя нашего детства, во имя тех наивных часов, когда мы прижимались друг к другу, грустя, что мы не родные братья. Есть ли у тебя из тех времен хоть одно-единственное воспоминание, к которому я не был бы примешан?.. Выбросить тебя из своей жизни – значило бы для меня одним ударом разрушить все мое прошлое, все, чем я горжусь, к чему возвращаюсь всякий раз, как желаю отмыться от скверны настоящего!..
Опомнись, прошу тебя во имя нашей юности, во имя того, что было в ней самого прекрасного, самого великого, самого чистого. В 70-м году, накануне Седана, когда ты хотел поступить на службу, ты побежал ко мне – помнишь? – и встретил меня: я шел к тебе. И помнишь, как мы обнялись? О, если бы тогда кто-нибудь сказал нам, что наступит день, когда ты назовешь меня предателем и Иудой, меня, бок о бок с кем хотел ты умереть! С какой верой ответили бы мы: «Это немыслимо!»
А та ночь в снегу, в Шагейском лесу, когда мы узнали, что все погибло, что армия переходит в Швейцарию и что завтра мы должны будем отдать оружие. Помнишь? А наша священная клятва, что если когда-нибудь надо будет еще раз сразиться, то мы будем снова вместе, рядом, сердце к сердцу, в одной шеренге!.. Если придет этот час новой борьбы, то что станешь ты делать без меня?..
О, ты глядишь на меня, ты понимаешь, ты опомнился… О, мой Пьер, обнимемся, как 3 сентября… Прошло больше десяти лет, а было как будто вчера… Все может отнять у нас жизнь, но не это, верь мне, не нашу дружбу… Остальное все – страсть, чувственность, вожделение. Но тут, тут все наше сердце!..
Пока Оливье говорил, фигура Пьера в самом деле как бы преобразилась. Рыдания его прекратились, в его глазах, еще полных слез, загорался огонек. Голос его друга выражал такую трогательную мольбу, образы, вызванные братской речью, напоминали несчастному о таких высоких чувствах, о духовном общении, по временам столь нежном, по временам полном мужества и героизма!.. После страшного, горестного потрясения в нем снова просыпалась от призыва старого товарища по оружию энергия мужчины.
Он встал, минуту, казалось, колебался и наконец бросился в объятия Оливье. Они сплелись в мужественном порыве, который осушает слезы на щеках, поддерживает слабеющую волю, восстанавливает в сердце силу для благородной решимости. Потом Пьер просто и коротко сказал:
– Я прошу у тебя прощения, Оливье. Ты лучше меня. Но удар был так жесток, так неожидан!.. Я питал такую полную, глубокую, незыблемую веру в эту женщину! И все узнал я в пять минут, и притом как!.. Я ничего не подозревал, ни о чем не догадывался… И вдруг две строки, написанные твоей рукой, потом слова твоей жены, потом твои речи!.. Будто корабль в море, разрезанный пополам среди ночи другим судном или налетевший на утес… В такие минуты становишься прямо безумным. – Но оставим это. Ты прав. В кораблекрушении надо спасти нашу дружбу…
Он закрыл глаза рукой, как бы отгоняя другой образ, который снова начинал мучить его.
– Слушай, Оливье, – продолжал он, – ты застал меня еще очень слабым, но необходимо, чтобы ты сказал мне всю правду… Ты не виделся с госпожой де Карлсберг после Рима?..
– Я не виделся с ней, – отвечал Оливье.
– Сегодня утром ты послал ей письмо… не то, начало которого я видел, а другое. Чего ты просил у нее?
– Принять меня, ничего более.
– А она, она ответила тебе?
– Не лично. Она велела мне передать, что ждет меня.
– Зачем ты просил этого свидания? О чем вы говорили?
– Я сказал ей то, что считал тогда истиной. Я вознегодовал при мысли, что она хотела отомстить мне через тебя, и чувствовал потребность крикнуть ей это в лицо, пристыдить ее. Она мне отвечала и доказала, что любит тебя…
И он прибавил:
– Не расспрашивай меня больше…
Пьер взглянул на него. Этот допрос снова разжег его сердце. Еще один вопрос готов был сорваться с его уст, и он чуть было не прибавил: «Говорил ли ты с ней о вашем прошлом, о вашей любви?..» Но прирожденное благородство победило низменное стремление к такому позорному допросу. Он замолк и начал ходить по комнате, терзаемый борьбой, за которой его друг следил со смертельной боязнью.
Эти вопросы, которые он предлагал один за другим, слишком ярко вызвали перед ним образ Эли. Они разбудили чувства, только что замолкнувшие благодаря грустному, но мужественному призыву Оливье. Любовь, презренная, униженная, попранная, раздавленная, но все же любовь боролась с дружбой в этом истерзанном сердце.
Вдруг молодой человек остановился. Он топнул ногой по паркету и взмахнул в воздухе крепко стиснутым кулаком. Крик негодования, отвращения и вместе освобождения вырвался из его груди, и, смотря прямо в глаза другу, он сказал:
– Оливье, дай мне честное слово, что ты не увидишь больше этой женщины, что ты не примешь ее, если она придет к тебе, что ты не ответишь ей, если она напишет тебе, что никогда ты не будешь справляться о ней, что бы ни случилось, никогда, никогда…
– Даю тебе честное слово, – отвечал Оливье.
– Спасибо! И я, – продолжал Отфейль с глубоким вздохом отчаяния и облегчения, – я даю тебе честное слово, что поступлю так же, что я никогда ее не увижу, никогда не стану писать ей… В эту лишь минуту я осознал ясно, что в моем сердце нет места для нее и для тебя одновременно. Я выбираю тебя.
– Спасибо, – молвил Оливье, пожимая руку друга.
Его душой овладело невыразимое чувство: смесь радости, признательности и страха; радости, потому что их дружба была спасена; признательности, потому что Пьер с чуткостью избавил его от мук ужаснейшей ревности; страха, потому что на лице друга во время этого самоотверженного обета выражалась дикая скорбь. Но Отфейль, как бы желая вырваться из комнаты, где только что разыгралась страшная драма, открыл дверь.
– У тебя больная там наверху, – сказал он. – Ты должен быть при ней. Надо ей поскорее выздороветь, чтобы мы могли уехать, если можно, завтра, а самое позднее – послезавтра… Я тебя провожу. Я тебя подожду в гостиной…
Два друга едва вышли в коридор, как увидели приближавшегося к ним слугу из отеля. Он держал на подносе письмо, которое протянул Пьеру со словами:
– Внизу дожидаются ответа, господин Отфейль.
Отфейль взял письмо, взглянул на адрес и, не разрывая конверта, протянул его Оливье. Тот узнал красивый и тонкий почерк Эли. Он отдал письмо обратно Пьеру и спросил:
– Что ты сделаешь?
– То, что обещал, – отвечал Отфейль.
И, вернувшись в комнату, он положил запечатанное письмо в большой конверт, написал адрес госпожи де Карлсберг и название виллы, а затем, снова выйдя в коридор, сказал слуге:
– Вот ответ.
Взяв Оливье под руку, он мог бы почувствовать, что друг его дрожал еще больше, чем он сам.
XI. Между двумя драмами
Эли ожидала ответа Пьера на свое письмо без всяких опасений. Она написала ему сейчас же после ухода Оливье, почувствовав инстинктивную и непреодолимую потребность окунуться в теплую и чистую атмосферу этой самоотверженной и прямой преданности после жестокой сцены, из которой она вышла разбитой, униженной, загрязненной. Ни одной минуты не оскорбила она Оливье подозрением в том, что он, даже одержимый самой яростной и злобно-ревнивой любовью, мог посягнуть на представление Пьера о ней – на представление, столь мало походившее на ее прошлое, но вполне правильное сравнительно с ее теперешним состоянием, вполне совпадавшее с нынешней сущностью ее души.
В этом письме она не говорила своему другу ничего такого, чего не повторяла бы уже в двадцати других: сначала она писала, что любит его, потом снова повторяла, что любит его, и еще раз, в конце, что любит его. Она была вполне уверена, что и он также немедленно ответит ей фразами любви, какие она двадцать раз уже читала и перечитывала, но каждое слово в них все же оставалось для нее чем-то новым и сладким, как неиспытанное счастье.
Взяв в руки конверт, на котором Пьер надписал ее адрес, она доверчиво взвесила его рукою, думая: «Он посылает мне длинное письмо. Как он добр!..» Она разорвала конверт в восхищении, которое тут же сменилось ужасом. Эли взглянула на свое нераспечатанное письмо, потом снова на конверт с адресом. Возможно ли, чтобы такое оскорбление шло к ней от «ее нежного», как называла она своего любовника с некоторой слащавостью, свойственной всякому сердечному чувству, от того Пьера, который еще в нынешнюю ночь сжимал ее в своих объятиях с таким обожанием, полным уважения, с такой благоговейной страстью!
Увы, сомневаться было невозможно. Адрес действительно был написан молодым человеком. Это в самом деле он посылал записку своей любовнице обратно, даже не пожелав распечатать ее. Последовав непосредственно за страшным объяснением, бывшим только что, этот отказ и возвращение письма означали разрыв, и причина явилась пред очами Эли с ужасной очевидностью.
Всей истины она не могла знать: ревности Берты Дюпра, пробужденной столькими уликами; той долгой психологической драмы, которая заставила молодую женщину обратиться к самому доверенному другу ее мужа с отчаянным, все выдавшим призывом. Такого сцепления случайностей невозможно было предвидеть, а вот умышленная нескромность Оливье казалась вполне вероятной, вполне согласовывалась с обычной низостью слишком уязвленного мужского самолюбия!
Эли не придумывала и не искала другой причины для объяснения ошеломляющего переворота в душе Пьера, переворота, существование которого доказывалось лежавшим перед ней немым свидетелем, более неоспоримым и веским, чем какие бы то ни было фразы. Подробности катастрофы объяснялись очень просто и логично: Оливье оставил ее, обезумев от раскаяния и желаний, от ревности и унижения, и в приступе полубезумия он поступил противно чести. Он рассказал. Что рассказал он? Все…
При одной мысли об этом кровь застыла в жилах несчастной женщины. С той минуты, когда Пьер на набережной старого порта в Генуе протянул ей депешу, извещавшую о возвращении Оливье, с той минуты она пережила такие томительные часы, что, казалось, мысль ее должна была бы привыкнуть к этой опасности или, по меньшей мере, допустить возможность такого факта. Но сердце, когда любит, сохраняет такую бодрую надежду, такую могучую силу иллюзий, что это испытание застало ее такой неподготовленной, не собравшейся с духом, застало так же неожиданно, как всех нас застает смерть…
О, если бы она могла сейчас же увидеть Пьера с глазу на глаз, сама поговорить с ним, оправдаться, защититься, объяснить ему, чем была она прежде и чем стала теперь и почему, объяснить свою борьбу, потребность во всем самой ему признаться и молчание из страха потерять его, из опасения причинить ему боль, из любви, единственно из любви!.. Увидеть его? Но где? Когда? Как?.. В отеле? Он ее не примет. Там был Оливье, который сторожил его, охранял его… У себя? Он больше не вернется… На свидании? Она даже не может просить у него свидания. Он не распечатает ее письма…
Эта натура, оставшаяся в глубине своей примитивной, почувствовала, как вся дикая, бунтующая сила ее предков-черногорцев поднялась в ней против пут, связывавших ее, как разыгралась разнузданная мощь. Этот бессильный порыв вылился в письме к Оливье, к низкому доносчику. Она презирала его в этот момент в силу всей своей веры в правдивость, в силу всей своей любви к Пьеру.
Это второе письмо было бесцельно и прямо недостойно ее. Но дать свободный исход ярости против Оливье – значило признаться в страсти к его другу… И притом – ведь боль, отзываясь в самых глубоких тайниках нашей души, пробуждает последние ресурсы надежды, которая живет в нас среди полного отчаяния, – и притом, как знать, быть может, Оливье, поставленный лицом к лицу со своим низким поступком, раскается, пойдет к другу и скажет: «Это неправда, я солгал. Я не был любовником этой женщины…»
Вся эта буря безумных мыслей, тщетного гнева и еще более тщетных надежд скоро пала перед новым фактом, таким же жестоким, как и первый. Эли послала письмо к Оливье около семи часов со своим лакеем. Пока она, в лихорадочном ожидании, заканчивала свой вечерний туалет, прошло полчаса, и лакей принес ответ: тяжелый запечатанный конверт, на котором рукой Оливье был надписан адрес, а в конверте лежало ее собственное письмо, нераспечатанное!
Итак, оба друга решили нанести ей одним и тем же путем одно и то же оскорбление! Она будто видела, как они, взявшись за руки, клялись друг другу в союзе против нее во имя их дружбы. Впервые эта душа, обыкновенно чуждая всем слабостям своего пола, испытала к их дружбе нечто вроде безрассудной ненависти, какую питают любовницы к простым товарищеским связям своих любовников, вроде инстинктивного прилива женской антипатии против чувств, исключительно свойственных мужчинам и недоступных женскому вмешательству.
В течение часов, которые последовали за этим двойным оскорблением, Эли была не только влюбленной и отвергнутой женщиной, которая вместе с любимым человеком теряет всякую радость в жизни и умирает от этого. Нет, она, кроме того, испытывала еще все муки самой дикой ревности. Она ревновала к Оливье, ревновала к чувству, которое он внушал Пьеру и сам испытывал к нему. В отчаянии от уверенности в безжалостной разлуке, она терзалась еще новой болью при мысли, что эти два человека счастливы в торжестве их братской нежности, что они живут под одной кровлей, что они разговаривают, уважают, любят друг друга.
Конечно, чувства такого рода плохо согласовались с природным величием ее духа. Но все тяжкие страдания похожи друг на друга тем, что уродуют наше сердце. Самое чуткое существо становится грубым, самое доверчивое – теряет благородную способность отдаваться, самое сердечное – впадает в мизантропию. Нет более глубокого заблуждения, как то, которое отразилось в знаменитом стихе: «Человек – ученик, а страданье – учитель его».
Учитель, да. Но учитель эгоизма, развращения… Чтобы не пасть в страдании, надо принимать испытание как возмездие, как искупление. Но ведь тогда нас улучшает не само страдание, а вера. Нет сомнения, если бы бедная Эли не была полной нигилисткой, которая верует, как она сама высказала определенно, что «есть только видимый мир», тогда все роковые несчастья, которые обрушились на нее, являлись бы ей в особом свете. Она признала бы таинственное правосудие, более мощное, чем все наши замыслы, более ненарушимое, чем наши расчеты, и увидела бы его проявление в коллизии, которая наказала ее двойной адюльтер дружбой, связывавшей обоих ее любовников, наказала и самих любовников, заставив их страдать друг из-за друга.
Но в поразившем ее ударе она видела только низкую месть прежнего любовника, и такое страдание могло только унизить ее дух. Она чувствовала, как гибнут все доблести благородного всепрощения, нежной мягкости, чуткой совестливости – все, что пробудила в ее сердце любовь, полная прекрасного энтузиазма. На их место подымались самые скверные ее инстинкты при мысли о том, что эти два человека, которым она принадлежала и из коих одного она любила до безумия, оба презирали ее.
И в ее воображении восставала фигура Пьера, который двадцать четыре часа тому назад был тут, возле нее, фигура ее Пьера, преданного, счастливого, экзальтированного!.. Все эти муки переходили в истерические кризисы, она плакала и кричала его обожаемое имя. К чему? Тот, к кому она обращала такие страстные воздыхания, не хотел даже и слушать ее!
Какой вечер, какую ночь провела несчастная, запершись в своей комнате! И сколько мужества надо было ей, чтобы не оставаться весь следующий день там же, закрыв окна, опустив шторы, прячась от дня, от жизни, от самой себя, уединившись, заточившись в мрак и молчание, словом, в обстановку, наиболее похожую на смерть!..
Но, дочь воина и жена принца, она носила в себе плоды этого двойного военного воспитания и всегда точно держала свои обещания. Пройдя такую школу, человек, несмотря ни на какие события, непременно выполнит в заранее назначенный час все свои намерения.
Эли вчера взялась поговорить с Дикки Маршем насчет мужа Ивонны и должна была после полудня дать ответ. Утром она чувствовала такую усталость, что хотела написать госпоже де Шези о том, что откладывает свой ответ и, следовательно, визит на яхту американца. Но потом она одумалась: «Нет, это трусость»…
И в одиннадцать часов утра, закрыв лицо густой вуалью из белого газа, так что не видно было ни покрасневших глаз, ни искаженных черт лица, она выходила из своей коляски на маленькую набережную, против которой бросила якорь «Дженни». Увидев, как на тусклом от жары небе вырисовывается оснастка яхты, она вспомнила о другом своем прибытии на те же раскаленные камни маленькой набережной, в той же коляске, почти в тот же час, две недели тому назад, вспомнила глубокую радость, которая наполнила ее, когда она узнала силуэт Пьера, робко смотревшего на нее с яхты.
Двух недель было достаточно, чтобы ее романтическая и нежная идиллия превратилась в раздирающую трагедию. Где человек, влюбленный в нее во время отъезда в Геную? Где скрывает он тяжкую муку, понесенную из-за нее и в которой она не может даже утешить его? Не уехал ли он уже из Канн? Со вчерашнего вечера мысль, что Пьер, быть может, навсегда бежал от нее, беспрерывно терзала ее сердце.
И все-таки она пожирала взорами эту яхту, на которой была так счастлива. Она считала окошки, линия которых проходила очень близко от палубы по борту «Дженни». Седьмое было то, которое освещало ее каюту, их каюту, брачное убежище, где они вкусили упоение первой ночи любви.
Возле борта на подъемной скамейке, привешенной к палубе, сидел матрос и красил наружную обшивку судна кистью, макая ее в большое ведро с краской. Тривиальность такого прозаического занятия на этом месте и в эту минуту окончательно придавали визиту Эли характер резкого контраста, который причинял боль молодой женщине.








