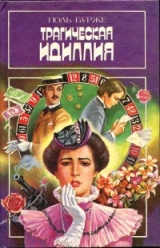
Текст книги "Трагическая идиллия. Космополитические нравы ..."
Автор книги: Поль Бурже
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Как видите, Оливье при всем своем скептицизме не был свободен от ходячих предрассудков и нелогичностей. Во время своей юности он находил совершенно естественным прятать свои интриги под прикрытие честных женщин: подруг или родственниц его любовниц. А теперь он находил очень странным, что Пьер ничуть не был скандализирован, видя, как госпожа Бонаккорзи и Корансез водворились в одном купе с господином и госпожой Дюпра!
Но главным образом он снова принялся за тягостную работу умозаключений, прерванную несколько часов тому назад, и думал: «Нет, эта толстая итальянка и этот шут с юга не могут ему нравиться… Если он выносит их, если он их любит, то, значит, они для него почему-нибудь удобны, они его сообщники или просто люди, знающие его любовницу… А любовница есть-таки! Если бы я не знал, что он ночевал не дома, если бы я не видел его в постели сегодня утром, с ввалившимися глазами, с бледным лицом, если бы в моих руках не было этого перстня с такой надписью, то стоило бы мне только взглянуть на него теперь… Это совсем другой человек…»
Произнеся в душе такие монологи, Оливье снова изучал своего друга с той страстной жадностью, которая угадывает смысл малейших жестов, все понимает по движениям век, по дыханию. Так дикарь примечает, анализирует и истолковывает примятую травку, след на земле, обломок ветки, раздавленный лист на тропинке, по которой прошел беглец.
Наблюдая, Оливье установил факт, что у Пьера в характере уменьшилась французская исключительность и узость, которую он подмечал прежде. Молодой человек любил Эли не более трех месяцев и не больше трех недель знал, что и она его любит. Но так как он постоянно думал о ней, то все ассоциации идей у него, все его мысли изменились нечувствительным, но существенным образом. Его разговор получил какую-то иностранную окраску. Вполне естественно у него проскальзывали намеки на Италию и Австрию.
Прежде он поражал Оливье полным отсутствием любопытства, а теперь он явно находил интерес в анекдотах из космополитического света, с которым был связан тайными, но живучими корнями. В этой области у него оказывались особые интересы, привычки, симпатии, чувства. А между тем в его письмах к другу ничто не обнаруживало такого перерождения. Оливье упорно старался открыть женщину, скрывавшуюся за этим разговором, за физиономией Пьера, за незначительными фразами, которыми обменивались трое собеседников.
Берта сначала нехотя отвечала на фамильярности Корансеза, а затем сделала вид, что поглощена созерцанием дивного морского пейзажа. День кончался. Синее и фиолетовое лоно вод дремало в обрывистых бухтах, возле высоких лесистых мысов пенились волны, а там, с другой стороны, позади скалистых гор, на краю горизонта вырезались зубчатые профили белоснежных вершин. Но рассеянность молодой женщины была чисто внешняя, и если бы Оливье сам не был взволнован именем, которое случайно было названо в разговоре, то он мог бы увидать, что это самое имя заставило содрогнуться и его жену.
– Вы обедаете завтра на вилле Гельмгольц? – спросила Отфейля госпожа Бонаккорзи.
– Я буду там вечером, – отвечал он.
– Не знаешь, баронесса Эли будет сегодня в Монте-Карло? – спросил Корансез.
– Нет, – сказал Отфейль, – она обедает у великой княгини Веры.
Когда он произносил эту фразу, в сущности, совершенно обыкновенную, его голос слегка задрожал. Играть в прятки с Оливье он счел бы недостойным ребячеством, и было совершенно естественным, что Корансез, зная его близость с госпожой Карлсберг, обратился к нему за такой незначительной справкой. Но дар двойного зрения, которым, по-видимому, обладают любовники, заставил его почувствовать, что друг смотрит на него особенным взглядом и, удивительное дело, так же смотрит и молодая жена этого друга. Сознание нежной тайны, которую он носил глубоко в сердце, в святилище обожания, сделало эти два взгляда столь тяжелыми для него, что его физиономия немного изменилась. Но этого было достаточно для двух лиц, которые в настоящий момент впились в него. В его замешательстве они нашли ответ – каждый на свою мысль.
«Баронесса Эли? Да ведь это имя написано на портрете!.. – подумала Берта. – Значит, эта женщина в Каннах? Какой смущенный вид и у Оливье, и у него!»
«Он в курсе всего, что она делает, – думал Оливье. – А с какой фамильярностью Корансез наводит у него справки о ней!.. Эти господа говорят таким тоном о женщинах, с которыми имеют открытую связь… Связь!.. Возможно ли?..»
Возможно ли? Внутренний голос, умолкнувший было после того, как Оливье прочел надпись на перстне, снова заговорил. Он отвечал, что связь Эли с Пьером не только возможна, но и вероятна, даже несомненна… И, однако, как мало было положительных данных в пользу этой уверенности! Но скоро к ним прибавился ряд новых фактов. Прежде всего, Пьер сам дал своему другу объяснение касательно Корансеза, который отлично заметил холодность его старого товарища.
– Ты был недоволен, увидя, что он вошел в наше купе, и он почувствовал это. Признайся…
– Таковы уж нравы здешнего побережья, – отвечал Оливье. – Но я нахожу, что он мог бы избавить мою жену от своих фамильярностей. Вот и все. Если госпожа Бонаккорзи его любовница, тем лучше для него… А представлять ее нам, как сделал он, я нахожу, что это несколько бесцеремонно. Вот и все…
– Она ему вовсе не любовница, – перебил Отфейль, – а жена. Он сейчас сам попросил меня сказать это тебе. Погоди, я все тебе объясню…
И в двух словах Пьер поспешно рассказал про необычайный тайный брак: и про тиранию Наваджеро, и решение его сестры, и отъезд их всех на яхте, и церемонию в старом генуэзском дворце. Для этого рассказа он выбрал момент, когда Берта в вестибюле ресторана снимала в нескольких шагах от них вуаль и манто, а они сами сбросили свою верхнюю одежду на руки швейцару. После того как они вышли из вагона, это была первая минута, когда она оставила их с глазу на глаз.
– Из-за всего этого ты не имел времени осмотреть Геную? – спросил Оливье, когда подошла его жена.
– Успел! На море поднялось волнение, и мы поехали обратно только на другой день.
«Они провели ночь на берегу!» – сказал себе Оливье. Но при иных условиях они провели бы ее вместе на судне, и его заключение не изменилось бы. Разве все замужние любовницы не мечтают о романтической обстановке для своего романа? Разве они не жаждут вполне насладиться утехами истинной ночи любви в безопасном убежище неги?
Судьба как бы желала рассеять последние его колебания. Проходя по ресторану и отыскивая свободный стол среди пестрой толпы обедающих мужчин и дам, Отфейль остановился. Он поклонился нескольким лицам, сидевшим за столом, который был накрыт роскошнее других и весь украшен редкими цветами.
– Ты не узнал твоей прежней дамы в котильоне? – спросил он Оливье, возвращаясь к чете Дюпра.
– Ивонна де Шези? В самом деле, она не изменилась… Как она молода! – молвил Оливье.
Перед ним было громадное зеркало, в котором отражалась вся живописная и пестрая картина модного ресторана: за столом сидели в шляпах и блестящих туалетах дамы света и полусвета, задевая и разглядывая друг друга, а их сопровождали мужчины, знающие и тех и других.
Обедающие расположились так, что Дюпра видел Ивонну только в три четверти. Против нее сидел ее муж, уже не ветреный и подвижный Шези, каким был он на «Дженни», а нервное, беспокойное, рассеянное существо – верный образ разорившегося игрока, который, среди полной роскоши, спрашивает себя, не выйти ли ему из комнаты и не размозжить ли себе голову. Между этим явно расстроенным человеком и без умолку хохотавшей молодой женщиной, которая ничего не подозревала, сидела личность с отталкивающей физиономией, с отвисшими щеками, с пронзительными, инквизиторскими злыми глазами, мясистый сановник с офицерской розеткой в петлице. Он явно ухаживал за молодой женщиной.
Между Ивонной и Шези сидела другая женщина, и Оливье видел сначала только ее спину. Потом он заметил, что эта женщина обернулась и посмотрела на их стол раз, другой, третий, четвертый… В поведении этой незнакомки было что-то настолько странное, интерес, который она обнаруживала к столу, где сидели Дюпра и Отфейль, так мало согласовывался со всеми ее манерами и сдержанным выражением ее лица, что у Оливье промелькнула новая надежда. Что, если эта красивая и изящная женщина с таким мягким, нежным выражением и есть обожаемая любовница Пьера? И он с рассеянным видом спросил:
– С кем это обедают Шези? Кто этот господин с розеткой?..
– Это финансист Брион, – отвечал Отфейль, – а милая женщина против него – это его жена…
Оливье снова взглянул в зеркало и на этот раз поймал взор госпожи Брион, явно устремленный на него. Память, безукоризненно сохранявшая все, что касалось его прошлых романов, подсказала ему это имя. Он отчетливо вспоминал теперь, как оно было произнесено в его присутствии незабвенным голосом.
Он увидел себя в аллее виллы Целимонтана, где он говорил Эли о своей дружбе к Пьеру и завязал с ней спор, как часто у них бывало. Он утверждал, что дружба, это чистое, благородное чувство, соединение уважения и нежности, безграничного доверия и симпатии, может существовать только между двумя мужчинами. Она возражала, что имеет подругу, в которой так же уверена, как он в Отфейле, и назвала Луизу Брион.
Значит, эта самая подруга Эли и обедала теперь в нескольких шагах от их стола. И если эта женщина смотрела на него с таким странным упорством, значит, она знала… Что она знала?.. Что он был любовником госпожи де Карлсберг?.. Вне всякого сомнения. Что Пьер любовник теперь?..
И эта мысль овладела им теперь дико, властно, и Оливье понял, что не в силах дольше терпеть. Но разве не в его власти было сейчас же узнать истину? Ведь Корансез заявил, что окончит день в игорном доме. А ведь он провел всю зиму с Отфейлем и госпожой Карлсберг и, наверное, знал, в чем дело. «Я спрошу его прямо, откровенно, – думал Оливье. – Скажет он или нет – я все равно прочту в его глазах… Он такой ветреный!..»
Потом он устыдился такого поступка, как страшной неделикатности по отношению к другу. «Вот что значит появление женщины между двумя друзьями. Как в них сразу пробуждается низость!.. Нет, я не стану вырывать истину у Корансеза… Ни за что!..»
Корансез ветреник? Нельзя было впасть в более полное заблуждение относительно свойств хитрого южанина. Но, к несчастью, он иногда бывал слишком хитроумен, а в настоящем деле это чрезмерное лукавство заставило его совершить роковую ошибку – окончательно раскрыть глаза Оливье. Дело в том, что никакие угрызения совести – увы! – не спасли Оливье от искушения. После того, что он говорил себе, несмотря на то, что сознавал так ясно, он поддался пагубному стремлению все знать: встретив около десяти часов Корансеза в одном из залов казино, он прямо спросил его:
– Баронесса Эли, о которой вы говорили в поезде, это, конечно, госпожа де Карлсберг, которую я знавал в Риме?.. Она жена австрийского эрцгерцога?..
– Она самая! – отвечал Корансез, думая про себя: «Эге! Отфейль не проболтался… Дюпра знал ее в Риме? Как бы не вышло тут крышки, не рассказал бы он чего Отфейлю!..» – И прибавил вслух: – Зачем ты это у меня спрашиваешь?
– Так себе, – молвил Оливье и, немного помолчав, прибавил: – А мой славный Отфейль не влюбился в нее немножко?..
«Так и есть! – подумал южанин. – Рано или поздно он это узнает, так уж лучше пусть поскорее – меньше будет зацепок»… И он ответил:
– Не влюбился ли? Да я видел все с самого начала… Он обожает ее от всего сердца…
– А она? – спросил Оливье.
– Она? – повторил Корансез. – Она от него без ума!..
И, радуясь своей прозорливости, он подумал: «Теперь я, по крайней мере, спокоен: Дюпра не станет впутываться!»
Шутник и не думал, какая страшная ирония заключалась в его соображениях. Он был так же наивен, как и его тайная супруга, простодушная Андриана, которая, разыскав госпожу Дюпра за рулеточным столом, отвечала на расспросы молодой женщины с самым неблагоразумным чистосердечием, не замечая ее волнения.
– В поезде вы говорили о некой баронессе Эли… Какое странное имя!
– Это уменьшительное от «Елизавета», довольно обычное в Австрии.
– Значит, эта дама австриячка.
– Как, вы не знаете ее? Да ведь это госпожа де Карлсберг, морганатическая супруга эрцгерцога Генриха-Франца… Вы, наверное, встретитесь с ней в Каннах. Вот увидите, какая она красивая, добрая, обаятельная!..
– А она прежде не жила в Риме?.. – спросила молодая женщина.
Как билось ее сердце, когда она задавала этот вопрос! Венецианка самым простым тоном отвечала:
– Как же, две зимы. Тогда она была не в ладах со своим мужем, и они жили каждый сам по себе. Теперь дело немножко уладилось, хотя…
И доброе создание, из скромности, замолкло!
IX. Друг и любовница
(Продолжение)
Не долго продолжалось чувство глубокой радости, которое испытала Эли, убедившись во время ночного свидания с Пьером в том, что Оливье ничего не сказал. Она слишком хорошо знала своего прежнего любовника и понимала, что это только временная отсрочка угрожающей опасности. Она знала, что думал о ней этот человек, знала, на какую фантасмагорию черных мыслей способна эта несчастная душа. Он не мог судить о ней теперь иначе, чем судил в эпоху их любви, когда относился к ней с навинченной жестокостью презрения, которое так возмущало ее.
Знала она, какую беспокойную и ревнивую дружбу питал он к Отфейлю. Нет, он не уступит ей без борьбы своего дорогого друга, хотя бы для того, чтобы спасти его от влияния такой женщины, какой представлялась ему она. Затем прозорливость прежней любовницы не обманывала ее, подсказывая, что когда этот человек, у которого чувственность болезненно сочеталась с ненавистью, узнает истину, тогда в нем проснутся муки самой низкой и жестокой ревности. Разве не на это била она сама вначале, когда питала планы мести, которых теперь стыдилась?
Все эти мысли ясно предстали пред ней тотчас же после ухода Отфейля. Как и в первый раз, она проводила его до порога теплицы, держа за руку и показывая дорогу среди мебели, расставленной по темной гостиной. Она умилялась и гордилась, чувствуя, что рука молодого человека не дрожит: он равнодушен к опасности.
Холодный ночной воздух заставил ее вздрогнуть. Последние объятия; уста их слились в последнем, жадном поцелуе, прощальном поцелуе. Расставанье всегда раздирает душу, когда вы любите: судьба так изменчива, несчастья наступают так неожиданно… Еще несколько минут ожидания, пока не замолкли его шаги в пустынной аллее сада, и она вернулась. На ее одинокой постели успело уже остыть то место, где лежал ее возлюбленный. И вот тут, среди внезапной тоски, вызванной разлукой, ее ум пробудился от сна забвения и неги, в который был погружен эти последние часы: ощущение действительности вернулось к ней и страх обуял ее.
Страх был жестокий, но недолгий. Эли принадлежала к боевым натурам. Когда доходило до дела, она была способна выиграть самую рискованную игру, а размышляя заранее, она выказывала ту энергию, которая позволяет дать себе ясный отчет в положении дел. Подобные души, сильные и ясные, не предаются лихорадочным страхам болезненного воображения, которое заставляет слабых людей терять голову. Они ясно видят приближение опасности. Вот почему в разгар зарождающейся страсти к Отфейлю Эли предвидела с уверенностью столкновение между своей любовью и дружбой Оливье к Пьеру – разговор с госпожой Брион доказывал это.
Но то же самое смелое чувство действительности заставляет подобных людей перед лицом опасности измерять ее. Они с точностью определяют все стороны переживаемого кризиса и обладают еще одной способностью: в самые отчаянные, по-видимому, моменты они дерзают надеяться и знают, на каком основании. После ухода Отфейля, опуская утомленную голову на изголовье неги, ставшее изголовьем тоскливой бессонницы, Эли де Карлсберг испытала новый приступ страшного беспокойства, но уже на следующее утро, вставая, она снова была исполнена верой в будущее. Она надеялась!
Она надеялась, опираясь на мотивы, которые ясно и отчетливо видела перед собой, как ее отец-генерал мог видеть поле будущей битвы. Прежде всего она надеялась на любовь, которую должен был питать Оливье Дюпра к своей жене. Ведь она сама вполне испытала, какое возрождение наступает в сердце благодаря любви к существу юному, чистому, не испорченному жизнью, как наша душа укрепляется, закаляется, создается вновь, как это общение вливает веру в добро, великодушное и благородное снисхождение, мягкость милосердия, как смывает оно позорные воспоминания, злые чувства и всю их грязь.
Оливье женился на ребенке, которого сам выбрал, которого, без сомнения, любит и который его любит. Почему же и ему было не подвергнуться благодетельному влиянию юности и чистоты? А в таком случае, где найдет он силу, чтобы причинить зло женщине, из-за которой он, быть может, страдал, которую мог осуждать сурово, несправедливо? Но ведь должен же он уверовать в полную ее искренность теперь!
Эли надеялась также и на то, что, видя искренность страсти ее к Пьеру, Оливье признает очевидное счастье своего друга. Она говорила себе: «Когда пройдет первый момент недоверия, он одумается, сообразит. Он поймет, что в моих отношениях к Пьеру нет ни одного порока, в которых он когда-то обвинял меня: ни самолюбия, ни легкомыслия, ни кокетства…»
Какой простой, прямой, честной сделала ее любовь! Как все люди, проникнутые глубоким чувством, она полагала, что невозможно отрицать полную искренность ее сердца. Потом она надеялась еще на чувство чести у них обоих. Она верила в честность Пьера, который не только ничего не скажет – это уж наверное, – но, наоборот, употребит все усилия, чтобы в его тайны не проник даже самый близкий друг.
Верила и в честь Оливье: она знала, до какой степени он щепетилен во всяких деликатных вопросах, как следит за собой, какой он джентльмен. Он тоже ни в коем случае не заговорит. Назвать имя своей прежней любовницы, раз любовь их в силу известных условий была покрыта строжайшей тайной, это значило нарушить молчаливый договор, столь же священный, как честное слово. Это значило пасть в собственных глазах. Оливье слишком уважал себя, чтобы допустить подобный поступок иначе, как в припадке доводящего до безумия кризиса тоски. Такого кризиса у него не будет и не может быть, раз он находится в подобных условиях, – женат, счастлив, – и притом ведь прошли уже долгие месяцы, почти два года! Нет, у него не будет этого кризиса тоски, а главное, он не захочет огорчить своего друга…
Наконец, был еще один мотив, на котором основывались надежды Эли, мотив самый твердый, и он доказывал, до какой глубины понимала она Оливье. Говорить Пьеру о ней значило поставить между двумя друзьями женщину, значило затуманить идеальную чистоту их чувства, по небу которого никогда не прошло ни одного облачка. Если Оливье и забудет уважение к самому себе, то этого не забудет.
Такие мысли утвердились в душе несчастной женщины на следующий день, после приезда Оливье в Канны. А это был как раз тот самый день, когда подозрения молодого человека получили осязаемость, когда доказательства все обильнее и обильнее стекались в его руки и, наконец, появилась полная уверенность после слов Корансеза, сказанных с доброй целью, но роковых!
Все эти надежды были подсказаны Эли де Карлсберг рассудком. Но тот же рассудок убивал их одну за другой в течение первой недели, которая последовала за возвращением Оливье, хотя она ни разу не встретилась с ним. Ничего она так не боялась, как сойтись с ним лицом к лицу, и, однако, она предпочла бы самое бурное объяснение этому полному отсутствию встреч, очевидно, преднамеренному со стороны молодого человека, потому что это было даже не совсем вежливо.
Эли оставалось только одно средство узнать истину: разговор с Отфейлем… Какие муки! Какие терзания! Единственно только через Отфейля она и получала сведения о словах Оливье в течение целой недели. Пьер находил вполне естественным рассказывать своей дорогой поверенной про все беспокойства, которые причинял ему друг, и он не подозревал, что самые незначительные детали имели для нее страшное значение.
Каждый их разговор в течение этих ужасных восьми дней заставлял ее все более и более углубляться в опасную бездну замыслов Оливье. Каждый разговор доказывал сначала возможность, потом приближение катастрофы и, наконец, полную неизбежность ее.
Первый удар был нанесен Эли на следующий день после обеда в Монте-Карло, когда она встретилась с Пьером уже не в тайном уединении ночного свидания, а на том большом вечере у нее, о котором говорили в поезде. Он приехал поздно, когда гостиные были уже полны, около одиннадцати часов.
– Виноват мой друг Оливье, который упорно задерживал меня, – сказал он, извиняясь перед госпожой де Карлсберг. – Я думал, что он совсем не даст мне идти.
– Он хотел сохранить вас для себя одного, – ответила она, – ведь он так давно не видел вас!..
Сердце ее усиленно билось: она поняла, быть может, после этой фразы Отфейля, что Дюпра, видя, как друг собирается к ней, выказал намерение помешать этому.
– Надо мириться с ревностью старого друга, – молвила она.
– Он не ревнив, – возразил Пьер, – он отлично знает, как я к нему привязан… Он засиделся, говоря о себе и о своем браке…
И он с грустью прибавил:
– Он так несчастен! Его жена так мало подходит ему. Она так мало понимает его! Он ее не любит, а она не любит его!.. О, это ужасно!..
Таким образом, воскрешение юных чувств в сердце Оливье благодаря юной любви, духовное обновление, на которое так сильно рассчитывала его бывшая любовница, оказывались иллюзией ее воображения. Наоборот, этот человек был несчастен из-за своего брака, в котором она хотела видеть верный залог забвения, полное уничтожение всего их прошлого. Это открытие возбуждало столько опасений за будущее ее собственного счастья, что она захотела поскорее узнать все хорошенько и долго расспрашивала Пьера в уголке маленькой гостиной. Они сидели у внутренней лестницы, ведущей в ее комнату.
По этой темной гостиной они проходили рука в руке в опасные минуты, и воспоминание о том оживляло теперь перед любовником и любовницей жгучую сладость их преступления. Эта маленькая гостиная, свидетельница их тайных свиданий, была в настоящую минуту наполнена движением и светом, и густая толпа гостей тут, как и на всех балах Ривьеры, производила впечатление мировой аристократии, если можно так выразиться. Гостиная служила переходом от ярко освещенной теплицы к анфиладе комнат, убранных цветами и зеленью и кишащих приглашенными.
Тут были самые красивые женщины американской и английской колоний; они сияли эксцентричной роскошью своих украшений, громко говорили и смеялись, выставляли напоказ пышные плечи и груди, столь характерные для их расы. Тут же вперемешку встречались итальянки, русские, австриячки; на первый взгляд их нельзя было отличить, но, вглядевшись, вы замечали полную разницу между представительницами разных наций. Чрезмерная изысканность туалетов и кричащие цвета обнаруживали склонность иностранок к излишней роскоши.
Среди дам мелькали господа в черных фраках, которые слыли за принцев крови или просто были в моде. Все разновидности этого рода были тут представлены. Спортсмен, прославленный удачей на голубиных садках, стоял бок о бок с путешественником, который приехал в Прованс, чтобы отдохнуть после пяти лет, проведенных в «дебрях Африки». Оба они разговаривали с талантливым парижским романистом. Это был нормандский геркулес с лицом фавна, с улыбкой на устах, с блестящими глазами. Через несколько лет ему пришлось в этом самом городе испытать смерть заживо, которая хуже настоящей смерти, – неисцелимое крушение его великого духа.
Но в этот вечер дух веселья воцарился в гостиных, освещенных бесчисленными электрическими лампами, пронизываемых теплыми струями весеннего воздуха. Еще несколько дней, и все это общество рассеется на все четыре стороны по обоим континентам. Может быть, сегодняшний вечер был особенно вдохновенным именно благодаря сознанию, что сезон почти уже окончился и близко расставание. Во всяком случае, общее настроение подействовало, казалось, и на самого хозяина дома, эрцгерцога Генриха-Франца…
Это было первое его появление в гостиных жены после страшной сцены, когда он явился за Вердье и почти насильно утащил его в лабораторию. Госпожа де Шези, госпожа Бонаккорзи, госпожа Брион, приехавшие на два дня из Монте-Карло, Отфейль – словом, все, кто присутствовал при его выходке в тот день и появился на сегодняшнем вечернем приеме, были совершенно поражены необычайной переменой.
Тиран переживал один из тех моментов исключительной мягкости и хорошего настроения, когда нельзя было устоять против него. Он переходил от группы к группе, находя для каждого и для каждой любезное слово. Как племянник императора, имевший право на престол, он обладал даром, по преимуществу, властителей – необыкновенной памятью на лица. Она позволяла ему называть по имени людей, которые были ему представлены всего один раз.
К этому у него присоединилось другое дарование, которое обнаруживало в нем натуру недюжинную, – удивительная способность разговаривать с каждым об его специальности. С русским генералом, который прославился постройкой смелой железнодорожной линии в азиатской пустыне, он говорил о закаспийских плато с пониманием инженера и гидрографа. Парижскому романисту он продекламировал строфу из первой его книги, мало известного сборника стихотворений. С дипломатом, долго состоявшим при Северо-американском правительстве, он рассуждал о таможенном вопросе, а специалисту по голубиным садкам порекомендовал новоизобретенное ружье с авторитетностью оружейника. С госпожой Бонаккорзи он говорил об ее венецианских предках, как архивариус библиотеки св. Марка, с госпожой де Шези – об ее туалетах, как завсегдатай оперы, даже госпоже Брион сказал любезное слово о доме Родье и его роли в важном австрийском займе. Эта удивительная тонкость ума в соединении с массой сведений делала его, когда он хотел понравиться, воплощенным очарованием.
Таким образом покоряя все сердца, он дошел до последней гостиной, где увидел свою жену, увлеченную разговором с Отфейлем. Ему как бы доставило удовольствие то, что он застал свою жену почти тет-а-тет с молодым человеком. Заметив его приближение, они замолчали. Его голубые глаза, яркие и живые, сверкнули еще сильнее, и, подойдя к паре, он сказал баронессе самым обыкновенным тоном, но благодушие голоса еще сильнее подчеркивало иронию фразы:
– Я не видел сегодня вашей подруги, мадемуазель Марш. Разве ее здесь нет?
– Она обещалась приехать, – отвечала госпожа де Карлсберг, – но, без сомнения, заболела…
– А вы не видели ее сегодня? – спросил принц.
– Видела сегодня утром… Не скажет ли мне ваше высочество, чем вызваны эти вопросы?
– Тем, – отвечал эрцгерцог, – что я особенно интересуюсь всеми лицами, которыми интересуетесь вы…
Когда ужасный человек произносил эти нагло-насмешливые слова, его глаза бросали на Отфейля такой дикий взгляд, что Пьер почувствовал почти магнетическое содрогание. Но это был всего один миг, и принц был уже около другой группы, разговаривая на этот раз о лошадях и о последних скачках в Дерби с англоманом Наваджеро и не обращая больше внимания на влюбленную пару, которая рассталась после нескольких минут тяжелого молчания, как бывает с людьми, которых подслушали.
– Мне надо поговорить с Андрианой, – сказала госпожа де Карлсберг. – Я слишком хорошо знаю принца и уверена, что за его прекрасным настроением скрывается какая-то жестокая месть. Он, должно быть, нашел средство разлучить Флуренс с Вердье… Ну, до скорого свидания… И не огорчайтесь особенно несчастным браком вашего друга… Бывает и похуже, уверяю вас…
Произнося эти слова, она обмахивалась большим веером из белых перьев. Вокруг этих тонких перьев носился аромат, связанный для молодого человека с самыми сладостными чувствами. Она слегка наклонила голову в знак прощания, и ее темные глаза блеснули той нежной лаской, которая как бы запечатлевает невидимый поцелуй на сердце любовника. Но в этот миг Пьер был не в состоянии почувствовать эту нежность.
Появление эрцгерцога снова повергло его в ту скорбь, которая является самым страшным возмездием за адюльтер: видеть, как любимую женщину третирует человек, имеющий на то право, ибо он муж ее, и не быть в состоянии защитить ее. Он смотрел, как она удалялась царственной поступью, прекрасная, изящная, с горделивой осанкой, особенно стройная в своем платье из розового муара, отделанном серебром.
Когда она проходила по гостиной, то на ее лице, которое он увидел в профиль, он заметил черту глубокой меланхолии, и снова от всего сердца оплакал жестокую судьбу ее брака. Он и не подозревал, что в этот момент госпожа де Карлсберг отнеслась совершенно равнодушно к иронии эрцгерцога, да и любовь мисс Марш и Вердье вовсе уж не настолько интересовала ее, чтобы грозящая их браку беда могла так удручить ее.
Нет. В эту минуту, среди этого бала, вот какая мысль тяжелым гнетом придавила сердце молодой женщины: «Оливье женился неудачно. Он несчастен. Он не приобрел той сердечной мягкости, которую дала бы ему любовь, если бы он любил свою жену… Он остался прежним… Значит, он все еще ненавидит меня… Достаточно было ему узнать, что Пьер собирается провести вечер здесь, и он уже хотел помешать ему прийти. И, однако, он ничего не знает… О! Когда он узнает!..»
Но, упорствуя в своих надеждах, она беспрестанно повторяла себе с надрывом: «Что же! Когда он узнает, то поймет, что я искренна и что я не заставляла и никогда не заставлю его друга страдать…»
Но и эта вторая иллюзия, что Оливье будет тронут искренностью и благородством ее любви, – и она была разрушена самим Пьером. После бала прошли три дня, в течение коих молодой человек не видел своей любовницы. Хоть разлука была для них страшно тяжелой, но Эли сочла более благоразумным не устраивать свиданий, пока Дюпра в Каннах.
Потом она думала вернуть свое, рассчитывая провести с Отфейлем в Каннах весь апрель и май, это нежное время цветов и уединения на этом берегу, среди покинутых садов. Приходил ей на ум проект путешествия по Италии. И перспектива такого счастья, счастья верного, если только удастся избежать настоящей опасности, давала ей силы вынести невыносимое: разлуку при полной возможности свидания. Так любить друг друга, быть так близко и не видеться! Но, по ее мнению, это было единственное средство предупредить зарождение подозрений у Оливье.
Но после трех долгих дней тоски она кончила тем, что назначила Пьеру свидание в вилле Элен-Рок, которая им обоим напоминала о счастливых минутах. Пока карета везла ее к мысу Антиб, она смотрела, как листва ползучих роз покачивалась на гребне стен: кусты стали гораздо длиннее, пышнее и уже не торчали, а ниспадали тяжелыми фестонами и давали густую тень; целый пожар больших распустившихся роз пылал на них. У подножия серебристых олив вспаханное поле было расцвечено молодыми побегами хлеба. Все это были явные признаки того, что в течение последних трех недель земля перешла от зимы к весне, и какая-то грустная дрожь пробежала по телу молодой женщины.








