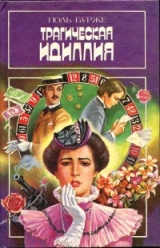
Текст книги "Трагическая идиллия. Космополитические нравы ..."
Автор книги: Поль Бурже
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Первый инцидент не был неожиданным для Пьера: к нему явился ликующий и изысканно одетый Корансез. Чтобы раз навсегда отрезать пути всяким попыткам к примирению, молодой человек приказал отказывать всем, кто бы ни явился к нему.
Но Корансез принадлежал к числу тех личностей, которые обладают даром умасливать самых суровых привратников, и на шестой день утром – а утро было такое же дивное, как когда они вместе ехали с визитом на «Дженни», – Отфейль снова увидел его в своей комнате, с вечным букетом гвоздик в петлице, с улыбкой на губах, со здоровым румянцем на щеках, с веселым блеском в глазах. Пленка засохшего коллодия на виске показывала, что вчера или третьего дня он получил сильную контузию. Кругом еще виднелась синевато-багровая опухоль. Но этот знак опасного происшествия ни на волос не уменьшал ликующего выражения его физиономии.
– Эта шишечка? – говорил он Отфейлю, игриво извинившись в своей настойчивости. – Ты хочешь знать, что это за шишечка?.. Ладно! К тысяче других это еще одно доказательство счастья Корансеза. Да-с!.. Вопреки проповеди монсиньора Лагумины, француз перехитрил итальянца… Да-с!.. Мою скромную особу покусился укокошить мой своячок, – прибавил он со своим раскатистым смехом.
– Ты шутишь? – молвил Отфейль.
– Самым серьезнейшим образом, – отвечал Корансез. – Но в книге судеб было написано, что покушение обернется веселым фарсом. Кажется, я полная противоположность всему трагическому… Прежде всего, ты знаешь, что пять дней тому назад мой брак официально объявлен. Это тебе должно объяснить, почему ты меня не видел последнее время. Мне пришлось делать свадебные визиты всем каннским высочествам и лордам… Повсюду симпатичный прием и полное изумление: «Тайный брак… Но зачем?..» По моему совету Андриана выставляла предлогом давний обет… «Но это оригинально! Но это мило!..»
Даже слишком большой успех, особенно у Альвиза. Он упрекнул нас лишь в одном: что мы прятались от него и могли поверить, будто он когда-нибудь станет мешать счастью своей сестры! «Мой брат, мой брат…» – так и слышишь на каждом шагу, во всем доме одно это слово и разносится. Но мы, провансальцы, мы понимаем толк в мести, когда дело касается корсиканцев, сардинцев и итальянцев… Я и подумал: «А когда же нож в бок?..»
– С его стороны было крайне неблагоразумно так скоро решиться! – перебил Пьер.
– А ты не знаешь, – подхватил Корансез, – знаменитого изречения… не знаю только чье… Увидав бедного мошенника, которого схватили, он молвил: «Вот человек, который плохо рассчитал…» На это может нарваться всякий убийца, но в данном случае было рассчитано вовсе не так плохо! Кому пришло бы в голову, что граф Альвиз Наваджеро убил мужа своей сестры, своего близкого друга?.. Я уже тебе рассказывал, что это человек времен Макиавелли, только отполированный по-современному… О! Ты сам сейчас увидишь.
Итак, я, не подавая и виду, начал хорошенько ко всему присматриваться… Два дня тому назад, почти в это самое время, мой молодец предлагает мне прокатиться на велосипеде… Не правда ли, тебе не приходилось видеть Борджиа на велосипеде вместе со своей будущей жертвой? Мне привелось участвовать в таком спектакле…
Вот мы и понеслись, как ветер, вдоль леса Валлори, по чему-то вроде тропинки, высеченной на скате обрывистого пика. И вдруг я чувствую, что машина ломается подо мной, а меня отбрасывает на двадцать метров, но, к счастью, в сторону горы, а не в бездну… Вот откуда эта шишечка…
Я не умер. Я был, наоборот, совсем жив и ясно видел на лице моего спутника такую черточку, которая заставила меня подумать, что мой казус пахнет немного XVI веком, несмотря на прозаическую обстановку…
Наваджеро пошел искать карету, чтобы отвезти меня домой. Оставшись один, я дотащился до обломков велосипеда, которые валялись на дороге, и констатировал, что ловкий напильник тщательно подпилил раму в двух местах, – я тебе покажу, в каких, очень ловко сделано, – подпилил так, что через полчаса быстрой езды машина должна была рассыпаться, и я в придачу…
– И ты не велел арестовать этого разбойника? – спросил Отфейль.
– Я не охотник до скандалов в семье, – возразил Корансез, который смаковал эффект, – и потом мой молодец стал бы утверждать, что он тут ни при чем… А где же доказательства?.. Однако я стал еще бдительнее. Правильно рассуждая, что он скоро опять примется за свое дело.
И в самом деле, вчера вечером, перед обедом, прихожу я к жене и нахожу там нашего героя с такими блистающими взорами и с таким видом полного удовлетворения!.. «Сегодня вечером», – думаю я себе.
Как мне пришел в голову папа Александр VI и отравленное вино, от которого он умер? Не могу тебе это объяснить: это уж прямо нюх, как у охотничьих собак… Ты знаешь, а, может быть, и не знаешь, что Андриана пьет только воду, мой свояк-англоман – только соду и виски…
Сели мы за стол; мне подали вино, а я и говорю ему: «Клянусь, Альвиз, я сделаю по-вашему… Дайте-ка мне вашего виски». – «All right»[42], – отвечает он. Быть отравленным по-английски, да венецианцем – это, право, совсем не банальность! Видя, как спокойно отнесся он к моему отказу пить вино, я думал, что обманулся…
Но панегирик некоему портвейну, полученному им от лорда Герберта, подал мне мысль, что именно к этой-то бутылке и не следует прикасаться… Он настаивает. Я позволяю налить мне стакан и нюхаю вино. «Какой странный запах, – говорю я спокойно, – я уверен, что в этом вине есть какая-то примесь…» – «В таком случае это неудачная бутылка, – говорит Наваджеро, – надо ее выбросить». Его голос, мина, взгляд… Я угадал!..
Я не говорю ни слова. Но в тот момент, когда метрдотель хотел убрать мой стакан, я кладу на него руку и спрашиваю маленькую бутылочку. «Я хочу подвергнуть это вино химическому анализу, – говорю я непринужденно. – Говорят, что портвейн, приготовленный для англичан, не содержит и атома виноградного сока. Любопытно проверить это». Мне приносят маленькую бутылочку, и с полным хладнокровием я выливаю туда свое вино, затыкаю пробкой и кладу склянку в карман. Хотел бы я, чтобы ты видел физиономию милого своячка…
Вечером мы имели маленькое объяснение, вследствие коего между нами было решено полюбовно, что я не донесу на него, но что он сегодня же уедет в Венецию. Ему предоставляется дворец и приличная пенсия, и я уверен, что он не примется за прежнее… На всякий случай я предупредил его, что я прикажу сделать анализ вина – кстати, он туда всыпал изрядную дозу стрихнина – и что результат анализа будет засвидетельствован в надлежащем учреждении. У меня два экземпляра этой штучки. Один я доверю на хранение госпоже де Карлсберг, а вот другой: хочешь ты спрятать его?
– Конечно, хочу, – отвечал Пьер, беря бумагу, протянутую ему южанином.
Таков уж эгоизм страсти: во всем чудовищном рассказе, выслушанном Пьером, имя Эли, произнесенное мимоходом, взволновало его более чем все остальное. Ему казалось, что собеседник, говоря о госпоже де Карлсберг, взглянул на него инквизиторским оком. «Нет ли у него поручения ко мне?..» – подумал он.
Поручения? Нет. Эли была не такая женщина, чтобы выбирать Корансеза посредником. Но Корансез был именно таким человеком, что сам готов был принять на себя миссию примирителя.
Накануне вечером он был у Эли, чтобы рассказать ей про тот же эпизод и попросить той же услуги. Там он, естественно, говорил об Отфейле и кое-что угадал. Этот странный человек питал к Пьеру искреннее чувство, доходившее до преклонения, а к баронессе Эли чувствовал нежную признательность. Забыв про свою собственную историю, которой, однако, весьма гордился, он задался мыслью примирить влюбленных.
При всей своей хитрости, он не мог угадать существа драмы, которая разыгралась между этими двумя лицами. Он видел их такими счастливыми, так охваченными любовью! Он думал, что все поправится, стоит только Пьеру узнать, что Эли в грусти.
– Давно ты не видел госпожи де Карлсберг? – спросил он Пьера, потолковав еще на тему о только что рассказанном происшествии, но спросил скромно: победа сделала его деликатным.
– Несколько дней, – отвечал Пьер, у которого сердце дрогнуло от такого вопроса.
Чтобы вполне сдержать свое слово, он должен был не позволять своему товарищу заходить дальше. Но он не мог удержаться и прибавил:
– А что?..
– Ничего, – молвил Корансез. – Я хотел справиться у тебя относительно нее: я недоволен состоянием ее здоровья. Я нашел ее очаровательной, как всегда, но нервной, грустной. Боюсь, что ее супружеская жизнь становится со дня на день хуже и что этот мужлан-эрцгерцог стал еще больше притеснять ее за то, что она склонила Вердье жениться на мисс Марш… Так ты ничего не знаешь? Дикки, наш друг с «Дженни», уехал на Восток на своей яхте с четой Шези, с племянницей и Вердье, которые уже помолвлены. Посуди сам о ярости принца.
– Итак, ты думаешь, что он снова стал груб с ней? – спросил Пьер.
– Я не думаю, я уверен. Пойди, взгляни на нее: это будет ей приятно. Она искренне расположена к тебе, уверяю тебя, и, готов дать голову на отсечение, она думала о тебе, говоря мне, что все друзья покинули ее…
Итак, она была несчастна! Слушая слова Корансеза, Пьер слышал отзвук вздохов, которые летели к нему из этих губок, которые он так любил, он видел тоску и печальные взоры отвергнутой любовницы… И это соприкосновение с ней, хотя бы и кратковременное, взволновало его еще сильнее, так сильно, что Оливье заметил это возродившееся смятение. Подозревая кое-что, он спросил:
– Я встретил Корансеза: он выходил из отеля. Видел ты его?
– Он довольно долго просидел у меня, – отвечал Пьер.
И он подробно рассказал о двух покушениях, жертвой которых чуть было не сделался муж Андрианы.
– Он получил бы лишь то, чего заслуживает, – молвил Оливье, – ты знаешь мое мнение о нем и о его браке… А больше он ничего не говорил тебе?
И, помолчав, он прибавил:
– Он не говорил тебе, знаешь, о ком?
– Говорил, – ответил Пьер.
– И это тебя угнетает? – спросил Оливье.
– И это меня угнетает.
Друзья переглянулись. В эти шесть дней они впервые определенно намекнули на постоянный предмет своих мыслей. Оливье, казалось, колебался, как будто произнести слова, которые он собирался выговорить, было выше его сил. Потом он начал глухим голосом:
– Слушай, мой Пьер, ты слишком несчастен. Дольше так не может идти… Я уезжаю послезавтра. Берта почти поправилась; доктор разрешает и даже советует вернуться в Париж… Потерпи еще сорок восемь часов… Когда меня тут уже не будет, вернись к ней. Я возвращаю тебе твое слово… Я этого не увижу, не буду знать… Прошлое останется прошлым… Ты любишь ее более чем меня… Отдайся вполне этому чувству…
– Ты ошибаешься, Оливье, – отвечал Пьер. – Правда, я страдаю. Я не отрицаю этого. Но не решение мое тому виной: в нем я не раскаивался ни секунды. Нет… Я страдаю от того, что узнал. Но я уже знаю это, и знаю навсегда… Вернуться к ней при таких условиях было бы адом. Нет. Я дал тебе слово и сдержу его. А будто я люблю ее больше, чем тебя… Взгляни на меня!..
При этих словах в глазах его показались слезы, крупные, тяжелые слезы, которые покатились по щекам. Такими же слезами наполнились глаза и сердце Оливье, когда он взглянул на друга. Так простояли они несколько минут, и, поделившись горем после долгого молчания, они снова были тронуты, и души их слились в одном чувстве. Один и тот же порыв сострадания овладел ими и заставил Оливье возвратить слово Пьеру, а Пьера отказаться от разрешения; тот же порыв извлек у них эти слезы. Каждый из них жалел другого и чувствовал, что и его жалеют. Они снова обрели друг друга, и дружба наполнила их таким волнением, что еще раз любовь была побеждена. Пьер первый осушил свои слезы и произнес тем же решительным тоном, каким произносил клятву:
– Послезавтра я еду с тобой, и мне не потребуется на то особых усилий. Оставаться мне невозможно. Я не сделаю тебе, я не сделаю нам…
– О, друг мой, – воскликнул Оливье, – ты возвращаешь мне жизнь!.. Я оставил бы тебя здесь, не вымолвив ни одного упрека, ни одной жалобы. Я был искренен в том, что предлагал тебе. Но это слишком тяжело… кажется, я умер бы…
Благодаря этому новому разговору они провели день и вечер удивительно спокойно, почти счастливо. В болезнях духа бывают такие же часы отдыха, как и в болезнях тела, – часы, когда недуг ослабевает и нам кажется, что мы возвращаемся к жизни, хотя все еще слабы, все еще разбиты страданиями. Это чувство возрождения, хрупкого, слабого, но все же возрождения, усилилось еще у обоих друзей благодаря другому, чисто физическому выздоровлению – Берты. Какими благочестивыми обманами утешил и излечил ее Оливье?
Молодая женщина ходила взад и вперед, увлеченная приготовлениями к близкому отъезду, и до такой степени радовалась поездке, что в сиянии этой радости совершенно незаметно было отсутствие румянца на ее лице. Она ведь тоже много перестрадала, но нескольких дней было достаточно, чтобы давно дремавшая женская энергия начала пробуждаться в ней. Она приняла твердое решение: заставить мужа полюбить ее, заслужить эту любовь.
Подобные усилия так трогательны для человека, который умеет понимать их; за ними скрывается столько смирения, столько преданности!.. Так трудно для молодой женщины, так несогласно с ее гордым инстинктом вымаливать любви, как нищей, вызывать ее, завоевывать, так тяжело быть любимой, потому что она любит, а не потому что ее любят!
Оливье был слишком чуток, чтобы не заметить это обстоятельство. Он поддался особому настроению, которое испытывает мужчина, когда он страдает из-за одной женщины и получает от другой задушевные ласки, поняв всю цену их только благодаря несчастной любви. Он улыбался Берте так, как никогда ей не улыбался, и Пьер сам невольно поддавался этим проблескам веселости у своего друга. Не была ли эта веселость делом его рук, плодом жертвы, которую принес он, подтвердив свою клятву? Наконец, это был один из таких моментов, какие выпадают накануне самых страшных кризисов, а потом их обманчивая ясность вспоминается нам и повергает нас в изумление, даже в ужас. Ничто лучше не может доказать, что вся жизнь человеческая есть лишь сон, а мы – игрушки высших сил, которые гонят нас туда, куда нам суждено идти, и никогда почти не можем мы предвидеть, что будет с нами завтра. Опасность приближается, она наступила. Вершители наших судеб стоят возле нас, а мы живем, дышим и не подозреваем, что нам готовится. Случай, Судьба, Провидение? Как назвать тебя, неизбежная загадка рока?
Визит Корансеза пришелся на пятницу. Отъезд из Канн был назначен на воскресенье. В субботу утром, около одиннадцати часов, когда Отфейль был один в комнате и укладывал одежду, в его дверь раздался стук, заставивший его вздрогнуть. Хотя он прочно утвердился в своем решении, но не в силах был запретить себе ожидать. Ожидать? Чего? Он и сам не сумел бы ответить. Но какое-то смутное чувство, бессознательное и непреоборимое, подсказывало ему, что Эли не допустит его отъезда, не попытавшись еще раз увидеться с ним.
Между тем сама она не подавала ему никаких знаков о себе после того, как он отправил обратно письмо. Она никого не посылала к нему, и Корансез пришел сам по себе. Однако же молодой человек находился в том нервном напряжении, которое предупреждает события, угадывает их, когда они лишь приближаются к нам.
Голос Пьера дрожал, когда он крикнул неизвестному посетителю: «Войдите!» Он знал, что кто бы ни был этот посетитель, но он послан Эли. То был просто лакей из отеля, который держал в руках письмо без марки, принесенное рассыльным. Ответа не ожидали. Отфейль взглянул на конверт, не раскрывая его. Прочтет ли он это письмо, зная, что оно послано госпожой де Карлсберг?..
Но адрес написан не ее рукой… Пьер стал припоминать, где видел он этот нервный, неровный, как будто испуганный почерк?.. Вдруг ему вспомнилось анонимное письмо, полученное после вечера в Монте-Карло. Он показывал его Эли, и она сказала: «Это Луиза!..» Значит, и это письмо от госпожи Брион. Такое открытие не оставляло более сомнений: открыть конверт – значило вступить в сношение с Эли, искать вестей о ней, нарушить данное слово, предать друга.
Пьер почувствовал все это и, отбросив искусительное письмо, просидел несколько минут, сжав лоб руками. Надо, по крайней мере, отдать ему должное, что он не пробовал оправдать себя в собственных глазах софизмами. «Я не должен читать это письмо, – повторял он себе, – я не должен!..»
А потом вдруг закрыл дверь на крюк, как вор, который готовится к преступному занятию; со щеками, покрасневшими от стыда, он быстро разорвал дрожащими руками конверт. Оттуда вывалилось сперва письмо, а затем другой пакет, запечатанный и без всякой надписи… Если Пьер хоть каплю сомневался касательно того, что лежало во втором конверте, то записка госпожи Брион должна была сразу объяснить ему все. Вот что было написано:
«Милостивый государь!
Несколько недель тому назад вы получили письмо, в котором вас умоляли покинуть Канны и избавить от тяжкого горя одну особу, много перенесшую и заслуживающую всякого уважения. Вы не послушались совета, который давало вам то письмо неизвестной подруги. Но теперь, когда несчастье уже случилось, та же подруга умоляет вас не отвергать этого, второго призыва, как вы отвергли первый.
Особа, в жизнь которой вы вторглись и заняли в ней такое место, не надеется уже снова найти счастье, которое отнято у нее. Она только просит вас – и если вы углубитесь в самые тайники своего сердца, вы признаете, что она имеет на то право, – просит не осуждать ее, не выслушав. Она написала вам письмо, которое вы найдете приложенным тут же. Не отсылайте его обратно, как сделали вы с первым, обнаружив несвойственное вам жестокосердие.
Если вы не вправе прочесть это письмо, то уничтожьте его. Но тогда скажите себе, что вы были жестоки, страшно жестоки к сердцу, которое отдало вам все, что было в нем самого искреннего, благородного, нежного, правдивого».
Пьер читал и перечитывал эти наивные, безыскусственные строки, столь красноречивые для него. Он угадывал за ними страстную преданность Луизы Брион своей подруге Эли и был тронут, как все несчастные любовники, которых трогают знаки преданности их любовнице. Им так нужно знать, что ее любят, балуют, охраняют в то самое время, когда они проклинают ее с непримиримейшим гневом, когда они готовы терзать и мучить ее со всем безумием ревности!..
И в самом деле, сколько преданности было у честной, богобоязненной Луизы, если она, спускаясь со ступеньки на ступеньку, дошла, наконец, до того, что отправила Отфейлю письмо Эли! Она даже сама хотела приехать в отель «Пальм», спросить Пьера, поговорить с ним, из рук в руки передать ему пакет – но не посмела. Да, пожалуй, она этим только испортила бы дело и оказалась бы не в силах победить угрызения совести в молодом человеке.
Между тем как чувство, вызванное в нем этой простой запиской, прямо обезоружило его против нежных воспоминаний. Он разорвал второй конверт и прочел:
«Пьер!
Я даже не знаю, прочитаете ли вы когда-нибудь эти строки и не понапрасну ли они написаны, – как тщетно пролиты потоки слез, которые струились из моих глаз, когда я думала о вас после того ужасного дня. Я не знаю позволите ли вы мне еще раз сказать вам, что я люблю вас, что я никогда и никого на свете не любила, кроме вас, и, чувствую, никого уже после вас не полюблю. Но мне необходимо высказаться перед вами, в надежде, что все же дойдет до вас моя жалоба, смиренная жалоба сердца, которое страдает не столько от собственного горя, сколько от горя, причиненного вам.
Когда я получила первое письмо, которое вы не захотели даже распечатать, то сердце мое разрывалось при мысли: как должен он страдать, если поступил так жестоко! И я чувствовала только ваше горе…
Нет, мой любимый, не могу я говорить с тобой иначе, как заговорила с того часа, когда призвала тебя, чтобы попросить тебя уехать, – и приняла в свои объятия. Я попробовала овладеть собой. Но мне слишком больно не открывать перед тобой все мое сердце. Если ты не прочтешь этих строк, ты не рассердишься на меня за слова любви, которые я скажу тебе: ты не услышишь их. А если ты их прочтешь!.. Ах, если ты прочтешь их, ты вспомнишь наши часы, те часы, которые прошли так быстро на берегу моря, под прелестными спокойными соснами на мысе Антиб, потом на палубе судна, потом в Генуе, когда ты не был еще поражен страшным ударом, когда я могла видеть тебя счастливым и делать тебя счастливым!..
Милый мой, ты не знаешь себя, ты не можешь знать, что значит для женщины дать тебе счастье!.. Если я не сказала тебе сразу того, что ты знаешь теперь, то вся моя вина вышла из-за того, что во мне жила уверенность: стоит мне сказать – и никогда более не увижу я твоих глаз такими, какими видела их – чудными, с ясным светом, отражавшим твою прекрасную, восхищенную душу.
Пойми меня, мой любимый, и не думай, что я хочу оправдать свою вину перед тобой. Правда, я не стоила тебя. Ты был воплощением красоты, юности, чистоты, всего, что есть на земле доброго, нежного, чудного. Я потеряла право на любовь такого существа, как ты. Я должна была сказать это тебе с первого же дня, а потом ты мог бы снизойти ко мне, взять меня и кинуть, как свою рабу, как бедное существо, созданное для того, чтобы понравиться тебе на одну минуту, развлечь тебя и возблагодарить тебя за то… Знай же, бедный мой, любимый мой, я думала об этом и дорого заплатила за влечение не гордости, а любви: я боялась заслужить твое презрение!..
И потом, женщина, которую ты возродил во мне, так мало походила на то, чем была я до знакомства с тобой! «Я не лгу ему», – думала я. И я не лгала тебе, любя тебя сердцем, изменившимся совершенно… О, как любила я тебя! Как любила я тебя! Этого ты никогда не узнаешь, ни ты, ни, думаю, я сама! Во мне жило что-то более глубокое, чем мое сердце, и такое грустное, когда я думала, что могло бы быть, если бы я дождалась тебя!..
Пьер, ты видишь, что я говорю о себе в прошедшем, как говорят о мертвых. Но не бойся, однако. Я не думаю покончить с жизнью. Я принесла тебе слишком великую печаль, чтобы усилить ее еще угрызениями совести. Я живу и буду жить, если можно назвать это жизнью – узнать тебя, полюбить, быть любимой тобой и потерять тебя!..
Я знаю, что ты покидаешь Канны, уезжаешь завтра. Кажется мне, что ты не захочешь покинуть меня навсегда, не дав возможности поговорить с тобой. Рука моя дрожит, водя пером, я не нахожу слов, чтобы выразить тебе свои мысли. Но все же есть что-то очень жестокое в мысли, что ты покинешь меня, не позволив объяснить тебе, какие причины довели меня до того, что прежде я была другим человеком.
Если бы ты пробыл со мной час, один только час, то ты все-таки уехал бы, но судил бы обо мне иначе. Что было, то не воротится. Но мне хотелось бы унести с собой во вдовью жизнь, которая теперь ожидает меня, хоть одно утешение, что ты видишь меня такой, какая я на самом деле, что ты не считаешь меня способной на то, чего я не совершила.
Любимый мой, часы мои сочтены! Ты уезжаешь завтра. Когда ты будешь читать это письмо, если оно тронет тебя, если ты найдешь, что я обращаюсь со справедливой просьбой, приходи ко мне в час, в который приходил прежде. После одиннадцати часов я буду ждать тебя в теплице. Если ты бесповоротно осудил меня и откажешь мне в этом последнем свидании, прощай тогда, прощай, прощай навек, и ни единый упрек тебе не сорвется с губ моих, не шевельнется в сердце, и все равно я всегда-всегда буду говорить тебе: «Спасибо, любимый мой, за то, что научил любить тебя».
«Я не пойду», – сказал себе молодой человек, прочитав до конца эти строки, в коих звучал страстный призыв любви. «Я не пойду», – повторил он. Но он знал, что в душе его уже нет твердости, что он не в силах сопротивляться, что он откликнется на этот горестный призыв, что он поддастся этому милому голосу, музыка которого звучала в каждом слове письма, умоляя его, обжигая любовью, лаская ему сердце смертельно-грустной и нежной лаской.
Сознание возможной, несомненной низости было в нем до такой степени ясно, что взор друга, когда они встретились за завтраком, казался ему невыносимым. Пьер не в силах был разговаривать с ним, слышать его голос, быть в одной комнате с ним. К концу дня он уже не смел говорить себе: «Я не пойду».
Какая-то раскованность, которую придает любовнику уверенность в предстоящем свидании, овладевала им, наполняла его, увлекала все его существо, и к одиннадцати часам вечера он, нахлобучив шляпу на самые глаза, прижимаясь к стенам, как преступник, с пересохшим от волнения горлом, обезумев от стыда и страсти, вышел из отеля и направился по дороге, которая вела к вилле Гельмгольц. Женщина победила. Предательство свершилось…
Была одна из тех провансальских весенних ночей, когда вся природа полна опьяняющей неги. Ароматы цветов ласкали Пьера, несясь из густых садов. Томный ветерок шелестел в темной листве деревьев, придавая пейзажу какую-то жизнь, упоенную убаюкивающим экстазом; твердь сверкала звездами. Нарождающаяся луна оттеняла мрак, не имея силы осветить его, и необъятная тайна парила над молчаливым пейзажем. Это ли не ночь, чтобы идти к любовнице с бурей страсти в сердце, с поцелуями на губах, с лихорадочным пылом предвкушаемой неги в крови!
Однако Пьер, по мере того как приближался к месту свидания, начинал испытывать невыразимую тоску. Этот поступок, который сейчас свершится, представлялся ему таким преступным, что он был удручен. И все же он совершал его. Он шел. Огонь, вспыхнувший в его крови благодаря словам письма, продолжал владычествовать над ослабевшей волей. Он шел. Но это тайное и преступное посещение женщины, которую он презирал, презирая и самого себя за вожделение к ней, совсем не походило на прежние его свидания на той же вилле, когда он шел по той же дороге, но чувствовал благоговейный трепет, как пилигрим!
А Оливье?.. Боже! Если бы Оливье видел его теперь, тот Оливье, которого он так жестоко предает!.. На этой мысли сосредоточивалось все его существо, объятое трепетом любви и угрызений до такой степени, что малейший шорох приводил его в ужас. Очертания предметов вокруг него принимали грозный и фантастический вид.
Сердце его колотилось, нервы напрягались, страх одолевал его. Ему казалось, что чьи-то шаги преследуют его среди ночного мрака, и он останавливался, прислушивался. В одну минуту, когда он собирался перелезть через изгородь там, где всегда пробирался в сад Эли, это ощущение, что его преследуют, так усилилось, что он вернулся назад, осмотрел всю дорогу, кусты, кучи камней, избегая, как вор, широких лучей света, которые бросала электрическая лампа, помещенная на одной из колонн решетки. Осмотр не обнаружил ничего подозрительного.
Но волнение Пьера было до такой степени сильно, что он не решился проскользнуть по прежней дороге, слишком доступной, слишком открытой. Он бросился бежать, как будто его в самом деле преследовали, вокруг небольшого парка, который служил продолжением сада виллы. Довольно высокая стена замыкала его.
Он вскарабкался, цепляясь за ветки зеленого дуба, разросшегося у самого основания стены. Прижавшись к каменной обшивке, которой заканчивалась ограда, он еще минуту прислушивался, но не услышал ничего, кроме шума легкого ветра, шелеста листьев среди необъятного молчания ночи, да далеко, совсем далеко лая собаки в каком-то заброшенном доме. «Мне пригрезилось», – подумал он и, придерживаясь руками, стал спускаться вниз, потом спрыгнул. Высота была около трех метров. К счастью, земля, рыхлая в этом месте, заглушила шум, и он направился к дому. Еще несколько минут – и он был у дверей теплицы, тихо отворил их, и рука Эли схватила его руку…
Что сталось бы с ним, если бы он мог знать, что панический ужас не обманул его, что действительно чьи-то шаги следовали по его стопам от самого отеля, что свидетель, присутствие коего чувствовал он в тени, совсем близко от себя, до той самой минуты, когда бросился бежать, этот свидетель был не кто иной, как Оливье?
Дом по-прежнему стоял закрытый со всех сторон, молчаливый, таинственный, местами совершенно черный, местами, куда ударял электрический свет, совершенно белый… Глубокое молчание ночи, к которому прислушивался Пьер с верхушки стены, по-прежнему царило кругом, прерываемое только отдаленным лаем, и деревья по-прежнему шелестели, и цветы испускали аромат, и звезды мерцали, – а Оливье оставался недвижим на опушке сада, на том месте, куда спрятался, чтобы друг не заметил его.
Его горе теперь не было тем горем, которое заставляет действовать и бороться. Когда он встретился лицом к лицу с Пьером за столом во время завтрака, то эти взволнованные черты, блестящие взоры, дрожащие губы сразу раскрыли ему, что снова случилось что-то. Он был так утомлен постоянной борьбой, так устал защищать собственное сердце и сердце друга от новых и новых бед! И притом, после вчерашнего разговора о чем было спрашивать? И Оливье промолчал… Чего ради еще раз причинять боль друг другу?..
Но затем, по мере того, как возрастало смятение Пьера, пробуждалось и его недоверие. «Она писала ему и назначила свидание», – подумал он. Но нет! Они были в таком положении, что получить письмо от Эли, прочитать его и ни слова о том не сказать – было бы со стороны Пьера таким преступлением против дружбы, на которое он не пойдет никогда. Оливье всеми силами старался убедить себя в безумии такого подозрения.
Но потом видимое лихорадочное возбуждение друга охватило и его самого. По пожатию его руки, когда они расставались на ночь, почувствовал он близкое, несомненное, уже свершенное предательство. Зачем не сказал он ему ни слова в эту роковую минуту?
Перед величайшими несчастьями сердце наполняется покорностью судьбе: против некоторых слишком неожиданных ударов не борются, даже не сетуют. Если Пьер действительно решил нарушить договор, заключенный между ними, то как было упрекнуть в этом и чего ради? Чего ради?..
И, прислонившись к открытому окну, призывая на помощь все чувство собственного достоинства, чтобы не пойти и не постучаться к другу, Оливье долго стоял, повторяя: «Это невозможно». Но вдруг ему показалось, что он увидал силуэт Пьера, который скользил по саду отеля.
На этот раз он не в силах был владеть собой. Поддаваясь непреоборимому влечению, он спустился, спросил швейцара и узнал, что Пьер действительно только что вышел. Несколько минут спустя он сам уже стремился по дороге к вилле Гельмгольц. Он разглядел своего друга и стал следить за ним. Он видел, как тот оборачивался, прислушивался, снова продолжал идти…








