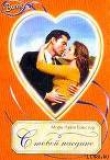Текст книги "История Роланда (СИ)"
Автор книги: Пилип Липень
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)
117. Истории безоблачного детства. О конечной цели
Когда мы были маленькими, кругом находилось множество охотников просветить нас по половой части – на каждой улице, в каждом переулке нас подманивали разные, и пожилые, и помоложе, и шептали неизменное: а знаете, мальчики, зачем вам ваши краники? а знаете, из-за чего берутся маленькие дети? Поначалу мы всякий раз отвечали, что не знаем, и люди с большим удовольствием пускались в объяснения, всегда похожие, но с некоторыми вариациями, зачастую обусловленными терминологией: одни предпочитали заветные и запретные слова, другие – нарочито детские, иногда даже самодельные, третьи обходились жестами, подмигиваниями и извивами длинных языков. Нас всё это долго забавляло, но постепенно прискучило, и мы во время прогулок стали избегать закоулков и подворотен, шагая по краю тротуаров, между липами и мостовой. Так нам удалось избавиться от прохожих, но теперь на нас обратили внимание таксисты и водители автобусов: они ехали следом, гудели и облизывали полные губы. В конце концов мы остановились и с раздражением ответили шофёрам: да, да, мы уже знаем, зачем нам наши краники. Мы думали, они на этом успокоятся, но нет, их глаза замаслились, и они спросили: видели ли мы воочию, как наш папа делает маме ещё одного братика? Нет! Мы быстрым шагом ушли и весь день просидели дома, но потом устыдились своего малодушия и решили раз и навсегда выяснить, к чему все эти разговоры, и какова их конечная цель. Мы вышли к трамвайной остановке и подступили к первому попавшемуся дежурному. Он улыбнулся нам: что, мальчики, гуляете? Да. А знаете, зачем вам ваши краники? Да. А вы видели, как ваш папа охаживает вашу маму? Да. А сами уже пробовали? Да. А хотите ещё раз попробовать? Да. Он повёл нас дворами к своему дому, угостил булочками и смородиной, и кое-что показал, и кое-что попросил, и мы на всё соглашались без малейших колебаний: и смотрели, и трогали, и тянули, и двигали, и тёрли, и мяли, и трясли. Оставив его, уже ничего не спрашивающего и не желающего, лежать на тахте, охать и кряхтеть, мы вернулись домой и провели вечер в безделии и неудовольствии. Итог казался нам несуразной нелепицей, мы немного послушали радио и рано заснули. Но утром произошло нежданное: из окна мы увидели, как вчерашний дежурный, ссутулившись, прохаживается у нашего парадного. Мы спустились; он дрожал, ёжился, его голубые глаза были несчастно и просительно раскрыты. Он шагнул к нам и пролепетал: идите ко мне, мальчики, я люблю вас! Люблю! Конечно, мы не пошли к нему, и прогнали, и приказали не сметь появляться, но произошедшее необыкновенно воодушевило нас. Мы подпрыгивали, обнимали друг друга и ликовали: кто бы мог подумать! Получается, конечная цель – это любовь!
118. Возвращение. У стюарда
Когда я возвращался в ночном поезде с рождественских каникул, мне вздумалось заказать себе кофе с сахаром и сливками. Стюард в тёмно-синем форменном костюме, моложавый блондин, пригласил меня в своё купе, усадил в кресло и предложил сыграть в одну интересную игру, пока кофе будет готовиться. Мы посмотрели друг другу в глаза, и почувствовали взаимное расположение – так иногда бывает, знаете? Он оказался большим меломаном: стены были заполнены полочками с компакт-дисками, а небольшие свободные пространства занимали плакаты знаменитых рок-групп. Игра заключалась в том чтобы определить на слух, кто есть кто по маленькому музыкальному фрагменту. Первый ход он предоставил мне, и я, чтобы не пользоваться его фонотекой, сбегал в свою сумку и принёс кое-чего. Но моя предусмотрительность мне не помогла: Гудмена от Фримена он отличал с лёгкостью, Малера от Ван ден Буденмаера – со щелчком пальцев, Х-RX от Combichrist – с лихим коленцем. Я же на его фоне выглядел кретином: Сябры мне казались Верасами, Пярт – Прайснером, а Napalm Death вопиюще перепутался с Ragazzi Dildos. Вежливо сделав вид, что не заметил моих ошибок, он отвёл пристыженного меня в гостиную, угостил изысканной швейцарской лапшой и завёл доверительный разговор.
– Если ты хочешь что-то кончить, то лучше это сделать в самом начале, – сказал он.
– Что ты имеешь в виду? – сказал я.
– Разве ты не знаешь, что всё однажды кончится? – сказал он.
– Какая ерунда! – сказал я.
– Ты похож на страуса, который прячет голову в песок.
– Я не понимаю тебя.
Промолчав, он выглянул в сад и помахал дочери, которая томно качалась на гамаке, натянутом меж двух яблонь. Молодая, белая, в лиловом платье, она взглянула на меня и потупилась. «Дурацкий разговор! – сердился я на себя, – Вместо того, чтобы спать, я трачу время на какого-то стюарда!» Я сделал вид, заохал, засобирался. Он проводил меня до дверей, подтянутый и элегантный, держа холёными пальцами папироску, немного на отлёте. Я вышел в темноту и узость вагона, мчащего сквозь снега. Качало. Далеко впереди паровоз прокричал кукушкой. Я полез на свою полку, через чьи-то чемоданы, тюки, сумки, тугие узлы, наступил коленом на ногу попутному пограничнику (тот всхрапнул и перевернулся) и наконец заснул.
119. Милое Училище. Это прощание
Я стеснённо стоял перед Леной, в своём угловатом ледяном теле, в нелепой длинной тельняшке, в узких похоронных мокасинах. Затылок ныл, в волосах застряла сухая сосновая хвоя, из карманов сеялись осиновые опилки. Я поднял руки, и суставы скрипнули. Мышцы были наполнены вязким воском, холодным пластилином. Она с ужасом смотрела, обхватив себя за плечи. Как жаль, что лишь теперь мне удалось тронуть её, растопить лёд, взволновать. Шагнула ко мне:
– Всё равно не пойму! Почему ты бежишь? На что меняешь Училище? У нас же есть всё? Чего тебе не хватает?
Я молчал, а потом сверкнул глазами:
– Презираю подлость! Ненавижу ничтожество!
– О чём ты? – не поверила она. – Неужели ты всерьёз так думаешь?
Я молчал, а потом выдохнул другое:
– У меня нет тебя!
– Снова смеёшься? – она мотнула головой, отбрасывая этот вздор. – И ты не боишься Белого Охотника?
Я молчал, а потом наконец попытался сказать как есть, скучно и серо:
– Нет никаких охотников, это всё неправда. Тем паче, я давно никому не нужен здесь, и моя лапша всем смешна. Я ухожу. Тебя не зову. Учись. Возьми мою вторую курсовую. В тумбочке. Им понравится. Про консервил… консервирование.
Губы плохо слушались меня, и я помял их пальцами. Лена поняла это по-своему, шагнула ещё раз и обняла за шею. «У тебя нет во рту муравьёв?» Я проверил языком. «Нет». Она стала целовать меня, а я гладил её по толстой косе и грустил, ведь она целовала прощально и не предлагала остаться. Мои пальцы, умерев, не утратили чувствительности, и я ощущал каждый её волосок. Вернуться было невозможно, уходить было страшно. Хотя прошло всего несколько дней, я знал, что дома всё изменилось, и туда долго будет нельзя. Где-то хрустнула ветка, и Лена встревоженно оторвалась от моих губ, взглянула чёрными в темноте глазами, близко-близко, подтолкнула. Я пошёл, щёлкая коленками и проваливаясь в снег, поднося к лицу ладони и силясь рассмотреть, есть ли трупные пятна. Сзади хрустнуло, ещё хрустнуло, и я побежал.
11A. Истории безоблачного детства. Об облаках
По мере нашего взросления мы с братиками становились всё более мечтательными и восторженными. Страшные сказки мы всё чаще предпочитали сумеречным грёзам на неразобранных постелях. Мы лежали поверх покрывал в ветровках и доверху зашнурованных ботинках – чтобы в любой миг мочь вскочить и взмыть навстречу добру, открытиям и красоте. Больше всего на свете в те времена мы любили облака, и даже грезили обыкновенно не на спине, а на боку, глядя сквозь окна на высокие вечерние небеса.
– Братцы! – воскликнул однажды Колик. – Давайте снесём потолок!
Мы тотчас представили, как это будет прекрасно – лежать навзничь лицом к лицу с облаками, имея препятствием один лишь прозрачный воздух – и возликовали, и прославили Колика. После недолгих споров мы решили не ломать потолок, но аккуратно и красиво срезать. Валик расставил стремянку и принялся строить линию реза, наклонную к западу, а мы побежали вниз, в подвал за инструментом. Мне досталась толстая немецкая болгарка, сине-чёрная, в кляксах цемента, и потёртые токарные очки. Протянув удлинители во все углы, мы дружно взвыли электропилами, врезаясь в белый кирпич. За один раз мы, конечно, не успели, быстро утомившись, но на следующий день продолжили сразу по пробуждении. Мы были тверды и упорны, пока Валик не свистнул – и тогда мы соскочили с табуретов и наблюдали, как плавно соскальзывает крыша с нашей комнаты, почти без скрежета, скорее с громким шорохом, и падает в сад, в заросли чистотела и ландышей. Мы были потрясены открывшимся пространством и свободой, и долго стояли, задрав головы. Погода выдалась самая удачная – ясная, ветреная – и облака плыли и летели над нами, от белоснежных до дымчато-синих. Мы пропылесосили пол, сменили покрывала и улеглись на спины. Мама, заглянув к нам с приглашением на обед, заметила, что мы теперь не защищены от дождя, а папа напомнил об опорожняющихся на лету пернатых. Они были правы, но мы не разочаровались ничуть: это была справедливая цена за облака. Мы наспех пообедали, вернулись лежать и смотрели неотрывно – как они теряют насыщенность, розовеют, краснеют, сереют и растворяются в черноте.
11B. Истории золотистой зрелости. О хандре
Когда у моего брата Толика наступала осенняя хандра, то не было от неё лучшего средства, чем яичница. Его жена заранее подмечала симптомы надвигающейся печали и бежала в магазин, наказав дочкам мыть сковороды, раскалять их и смазывать маргарином. Первая порция подоспевала, и жена вкрадчиво звала: Тооля?.. Толик медленно, как бы сомневаясь, входил, грузно садился за стол, осматривал вилку и приступал. Жевал неторопливо, но споро: первая сковорода, вторая, третья. Молча двигал челюстями, смотрел в тарелку и заедал белой булкой. Девочки подносили кисель и сладкий чай. Четвёртая, пятая. Мы тоже подтягивались на кухню, подмигивали хозяйке, и нам перепадало по яичку. Шестая, седьмая. Наконец Толик поднимал просветлевшее лицо, солнечно улыбался и говорил: как же я вас всех люблю, родные вы мои! Он целовал жену, обнимал дочек, а нам крепко жал руки.
11C. Рассказ Колика. О жуке
Колик рассказывал, что однажды с ним в камере сидел жук. Чёрный, пожилой, с маленькими глазками.
– За что тебя сюда определили, жук?
– Да ни за что, я сам прилетел.
Жук считал, что ему здесь самое место – никто не тревожит, есть лежанка, кусочек хлеба, небо в окошке и даже книжки. Жук сказал, что детки его давно уже выросли, матушка в иной мир отошла, а жену склевал воробей.
Жук учил испанский язык по учебнику.
– Зачем тебе испанский язык, жук?
– Да вот мечтаю Лорку почитать в подлиннике.
– Думаешь, у нас тут Лорка есть?
– Ну, ради такого дела я и вылететь бы мог, в центральную библиотеку.
Когда Колик досидел, жук рассказал ему на прощанье, как найти клад.
Колик поехал на электричке до дальней станции, сошёл в луга и нашёл дерево-дуб. Стал под ним рыть и вырыл старинную монету. Поехал с ней на рынок. Нумизматы давали за неё только сто рублей, но Колик пугнул их, и они дали двести. Да, для жука это было целым состоянием. Колик купил на двести рублей котёнка, чтобы тот вырос и ловил подлых воробьёв.
11D. Истории безоблачного детства. О волевых подбородках
Когда мы с братиками были маленькими, мы прочитали в одной книжке выражение «волевой подбородок». И нам сразу захотелось волевые подбородки! Несколько дней подряд мы разминали, растирали и растягивали друг другу подбородки и, несомненно, добились бы значительных успехов, не помешай нам мама. Застав нас за процедурами, она покачала головой и рассказала о двух бакалейщиках с соседней улицы, которые тоже увлекались подбородками и даже соревновались между собой, у кого волевее. И будто бы они забросили бакалею, сидели дома и дни напролёт упражняли подбородки, а вечером выходили мериться. Они вставали друг напротив друга, выпячивали подбородки – огромные, как шкафы – и напрягали волю. И от их воли на целую милю вокруг воздух электризовался и звенел, а прохожих накрывало волной покорности – они падали на колени и ползли к бакалейщикам, извиваясь всем телом в рабском преклонении. И вот однажды, когда подбородки бакалейщиков стали гигантскими, как девятиэтажные дома, они повздорили – из-за бутерброда с творогом – и вступили в схватку. Они вздымали и низвергали подбородки, круша вокруг целые кварталы, а земля содрогалась и трескалась, обнажая древние геологические пласты. А бакалейщики всё не унимались, всё сильнее обрушивались, всё мощнее напрягали волю. И в один момент совпали их удары, и раздался страшный грохот. Раскололась земля до самой магмы, хлынула из неё огненная лава и смыла-сожгла начисто и бакалейщиков, и весь город.
А теперь ступайте спать, детки.
С того дня мы отказались от волевых подбородков. Нас напугали не тектонические катастрофы, а бутерброды с творогом – мы их терпеть не могли!
11E. Из письма Толика. О подглядывании
<…> наслаждаюсь подглядыванием. Если бы вы его видели, вы бы тоже не удержались, представьте: высокий, остриженный под горшок, в кофте с горлом. Он у нас считает логарифмы. От мизинцев к косточкам запястий – жёсткие чёрные поросли, как усы. И настолько задумчив, что выходит курить, не закрывая дневника. Чуть он за дверь – я бросаю карандаши и циркули, сажусь на его место и читаю. Вот вам пару отрывков:
«Когда я ем орехи или семечки, то всегда держу в уме птичьи яйца. И те, и другие – зародыши. Рождённый».
«У ножа, в сущности, намного больше общего с ложкой, чем с вилкой. Назначение как ножа, так и ложки – отделять часть от целого; в то время как вилка – всего лишь нанизывает. Пронзённый».
«Если вдуматься, едение – та же поэзия. Жевок-жевок-жевок-глоток, ударение-ударение-ударение-рифма. Исходя из этого, обстоятельные древние греки имели наилучшее пищеварение. Прощённый».
А вчера, братцы, я не удержался и во время перекура написал ему в дневник какой-то вздор, первое что в голову пришло: «По большому счёту, радость и подлость весьма близки, они обе являются якорями». И что бы вы думали? Он пришёл, прочёл, а потом дописал: «Разность только в направлении – подлость бросаема в реальность тобой, радость бросаема реальностью в тебя. Тёплый». Я аж зашёлся, зашипел, сижу, фыркаю от смеха, икаю, ногой притопываю, по колену похлопываю, булькаю, а он брови хмурит и пальцами так двигает по-особенному, мыслит. А ботинки, ботинки какие! Бывает, нагнусь под стол и смотрю на его ботинки, и аж скрючиваюсь, аж не могу <…>
11F. Истории безоблачного детства. О пользе откровений
Когда мы с братиками были маленькими, мы часто ходили понурыми и подавленными, по самым разнообразным поводам. Но особенно часто – из-за мамы и папы. Нам было тоскливо и совестно, что они неуклонно стареют и однажды умрут, а мы так и не успели сделать что-то важное, сказать что-то главное.
Как-то раз после завтрака мы открылись в этом папе – и он сначала поднял брови, как будто не поняв, а потом всхрюкнул и захохотал. Он смеялся, трясся и утирал слёзы так долго, что мы испытали раздражение и пожалели о своём откровении. Вошла мама, и он, давясь, рассказал ей. Мама сначала подняла брови, как будто не поняв, а потом всхрюкнула и захохотала. Она смеялась, тряслась и утирала слёзы так долго, что мы были уязвлены до глубины души. Мама и папа переглядывались и попискивали, повизгивали от смеха, они валялись на диване, хлопали себя по коленкам и держались за животики. «Ох, уморили! Ох, мочи нету!» Папа быстро-быстро лупил ладошкой по подушке и пучил глаза, а мама комкала чепчик и трясла головой. Мы оскорбились и хотели уйти, но они не пустили. Кликнули конюхов, велели сечь. Нас разложили, распластали на топчане и секли долго, со свистом, с оттяжечкой.
С того раза мы стали понуриваться значительно реже, а постепенно и вовсе прекратили и тосковать, и совеститься.
120. Истории золотистой зрелости. О смерти Валика
Мой брат Валик время от времени терял вкус к жизни. Он забрасывал живопись, отворачивал мольберты к стене и дни напролёт лежал на тахте, глядя в потолок или в обои. Иногда он выходил на кухню, чтобы поесть печенья, но это явно не доставляло ему никакого удовольствия. «Да что с тобой, Валик? Случилось что-нибудь? Картина не идёт?» – спрашивал я. Но он отвечал, что картины его больше не интересуют, и вообще ничего не интересует. «Видишь табурет? Видишь стол? Даже они мне не интересны. Я долго любил их, но теперь всё кончено. Я уже всё познал, Ролли, уже прожил свою жизнь. Она больше не люба мне. Внутри у меня холодно и пусто. Я умер. Смерть». Да как же так! Я тормошил Валика, напевал ему наши любимые песенки, тянул купаться на озеро, разжигал камин, чтобы он посмотрел на огонь, приглашал в кино на утренний сеанс. Толик расставлял шахматы. Дочки призывно махали бадминтонными ракетками. Белые собачки прыгали и весело лаяли. Хулио звонил подружкам, те охотно сбегались и смотрели на Валика призывно и обещающе. А мама в это время, сняв браслеты и перстни, собирала смородину, крыжовник и пекла свой фирменный пирог. От запаха маминого пирога кружилась голова! Подружки Хулио голодно принюхивались. Но Валик вяло съедал кусок, благодарил и вставал, направляясь к своей комнате. Подружек он обходил по удалённой дуге. Ничего не помогает! Колик останавливал его, наливал водки, рассказывал анекдоты и байки. Валик садился, пил, но не веселел и не пьянел, а потом вдруг засыпал. И на следующее утро всё повторялось.
И вот мы обозлились.
Но папа сказал, что знает, что делать.
Через день мы вошли к нему. «Вставай!» – приказал папа. Валик повернулся спиной и попросил оставить его. Нет, вставай! Колик и Толик схватили его за руки. Он упирался, но мы были сильные. Подите к чёрту, ребята... Но мы грубо выволокли его из комнаты в дом, из дома во двор. Во дворе стоял свежий чёрный гроб. Рядом – сырая могила, комья земли, корешки трав. Ложись в гроб! Валик не хотел. Колик треснул ему по голове, а Толик дал под дых. Они сбили его с ног и толкнули в гроб. Упал, ударился головой. Не дёргайся! Ты же умер! Вот тебе смерть! Подняли тяжёлую крышку, накрыли с глухим деревянным стуком. Прищемили непокорные пальцы, затолкали внутрь. Молотки, гвозди! Валик кричал внутри. Опускайте его! Он бился внутри, плакал.
Вечером выпустили.
Смотрели осторожно – не обиделся ли?
Но Валик не обиделся! Он потянулся затёкшими руками, попрыгал ногами. Улыбался. С удовольствием съел позавчерашнего пирога, потом съел супа и выпил водки. Поставил Толику мат, и даже хлопнул подружку Хулио по попке! Потом пошёл к себе и задвигал мольбертами. «Кажется, получилось», – сказал папа.
121. На обороте портрета. Об ассоциациях
«Если февраль ассоциируется у меня с Пастернаком,
то март – с Левитаном.
апрель – с опрелостями,
май – с Пушкиным,
июнь – с Лермонтовым,
июль – с буйными травами, в которых так славно упасть и лежать, лаская то седоватые метёлочки, то живот женщины, и волоски золотятся на солнце, и она напевно мечтает о далёкой милой родине, а в вышине летят свиристели, и кличут вдали, и качаются буйные травы,
август – с Римской империей,
сентябрь – с ранцем и чернилами,
октябрь – с Лениным,
ноябрь – с декабрём.
января не существует.»
122. Возвращение. На перроне
Люблю котяток!
Когда возвращаешься с каникул на поезде или на электричке, котятки ждут тебя на перроне, нетерпеливо мяукая и протягивая игривые лапки с выпущенными коготками.
У котяток коготки острые, как иголки.
Проводницы принимают у тебя саквояжи, а котятки прыгают, карабкаются по полам пальто, влезают на плечи, на шапку, лижут в щеки.
«Знаете, котятки – ведь только вы и знаете! – это сладкое чувство падения на четыре лапы! Когда казалось бы вы в ледяной безвыходности – но вот прыжок, изгиб, переворот! – и вы как ни в чём не бывало прогуливаетесь по июньской травке, неподвластны опасностям. Знаете, когда какие-нибудь – возомнившие невесть что! – окончательно забылись и вознамерились – какие-то там, предположим, мышки – и стращают вас санаториями, лазаретами… а вы их эдак ловко хоп! И вот они уже тёплым податливым мешочком под лапой. Понимаете? Вы – непоколебимы, вы – возвышаетесь, а они – даже не мышки, они – пылинки, ворсинки. Каждое ваше движение обрушивает на них мироздание. Низвергайте без раздумий! Ибо вы вправе, а им поделом. Понимаете?»
У котяток шершавые языки, они лижут беззвучно, щуря от удовольствия глаза.
Котятки бегут по снегу, брезгливо и зябко подёргивая лапками. Котятки пушистые и снег пушистый: снежинки касаются шёрстки, зависают.
И кстати, если вам кто-то скажет, что котятки привередливы в еде – не верьте!