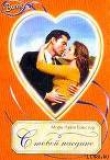Текст книги "История Роланда (СИ)"
Автор книги: Пилип Липень
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
5F. Истории безоблачного детства. Счёт за электричество
Когда мы были маленькими, счёт за электричество приносили раз в месяц, каждый второй вторник, в конверте с изображением лампочки. Папа вскрывал конверт, мрачно изучал цифру и разражался грубой площадной бранью:
– Подлецы! Грязные мерзавцы! Сволочи! Мошенники! Продажные твари! О, какое беззаконие!
Млея от приобщения к глубинам жизни, мы подслушивали в прихожей запретные слова. Кого он ругал? Почтальонов, бухгалтеров, правительство? Мы не знали.
– Негодяи! Подонки! Разбойники! О, низость падения человеческого! Стервецы!
Более всех нам нравилось страшное слово «стервецы» – от его жути теплело и тянуло в животе. Мертвецы? Но не простые, а особенно опасные, стремительные и беспощадные, мертвецы-мерзавцы. Перед сном, в темноте, в порыве гусарства мы шептали: стервецы! стервецы! – а потом в ужасе жались друг к другу, жмурились. А я дошёл до того, что однажды выцарапал «стервецы» на стене школьного туалета. С тех пор мы с братиками боялись ходить в тот туалет, и до самого ремонта ходили в женский, когда никто не видел.
60. Истории безоблачного детства. О законах диалектики
Когда мы были маленькими, папа в один из дней пригласил в гости какого-то старенького социалиста, то ли кельнера из паба, то ли массажиста из бани. Добрый дедушка присел на табурет, пригубил портвейна, и приступил:
– Видите? Идеи марксизма-ленинизма подтверждаются! По законам диалектики количественный прирост неизменно влечёт за собой качественный переход. Музыканты больше не важны, их слишком много, теперь музыку собирают из готовых кусочков диджеи. Художники не важны – теперь заправляют кураторы и галеристы. В литературе тоже будет так, а может и уже есть, только нам не...
– Позвольте, но причём здесь Маркс и Ленин? Это Гегель! – перебил его папа.
И пока они препирались, мы побежали в библиотеку и наспех составили глубокомысленный микс из Баратынского, Бальмонта и Бродского:
Болящий дух врачует песнопенье.
Я помню, шёл кругом ничтожный разговор,
Затем, что дни для нас – ничто...
И так далее. Но когда мы вернулись, чтобы декламировать, нас даже не заметили: дискуссия совершила качественный переход в понятийную фазу. Папа и добрый дедушка стояли друг напротив друга, тяжело дыша, набычившись и наступательно выдвинув правые плечи. Пришла мама, развела их, папу уложила на диван, а дедушку повела провожать домой. А мы, шёпотом провозглашая тосты, допили портвейн.
61. Истории безоблачного детства. О мечтах
Когда мы были маленькими, в нашем городе ещё жила одна старая традиция – поминки по сбывшимся мечтам. Да, каждый человек в нашем городе рано или поздно сбывал свои мечты – кто-то покупал кремовый кабриолет, кто-то выдавал дочь замуж за магната, кто-то побеждал в конкурсе красоты, кто-то исполнял арию в Ла Скала, кто-то находил в огороде волшебный клад – и тогда устраивались поминки. На таких поминках не принято было пить вино, есть салаты и петь песни. Принято было приглашать в дом один из многочисленных виолончельных квартетов – и печально слушать. Два виолончелиста играли смычками, а два – ударяли по струнам деревянными колотушками, отбивая медленный траурный такт. Прослушав две-три долгие пьесы в доме, поминающие и приглашённые выстраивались в процессию и во главе с квартетом скорбно шествовали по улицам города – вдоль и поперёк, нередко пересекаясь и переплетаясь с другими процессиями. Виолончелисты были очень сильными, они продолжали играть прямо на ходу, удерживая инструменты за гриф одной рукой и ею же зажимая лады.
Мы с братьями терпеть не могли эти поминки! Они вечно мешали нам спать, делать уроки – и вообще нагоняли тоску. Мы просто бесились, когда слышали звуки виолончели! Мы специально ели много яиц, чтобы оставались картонки – их можно было наклеивать на стену и повышать звукоизоляцию. И мы постоянно мечтали – как можно больше, как можно сильнее, как можно жарче – стараясь намечтать такое, что наверняка никогда не сбудется.
62. Истории безоблачного детства. О кондукторах
Каждую вторую пятницу папа надевал тёмно-серый тренч и шляпу-хомбург с рубчатой лентой, причёсывал нас, и мы ехали во Дворец Профсоюзов, на ежемесячный Концерт Кондукторов. Было много людей, и папа то и дело раскланивался, жал широкие руки, целовал щетинистые щёки. Мы пробирались к самой эстраде, ковыряли линолеум и скучали, пока кондукторы пели свои медленные блюзы. Но мы знали, чего ждать: скоро начиналось состязание кондукторов, когда каждый брал в руки билетик и угадывал:
– Это август 1972.
– Это трамвай-тройка.
– Это между Ботаническим садом и Автостанцией.
– Этот человек спешил.
– Почему это?
– Потому что посмотрите: какие дырочки, какие вмятинки. Сразу чувствуешь человека, по его рукам. Каждая рука билетик держит по-своему. Не так ли? Кожа. Сила суставов. И запах. Посмотрите на эти смятости.
– Этот человек грустил.
– О женщине. О возлюбленной.
– О пожилой женщине. О матери.
– Но позвольте!
– Потому что посмотрите: какие складочки.
Замерев, мы ловили каждое слово. Пожилые кондукторы принимали друг у друга билетики артритными пальцами. Чем старше, тем опытнее, Ролли. Кондукторы рассказывали с эстрады, раскачиваясь в обнимку:
– Идея не в том, чтобы изловить! Ловля – тлен, штрафы – тлен, истязания – тлен!
– Не тот кондуктор, кто наказал, а тот кондуктор, кто наставил, кто перевоспитал!
– Истинный кондуктор – кто сам был перевоспитан! Тот, кто был во тьме, но впустил в себя свет! Тот, кто осознал! Тот истинный кондуктор! Лишь тот!
Они подбрасывали фуражки, и папа подбрасывал хомбург, и кричал, и мы хлопали, и кричали, и плакали, не стесняясь, открыто глядя друг другу в лицо, и целовали друг друга, и клялись стать лучше, стать подлинными, стать истинными.
63. Истории безоблачного детства. О самом злом человеке
Когда мы были маленькими, нам хотелось узнать обо всём, а особенно обо всём самом-самом. Мы мечтали прочесть Книгу рекордов Гиннеса, но в библиотеке её не было, да нам бы и не дали. Поэтому мы спрашивали обо всём у папы и у мамы.
– Папочка, а кто самый злой человек на свете?
– О-о, детки… Был такой человек, это правда. Жуткий тип. Сам бы я вам про него рассказывать не стал, но раз уж вы попросили… Был он фрезеровщиком на заводе, и хотя конечно негоже личность характеризовать одной лишь профессией, но больше о нём никто ничего не знал. Так вот: однажды вычитал он в интернете, что каждую секунду на земле умирает шесть человек. Любой, у кого совесть есть, запечалился бы, а фрезеровщик наоборот – страшно обрадовался! Стал улыбаться и мозолистые руки потирать одна об одну. Пошёл он на балкон, выкурил папиросу с большим удовольствием, а потом – щёлк пальцами! И говорит себе: шесть человек умерло! Щёлк! Ещё шесть. Так и повелось – ходит он и пальцами пощёлкивает, и ухмыляется. А потом ему это недостаточно выразительно показалось, и раздобыл он в цеху пускатель станка с большой красной кнопкой, и уже не щёлкал пальцами, а на кнопку жал. Нажал – шесть человек в Африке умерло! Нажал – ещё шесть в Америке! Доволен был ужасно. Ребята-электрики, которые поумнее, убеждали его, что нету никакой связи между кнопкой и смертями: даже если ты на кнопку не нажмёшь, всё равно ведь умрут! А фрезеровщик им подмигивал: смотрите, вот я нажимаю – и вот, умерли где-то в этот момент! статистика-то не врёт! И что ему возразишь? Да и боялись возражать, мало ли. А фрезеровщик всё злее становился, стал уже открыто по улицам со своею кнопкой ходить, и людей уничтожать. Ничего человеческого в нём не осталось. Идёт, например, навстречу молодая мама с младенчиком на руках, а фрезеровщик остановится, прищурится и на кнопку безжалостно жмёт. Или школьницы с рюкзачками в школу бегут – ну кто бы не умилился? – а фрезеровщик нахмурится и давит, давит на кнопку со всей силы. Терпели-терпели люди его преступления против человечества, но когда число убиенных к миллиону стало приближаться, не вытерпели. Подошли они к фрезеровщику и говорят: отчего ты злой такой? что мы тебе плохого сделали? мы же любим тебя! чего тебе надобно, скажи? хочешь, богатство тебе соберём? хочешь, в кругосветное путешествие на яхте отправим? хочешь, самую красивую девушку замуж за тебя отдадим? хочешь, мэром города выберем? Но фрезеровщик только расхохотался – ничего мне не надобно! – и ну на кнопку жать, быстро-быстро. Огорчились тогда люди окончательно, накинули фрезеровщику на голову мешок, и стали ногами бить. Так до смерти и забили, и закопали в овраге за городом. А кнопку бензином облили и подожгли. Вот так-то, детки.
– Эх, жаль нас там не было! Гад! Уж мы бы его..!
64. Побег и скитания. Ладонь гестаповца
На даче жилось вольготно, покойно. Летели дни, проплывали недели. Я понемногу прибирался, ссыпая хлам и мусор в погреб, и обживался, знакомясь с вещами. Телефон не звонил, соседи не появлялись, и всё было бы хорошо, не случись вдруг событие, распахнувшее передо мной тёмные глубины моей души: распад вешалки вафельного полотенца. И если быть честным, то оно произошло вовсе не вдруг, а нарастало медленно, явственно, под моим холодным взглядом. После первого же мытья кастрюль я заметил: вешалка-тесёмка на кухонном полотенце надорвалась, и её удерживала одна только белая ниточка, тонкая и слабая. Как мне пришло в голову ставить подобный эксперимент, я не могу объяснить сейчас. И раньше, и теперь я взял бы нить с иглой и починил бы вешалку, но тогда… Как будто тень нашла на мой разум, и загорелось любопытство садиста – сколько она продержится? И я, вытерев полотенцем бидон или казан, предельно аккуратно, чтобы не дёрнуть, возвращал его на крючок у мойки. Но ниточка оказалась капроновой, смелой, она держалась из последних сил, не рвалась и лишь удлинялась понемногу. Она как будто стонала: сжалься, сжалься, помоги! Но я делал вид, что не слышу, и длил своё жестокое развлечение. И вот однажды, когда я вытер утятницу, вновь повесил его и осторожно отступил к окну, полотенце с мягким шелестом упало на пол. Свершилось. Мягко падал снег за окном.
Шли короткие снежные дни, шли чёрные ночи. Вешалка болезненно торчала, пришитая за один конец, а ослабевшая, порванная ниточка таилась в складках вафельной ткани. Я вешал полотенце уже без неё, прямо за подрубленный край. А в последний день, вытирая вымытый таз, я почувствовал, что палец запутался. Это была она, ниточка, измученная, неуклюжая. У неё уже не было сил ни прятаться, ни бояться. Я прищурил глаза, тонко сузил губы и крепко дёрнул, чтобы оторвать её. Но она не оторвалась, а лишь потянулась, давая мне ещё один шанс на доброту и сострадание. Смотри, я растянута, я разорвана, мне уже не жить, чего же тебе ещё?.. Да, я смотрел на неё. Желая ощутить предел ниточки, я тянул дальше, но предела не было. Не так-то ты проста, лиса! Откуда ты тянешься? Я включил верхний свет и поднёс её к глазам. Ниточка жила не сама по себе, но тянулась прямо из вешалки, она составляла её поперечные волокна. Несчастная вешалка уже наполовину распустилась, продольные ниточки висели пушистой кисточкой. Не в силах остановиться, я стал тянуть поперечинку дальше, пока она вся не оказалась в моей руке, длинная, с изломанными перегибами. Продолинки разлетелись по полу, несколько осело на джинсах, несколько прилипло к мокрой ладони. В оцепенении я смотрел на свою ладонь – ладонь негодяя, ладонь палача, ладонь гестаповца.
65. Истории безоблачного детства. О правильности преподавания
Будучи по натуре человеком недоверчивым и подозрительным, наш папа время от времени приходил в школу и сидел на занятиях, чтобы оценить правильность преподавания. Папин визит почти всегда кончался пререканиями и препирательствами с директором школы, и урок прерывался на середине.
– Такой подход неверен в корне, – протестовал, например, папа, когда мы рыдали и сморкались на уроке литературы, жалея Муму или Эмму. – Человек не должен принимать вымысел за правду и лить слёзы из-за несуществующих персонажей!
– Как вы не понимаете! – охотно возражал директор, – Дело ведь не в том, существуют персонажи или нет, а в том, что человек, читая, развивает в себе способность к сочувствованию и сопереживанию.
– Какая недальновидность! – корил его папа. – Вы приучаете детей питаться лёгкой пищей и отдаляться от живой жизни. После сладкой книжной жвачки человеку намного труднее здраво реагировать на реальность, требующую самостоятельного кусания! Опасный эскапизм, от которого недалеко и до фашизма.
На это директору было уже сложнее ответить, и он, выигрывая время и собираясь с мыслями, отворял бар, наливал себе и папе по рюмочке бренди, брал его под руку и приглашал прогуляться по саду. А нам только этого было и надо! И на мучения Свана, и на томления Дедала, и на меланхолию Живаго нам было глубоко наплевать. Мы весело хлопали хрестоматиями, смахивали театральные слёзы и доставали долгожданные бутерброды.
Когда папа и директор возвращались из сада, нередко оказывалось, что они поменялись точками зрения. Например, папа теперь поносил американского писателя Г. Мелвилла за наивное близорукое самодовольство: как же эта сволочь могла быть так глупа, что без тени сомнения предсказывала китовым стадам многая лета? У папы в глазах даже слёзы блестели из-за того, что она, эта сволочь Г. Мелвилл, слишком рано померла, и уже никак не возможно ткнуть её подлым носом в Красную книгу. Директор потешался: подумаешь, киты, что за дело нам до них, если мы их никогда не видели и не увидим; жалеть китов – то же самое, что жалеть Уэллсовых марсиан. Людей жалейте, людей! Г. Мелвилла жалейте, разве он не вымер как кит?
От таких рассуждений бутерброды застревали в горле. К счастью, к этому времени обычно приходила мама и забирала нас домой. Она имела очень ясные взгляды на литературу и всегда быстро расставляла всё по местам. Того же Г. Мелвилла она презирала: вместо того, чтобы восхищаться женщинами, он восхищается китами! Это была её основная претензия. Но потом она добавляла: вдумайтесь! Восхищаясь китами, он сдирает с них шкуру, потрошит, вдыхает аромат внутренностей и, стыдливо укрывшись за грот-мачтой, пробует их свежий жир на вкус. Вам это ничего не напоминает?.. Папа торжествовал, а директор не смел перечить, он только трепал нас на прощанье по волосам, приговаривая какую-нибудь ласковую бессмыслицу: любишь Петрарку, люби и Ремарка.
66. Истории безоблачного детства. О выздоровлениях
Однажды по весне, поближе к концу апреля, мы заметили во дворе дома к северо-западу от нас какое-то неуловимое шевеление. Этот дом пустовал более полугода, и мы с братиками уже заждались нового соседа. Мы припали к забору со всей возможной пристальностью, но долго ничего не различали, кроме почерневших сугробов и влажных веток крыжовника. И если бы не метод художников-открыточников – разбить пространство на квадратики и подробно рассмотреть и проработать каждый – мы бы так его и не нашли. Он сидел на толстом чурбаке, привалившись к поленнице, и безмятежно жмурился на солнышке. Телогрейку он наставил парусом, чтобы ветерок веял за пазухи, но не сквозил; руки держал на коленях, и кисти свисали отвесно, будто каменно-тяжёлые. Казалось, соседу доставлял необыкновенное удовольствие каждый вздох – так блаженно улыбался он бледными губами. Мы предложили ему халвы, но он только слабо качнул головой.
– Я выздоравливаю, детки. Я после переезда сильно болел, а теперь вот встал на ноги. Так приятно выздоравливать…
Каково же было наше удивление, когда выйдя на улицу ночью – а мы всегда выходили ночью, чтобы удостовериться в том или ином – мы увидели соседа лежащем на сугробе, в одной исподней рубашке.
– Скоро совсем тепло станет, детки, надо ловить момент. Я специально заболеваю, чтобы потом поправляться – удивительное ощущение…
Он провёл в постели ещё несколько дней, и скоро вновь наслаждался выздоровлением, сидя в истоме у поленницы и наблюдая за неспешными облаками в вышине. Вообще простужаться я не очень люблю, говорил он, предпочитаю отравления: после отравлений особая нега и умытость мира, драгоценная усталость. Мы принесли ему обойного клея и отбеливателя, и он нехотя поел, из вежливости. К химии он был равнодушен, ему больше нравились растительные отравления – густые настои из всевозможных багульников и борщевиков, на голодный желудок. Иногда для разнообразия он резался ножиком, чтобы потом упоённо чесаться и сдирать корочки, иногда натирал мозоли или до сладкой боли перенапрягал мышцы. Дома он ходил в тельняшке и тренировочных штанах, и у него было совсем обычно – репродукции, радио, газовая плита. Обычную еду он тоже ел, например макароны, но со сдержанностью и безжизненностью во взоре, порой поводя бровью. Поначалу мы тревожились, что сосед может не рассчитать силы и преждевременно отправиться к праотцам, но постепенно успокоились – наитие ни разу не подвело его, и он, говорят, беспечно тешил себя до глубокой старости.
67. Истории безоблачного детства. О любви
Когда мы с братиками перешли в следующий класс, директор собрал нас возле оранжереи и торжественно объявил о начале нового курса ботаники. Обрадовавшись, мы загомонили и затолкались локтями – потому что любили разные растения, особенно брокколи – но Хулио нахмурился и, возвысив голос, заявил прямо в лицо директору:
– Отчего вы учите нас неважному, а важному не учите?
– Что же по-твоему важно, дитя?
– Любовь! – отвечал Хулио с большой уверенностью.
Мы были восхищены братом и ликовали. Директор тоже обрадовался: он обнял Хулио, расхвалил его и подарил костяной гребешок с тонкой резьбой, изображающей созвездия. Не сходя с места, директор отменил всякую ботанику и отправил запрос в районо на достойного преподавателя любви.
В районо нас поняли сначала слишком прямолинейно и прислали жаркого брюнета с затуманенным взглядом, в белоснежной сорочке, расстёгнутой до солнечного сплетения. Он поглаживал себя по золотистой груди, поигрывал колечком, продетым в правый сосок, и часто наклонялся к нашим ушам, будто желая что-то шепнуть, но не шептал, а лизался, извилисто и щекотно. Именно в лизаниях и заключалась основная его идея: лишь с удовольствием облизав, можно по-настоящему полюбить. Вспомните поцелуи, вспомните самые потаённые ласки? Ведь правда же? Мы охотно лизались на уроках, но в целом отнеслись к брюнету скептически, и вскоре ему в помощь появился второй учитель.
Второй был тоже затуманен, но бледен и порывист, он учил, что развивать любовь нужно посредством неустанных размышлений о предмете, а самые лучшие размышления – это сочинение стихов. Подбирая ритм и рифмы, мы как бы подступаем к предмету с разных сторон, рассматриваем его одновременно отовсюду, и в каждой словоформе отыскиваем совершенство. Третий учитель, в толстом вязаном свитере, дополнял и отчасти опровергал второго: при размышлениях о любви, детки, надлежит оперировать не словами, но понятиями, и прежде всего следует чётко определить терминологию и построить семантико-статистический граф-вектор. Четвёртый учитель прикатил на велосипеде и, пригладив ладонью начёс, завёл разговор о семейном укладе, о здоровом наследовании, о крепкой державе, о мудрости предков. Математика – хорошо, приговаривал он, но вековые традиции пращуров – куда как лучше.
Директор едва успевал менять расписание, мы изнемогали от упражнений, а учителя всё прибывали и прибывали: всклокоченные искусствоведы, напомаженные психиатры, телеологи, кибернетики, адепты духовных практик, химики, артисты кино и даже экономисты. В конце учебной четверти они попытались устроить нам экзамен, но из-за преподавательской давки мы с братиками так и не смогли пробиться в актовый зал.
Мы пошли к озеру и неподвижно сидели на обрыве до самого обеда. Мы были до такой степени переполнены любовью, что боялись пошевелиться – при неосторожном движении любовь лопнула бы изнутри наши тонкие оболочки. Мы понемногу выпускали её – на широкую воду, на медленные облака, на травяные метёлочки, друг на друга – и она сочилась из нас медовыми струями, почти осязаемыми. А я обнаружил – хотя скрыл это от братьев в тот день – что полюбил свой мизинчик. Немного искривлённый, с трогательными морщинками, он казался мне маленьким весенним цветком в своей нежной беззащитности. Опустив руку в карман, я незаметно ласкал его, и он отвечал мне чуть заметным, но преданным дрожанием.
68. Истории безоблачного детства. О пользе долгов
Больше всего на свете наш папа любил одолжаться. Ни дня не проходило, чтобы он не приносил домой новый пухлый конверт с банковскими билетами – то от соседей, то от коллег, то от одноклассников, то от бакалейщиков, то от стоматологов. Всякий раз, снимая шляпу, он потрясал конвертом и вскрикивал в нашем направлении: берите в долг, детки! берите много! берите с охотой! Мы обычно не соглашались и намеренно возражали ему – чтобы снова послушать назидательную сказку о пользе долгов. Нам нравилось, что у главного героя из рассказа в рассказ непредсказуемо изменяются черты, вроде причёски, длины носа или пристрастия к определённому сорту зубного порошка, и мы упрашивали папу живописать его как можно подробнее. Папа морщился и нетерпеливо описывал внешность, биографию, жизненный уклад, привычки, а потом, со значением взглянув на нас, переходил к бессмысленной сути. Якобы тот человек проживал в некотором царстве и до судорог не переносил долгов, и даже не только денежных, а в любых видах и формах. И якобы однажды во время чистки зубов он рассудил, что счастливая и полная нег молодость – это также не что иное, как долг, взятый у старости, который вскоре придётся с лихвою возвращать болезнями, бедностью и одиночеством. Сделав такое умозаключение, он понял, что из-за своей беззаботности уже успел изрядно одолжиться, и принялся поспешно исправлять положение. Он спустился по улицам вниз, к заброшенным докам, и выбрав самый влажный и тёмный подвал, поселился там отшельником. Питался он улитками и устрицами, питьевую воду брал из сливной трубы спичечной фабрики, а зубы чистил песком и пивными пробками. Вскоре у него развился кашель и коленная дрожь – добрые знаки, подтверждающие верность пути – и он проводил вечера, высчитывая количество времени, оставшееся для уплаты долга и окончательного выкупа. Получалось лет пять или десять, в зависимости от способа исчисления, но для верности он прожил в подвале пятнадцать, потом ещё три, а потом неожиданно преставился. «Что значит преставился, папочка?» – спрашивали мы. «Это значит переместился в рай, детки! Это значит зря выплачивал, это значит зря брезговал!» Мы раскрывали розовые ротики, желая возражать, но тут входила мама, и папа, уже не слушая нас, звонил в ресторан, заказывал шампанское, ужин и торт.