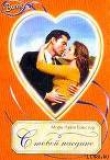Текст книги "История Роланда (СИ)"
Автор книги: Пилип Липень
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
CD. На обороте портрета. О нежных признаниях
«В метро, прислонясь к дверям, стояла пара. Держась за руки, лицом к лицу, в профиль ко мне. Они влюблённо улыбались и разговаривали, неслышно за шумом, и были так молоды, так хороши. Я смотрел на них: сложные контуры в перекрестье световых пятен, искорки в волосах, отблески на губах. На крыле носа у юноши была милая родинка, а на крыле носа у девушки, в симметричном месте, о ужас, прилипла козявка. Серая козявка, которую выковыривают из ноздри и скатывают в маленький шарик. Почему он не скажет ей о козявке? Почему не стряхнёт небрежным движением? – напряжённо размышлял я. – Быть может, он страшится разрушить романтичность мгновения? Быть может, я стал невольным свидетелем нежного признания? Он решил принести в жертву форму, заботясь лишь о сути? Но как он заблуждается! Ведь козявка превращает их любовь в неприличную насмешку, в надругательство, в грязный намёк! Не лучше ли непринуждённо смахнуть её и начать признания сызнова? Не пора ли мне вмешаться? Но тут девушка чуть повернула голову, свет упал под другим углом, и козявка превратилась в невинный пирсинг. О, какое облегчение! Но зря я упустил и не познакомился с ними… теперь хочу непременно написать их портрет, пусть и по памяти.»
CE. Истории безоблачного детства. О коробочках
Когда мы были маленькими, учиться по воскресеньям нам было особенно тяжело. Даже на социологии мы быстро впадали в скуку – начинали скоблить ножиками крышки парт или раскрывать рот и щёлкать себя по горлу, извлекая бутылочный звук. Директор, старый опытный педагог, заслышав это, сразу бросал излагать и устраивал перерыв, обнося нас кофейником и молочником, ну а чашки и сахар мы всегда держали наготове. Сам он кофе не пил; доставал табак, давал нам понюхать и набивал трубку. Раскурив её как следует, рассказывал историю.
– Жил-был человек, он делал коробочки. К одним приклеивал ручки, а к другим привязывал верёвочки. Как пришла ему пора помирать, он не испугался, а сел и подумал, что напоследок надо в жизни сделать. Сходил он в лес, сходил в краеведческий музей, поспал с женщиной, съел торт, посмотрел на закат – вот такие у него были незамысловатые вкусы. Всё сделал, что хотел, а времени ещё довольно осталось. Почесал человек голову, да и сел опять за коробочки, к одной ручку приклеит, а к другой верёвочку привяжет. Люди ему говорят: бросай ты свои коробочки дурацкие, никому они не нужны в целом свете, поделай что-нибудь нормальное. Это что например? – спрашивает человек. Почесали люди головы, да так и не нашлись что ответить. И успел тот человек ещё прилично коробочек сделать.
После таких историй мы, напуганные, брались за уроки с новыми силами.
CF. Из письма Толика. О плацкарте и купе
<…> если вам предстоит ночь в плацкартном вагоне, можете сыграть в игру «угадай меня». Кто из окружающих мужичков станет храпеть во сне? Вот тот, дварф-крепыш с широкой челюстью и кучерявыми предплечьями? Или тот, вежливый бледный пенсионер? Или тот скромный, с залысинами, в мятой холщовой рубахе, похожий на серийного убийцу? Я сыграл, и мне выпал пенсионер. И он не только храпел, но даже один раз пробормотал «мама». Ну а если вы купили билет в купе, то готовьтесь к худшему. Поверьте бывалому! В угадайку можно даже не играть: храпеть будет именно тот из ваших попутчиков, который откупоривает сейчас банку с пивом. От пива его грозное дыхание станет особенно ароматным, а создать нужную концентрацию благовония поможет второй попутчик. Он беспокойно защёлкнет дверь купе, опасаясь легендарных разбойников, выкрадывающих по ночам башмаки. Запахи не беспокоят его, поскольку эти ценные башмаки сами являются мощным источником, и обоняние у него притупилось. Третий попутчик, нервный и сине-жилистый, непременно захочет опустить на окно чёрную штору, чтобы его не тревожили проплывающие фонари. Штора будет заедать, и вам придётся скрепя сердце ему помочь. И вот вы уже скрючились на короткой верхней полке, слушая оглушительный храп, задыхаясь, в кромешной темноте. Похоже на ад? Да. Только не вздумайте выходить наружу проветриться: вернуться назад будет вдвойне тяжело <…>
D0. Рассказ Колика. О виноватом человеке
Колик рассказывал, что однажды с ним в остроге сидел грустный человек с лошадиным лицом, толстыми складками на лбу и широкими ногтями. На вопросы о причинах заключения он тёр лоб, вминая складки как тесто, горестно вздыхал и признавался, что отправил одного молодчика к праотцам. Ничего удивительного в этом не было, Колик и сам недолюбливал молодчиков, но от безделья он стал к грустному человеку присматриваться и выспрашивать ненавязчиво об обстоятельствах. Человек поначалу отнекивался, отмалчивался, но со временем, как это водится за людьми замкнутыми и застенчивыми, попривык к Колику, доверился безоговорочно и поведал о себе всё, что знал. С самых младых ногтей помнил он себя вовсе не опасным, но напротив – смирным и совестливым. Совестился он самых различных вещей: своей некрасивости, нерадивости, несмелости, а когда однажды впотьмах наступил на голодного бездомного щеночка – впервые явственно осознал себя виноватым. Это осознание затвердело и плотно засело в глубине его головы, будто в заранее отпечатанной ячейке, и с той поры уже не покидало его. Он чувствовал вину буквально за всё: за недружелюбие сверстников, за болезни родителей, за беременности девушек, за нелюбовь начальников, за ничтожность чиновников, за смерть аквариумных рыбок, за невоспитанность сыновей, за пожар на первом этаже, за бесстыдство правительства, за ожирение жены, за изворотливость министров, за плевки на лестнице, за озоновые дыры, за мат на стене, за стагнацию юстиции, за сломанную скамейку. Если бы я посещал с ними выставки, разве сломали бы они скамейку? Если бы я избегал дезодорантов-антиперспирантов, разве были бы дыры? Если бы я ходил на демонстрации, разве не расцвела бы юстиция? Но время было безвозвратно упущено, и от неизбывного огорчения пошёл человек сдаваться в тюрьму за все свои проступки и подлости. Жандармы его с некоторым сочувствием выслушали, но в тюрьму не приняли и дали направление к психоаналитику. Психоаналитик оказался молодчиком в очках и суконной поддёвке, хроменьким, он практиковал гештальт-терапию и сразу же подступился к виноватому человеку с анализами. И подумал виноватый человек: отправлю-ка я этого молодчика хиленького к праотцам! Одним больше, одним меньше, а меня зато накажут наконец по заслугам. Схватил он контейнер для анализов и ну молодчика охаживать! Молодчик хворенький тут же дух и испустил, а виноватого человека побили батогами и забрали в острог.
D1. Истории безоблачного детства. О практике и теории
Директору нашей школы, который вёл многие предметы, частенько и самому надоедали все эти лекции, задачки и ничтожные диктанты, и он объявлял свободные практические занятия. Мы встречали их радостными возгласами – несмотря на особую строгость и структурированность, они никогда не бывали унылыми. Мы наперебой предлагали идеи, и иногда директор действительно позволял нам выбирать, но обычно он садился за стол, сжимал голову руками, и через минуту провозглашал тематику и план действий. Например: поиск границ и условий перехода улыбки в гримасу. Мы по очереди старательно растягивали в улыбках рты, замеряя каждый миллиметр перемещения уголков губ и каждый градус распахивания челюсти, заносили данные в таблицы и строили по ним подробные разноцветные графики. Или: фиксация момента наступления визуальной старости. Мы отыскивали самую новую парту и принимались царапать её перочинными ножиками, внимательно наблюдая, как она проходит все стадии потёртости и потасканности до полного и однозначного состаривания. Или: исследование механизма вспыхивания ярости. Сколько раз в зависимости от погоды и времени суток нужно обозвать сеньора Рунаса болваном, чтобы он оскорбился и в гневе вскочил? Все задания мы выполняли скрупулёзно и с большим воодушевлением, и директор не скупился на отличные отметки.
Однако, когда наступало время очередного экзамена, неважно по какому предмету, директор становился суров и неприступен и всякий раз задавал нам один и тот же вопрос, теоретический:
– Что такое сидит внутри человека и толкает его к действию?
– Любовь! – отвечал Хулио.
– Нет. Если я решаю постирать полотенце и кипячу воду, в этом нет любви.
– Разум! – отвечал Толик.
– Нет. Если я предпочитаю галстуки в горошек галстукам в полоску, и езжу за ними в лавку на другом конце города, в этом нет разума.
– Комплексы! – отвечал Колик.
– Нет. Если я выхожу на балкон, и глубоко вздыхаю, и радуюсь утреннему солнцу, и начинаю напевать, в этом нет комплексов.
Мы знали, что директор сам не знает ответа на свой вопрос и трепетно надеется на нашу случайную отгадку, которая сможет всё прояснить, но из почтения к нему делали глуповатый вид и совсем не обижались на двойки.
D2. Побег и скитания. В один из дней
В один из дней, вернувшись домой, я застал дверь в квартиру распахнутой, коврик –истоптанным, пол на площадке – покрытым белыми меловыми следами, через порог к лестнице. Мысли остановились во мне, и я медленно вошёл. Мой любимый зелёный пластмассовый тазик встретил меня вверх дном, с непоправимой трещиной от ручки через всю боковину. Куртка распласталась подле него, с вывернутыми карманами, с выпотрошенным капюшоном, с подожжёнными зажигалкой пуговицами. Я заплакал. В углу, на повороте в кухню, лежал изувеченный табурет, с выломанными ножками, с вырванной из торца кромкой. Капли клея на сочленениях, еловые слёзы на сколах углов. Кто мог быть до такой степени жестоким? В ванной лилась вода – кран был скручен, кафельная плитка побита долотом, раковина сточена напильником. Из розетки тянулся длинный кабель, до самой кухни, где на столе скрючились вилки, ложки и кастрюльки, каждая с двойным змеиным укусом от электрической дуги. По подоконнику был рассыпан чай, и каждую чаинку методично раздавили чем-то тяжёлым, железным. Кто-то выкручивал лампочки и с усилием тряс их, чтобы сорвать спиральки. Кто-то загонял под обои зубочистки и обламывал их, как занозы. Кто-то плеснул в солонку воды, высушил феном и полученным камушком исцарапал зеркало. Но самое ужасное обнаружилось в комнате: толстый синий том Сетон-Томпсона «Жизнь диких зверей» был изуродован и безжалостно растерзан. Скомканные, сжёванные и издевательски разглаженные страницы устилали пол и постель, одни измаранные, другие изгаженные, третьи с глумливыми ремарками на полях. Особенно досталось лисичкам – кто-то ненавидел лисичек настолько, что мелко рвал и кромсал каждый рисунок, перетирая обрывки ладонями до распушившихся катышков. Лисички, лисички, шептал я в подушку, упав на постель, простите меня, ведь я всё готов был сделать для вас, всегда, простите меня.
D3. Истории безоблачного детства. О самом добром человеке
Накануне праздников, перед Рождеством или перед днями рождения, когда мы с братиками ожидали волшебных подарков, нам уже не хотелось слушать страшные сказки, а хотелось чего-то необычайно доброго. Тогда мы шли к маме и забирались к ней под широкий вязаный плед.
– Мамочка, а кто был добрейший человек на свете?
– Много их было на свете, детушки, добрых людей! – охотно откликалась мама. – Всей ночи не хватит, чтобы только имена перечислить. В одном нашем городе проживало никак не менее трёх тысяч добрейших людей, а самым наидобрейшим из них был один судья. Носил он седую бороду в форме лопаты, как Дед Мороз, походный френч цвета хаки, как Робин Гуд, и зелёные вельветовые штаны, под названием штроксы, как волшебник Гудвин. Ко всякой твари он благоволил: и птичкам кормушки мастерил, и котяток молочком угощал, и малышей пряниками потчевал. Время то было непростое, тревожное, голодное, а он весь свой паёк судейский он людям раздавал – то друзьям, то соседям, а то и даже прохожим женщинам незнакомым. Работал он на износ, по двадцать часов кряду – уж очень много людей в те времена под суд попадало, кто настоящий преступник, а кто и по наговору несправедливому. От бедности и от горестей злы были люди, и клевета не за подлость считалась, а за вынужденность. Судья же наш всех одной меркой судил, ни на лица, ни на чины не смотрел, ни на статьи, ни на обстоятельства – всем одинаковый расстрел. Однако для каждого приговорённого минута у него находилась с объяснением и утешением: жизнь сейчас холодна и опасна, сынок, куда как лучше спокойная смерть; иди с миром и ничего не бойся. Многие слушали его, но многие и роптали: да как же наши малыши, пропадут без кормильцев! А судья им в ответ: в детском доме крепче вырастут, уж поверьте мне; знаю не понаслышке, не тревожьтесь; а кто не выживет, так и к лучшему. Бывало, даже солдатиков усталых добрый наш судья подменял: идите поспите, внучки, выспитесь, да и сердце спокойнее будет, я тут сам постреляю. Тогда мало кто из людей его любил, скорее за исчадие принимали, и лишь немногие понимали. Как-то раз на рассвете вёл он на расстрел священника, и тот по пути укорил судью: стольких людей ты погубил, старик, о душе собственной позабыв; как теперь сам перед Судом предстанешь? Правда твоя, брат, отвечал судья, не пекусь я о душе собственной, что мне с неё; лишь о людях мысли мои, как им лучше устроить; вот и ты – начто тебе невзгоды земные, лети себе в рай. Сильно удивился священник таким словам и, размыслив, поклонился судье и руку поцеловал. А вскоре после этого пропал судья – говорят, подстерегли его в лесу неблагодарные граждане, забили и замучили насмерть чуть ли не голыми руками, и в овраге зарыли. Вот как бывает, детки. Хотите компотика?
Но мы с братиками уже не слышали вопроса – мы сладко спали под тёплыми мамиными руками, и нам снился добрый военный Дед Мороз с длинной мягкой бородой цвета снега.
D4. Истории безоблачного детства. О старичках
В детстве, когда мы с братиками видели старичков, мы не могли удержаться от слёз. Их неловкие движения, их беспомощность и беззащитность, их хрупкие, как сахар, кости и тонкая коричневая кожа – всё вызывало в нас глубокую печаль и болезненное чувство безысходности. Мы шли за старичками несколько кварталов, всхлипывая и поддерживая друг друга за локти, а потом, не в силах выносить отчаяние, садились на скамейку и плакали. Бывало, старички оборачивались и замечали нас – тогда они возвращались, расспрашивали и, узнав причину горя, принимались за утешение. В ход шли и рассказы о том, как славно им живётся, и песенки, и пирожные, и даже хлопушки, но мы не могли успокоиться и всё рыдали, рыдали. «Тьфу на вас, маленькие придурки!» – озлоблялись тогда старички и уходили взвинченной походкой, нахмурив брови. А мы стонали, выли друг у друга на плечах. Выплакавшись всласть, мы утирали опухшие глаза и смотрели, что оставили старички. Из пирожных нам больше всего нравились шоколадные картошки, от них на душе становилось веселее. Иногда попадался пирог с капустой, а изредка – копчёные яйца. Некоторые старички оставляли нам салфетки и пакетики для мусора, и мы делали из них человечков, а потом давали прощальный салют из хлопушек. И те старички, кого мы позднее встречали во второй или в третий раз, больше не вызывали в нас печали – мы с ними уже попрощались.
D5. Из письма Толика. О мармеладках
<...> или пиво, или табак, или пицца – пустяки это всё, ну, для меня по крайней мере. Но есть в жизни вещи, к которым привыкаешь, и отказаться потом – труд титанический. Вот поверите ли, пристрастился я к таким маленьким лимонным мармеладкам, жёлтеньким. Упаковочку за ужином – много ли? А каждая мармеладка посыпана сахарком. Год кушал, два кушал, а теперь решил остановиться – и нет! Не могу отказать себе. Они полукругленькие, как дольки. Даже до симптомов доходит – горечь в горле, тяжесть в туловище, слёзы бессилия… А бывает, соберёшься весь в кулак, как сталь! И не скушаешь! И не скушаешь! А потом, когда уже не скушал, думаешь: ну вот, я же победил? Победил. Теперь можно хотя бы одну? Можно. А руки уже сами фантик разворачивают! И опять пропасть разверзается… они такие кисленькие <...>
D6. Истории зрелости и угасания. Об ожидании
Когда мы с братиками возмужали, ни дня не проходило, чтобы Хулио не рассказывал нам в подробностях о своих прекрасных подругах и о своей любви к ним, такой неодинаковой и всякий раз непохожей. Но иногда на него находила меланхолия, и он начинал абстрагироваться и обобщать.
– Знаете, братики, ведь я с самого детства чего-то жду – и от девочек, и от девушек, и от женщин. Чего-то! Каких-то особенных слов, что ли. Которые куда-то позовут, всё окончательно прояснят и всё навсегда изменят! И начнётся настоящая жизнь, счастливая, полноводная! Но почему-то этого никогда не происходит...
– А я тебе скажу по секрету, Хули, – сказал по секрету Толик, – у меня хоть и жена, и двое дочек, но я тоже до сих пор этого жду!
И они грустно округлили глаза, и полетели мечтательными взглядами за горизонт.
– А я вам скажу, пацаны, – сказал Колик нарочито грубо, – это вы совсем не бабу ждёте, а Бога.
И они от неожиданности нахмурились, и почесали затылки.
– А я вам скажу, – сказал Валик, – это мы все ждём смерть.
А Хулио терпеть не мог подобной псевдо-философской болтовни; в таких случаях он молча вставал и уходил собираться в кино.
D7. На обороте портрета. О чувствах
«Чувства юной девы слабы, непрочны, неразвиты. Сегодня она почитает Кундеру, завтра – Керуака, а ты в её глазах – лишь прискучивший, бесполезный пёс.
Другое дело – дама пожилая, зрелая, полная подлинной пылкости. Кастанеды и Кортасары мелькают в её глазах пёстрыми искорками, и лишь ты светишься сильным и ровным сиянием.»
D8. Истории зрелости и угасания. О директоре школы
Самым лучшим старичком стал наш директор школы. Он приходил раз или два в год к кому-нибудь из нас на день рожденья, или на именины, или на другой праздник, или попросту говорил в домофон:
– Какой сегодня прекрасный денёк…
Его неизменно сопровождала супруга, но странно, она никогда не входила к нам, сколь бы мы её ни упрашивали. Нет! – она высвобождала руку и взглядывала так яростно, что мы отступались. Пока директор сидел у нас, она заходила в хозтовары или прогуливалась по улице, проплывая сиреневым в просветах забора.
Директор был красивым старичком: белые-белые волосы, тонкая бледная кожа, ровный овал лица, лоб в элегантных морщинах. Единственное, что его портило – это толстое коричневое пятно на виске.
– Кем ты сейчас, Толик? Инженером? О-о, как хорошо, как славно, я всегда знал, что из тебя выйдет толк. Помнишь правило буравчика?..
Толик, стесняясь, молчал, брал щётку и легонько чистил ему плечи, как в детстве, какие-то едва заметные соринки. Я, налив директору немного вина, садился подле него на пол и склонял голову ему на колени, вдыхая уютный, древесно-мховый запах одеколона.
– Ролли, Ролли, помнишь, как тебе нравились алебастровые шарики?..
Я не помнил никаких шариков, и даже плохо представлял себе, что такое алебастр; кажется, он путал меня с Томом Сойером. Но я только кивал и улыбался, не всё ли равно.
– Ну а ты Коленька, как же ты так, а?.. Душа за тебя болит...
Колик смущённо скрещивал руки, пряча наколки на косточках. Защищаясь, он отвечал, что главное – порыв к совершенству, неважно, чем занимаешься, поэзией или разбоем.
– Вы же сами нас так учили.
Директор брал сухими пальцами бокал и выпивал глоточек, потом вздыхал, щурясь от удовольствия. Помните, как мы пели в классах? Давайте споём?.. И он медленно, старательно начинал: «жили двенадцать разбоойников…» Мы пели несколько песен, а потом он вставал, и мы провожали его до калитки, к супруге. У директора были такие сухие пальцы, что на бокале не оставалось никаких следов, будто из него пили в перчатках.
D9. Мрачные застенки. Это пицца
Однажды за завтраком, попивая у барной стойки капучино и дожидаясь первых круассанов – мне нравилось встать пораньше и поедать их горячими – я размышлял о судьбах Истории, о древних империях, о Греции и Гиперборее, о готах и гуннах, о роли личности в путях цивилизации. И вдруг меня озарило: почему бы не отравить моих ненавистных врагов, как это совершалось испокон веков с неугодными царями и герцогами? Отравление – простой и мирный способ отправления к праотцам, не привлекающий лишнего внимания, в какой-то степени даже закономерный, «своим чередом». Некоторое затруднение вызывало то, что проклятые программисты вместо вина пили газированный оранжад «фанта», а газировку невозможно вскрыть незаметно – они тут же заметят, что пузырьков стало меньше. Поэтому оставался сложный путь – травить твёрдую пищу. Но примитивность и постоянство программистов оказывались здесь большим подспорьем: они питались одной только пиццей, которую заказывали в ресторане напротив. Впиваясь в подоспевшие круассаны, пышные и нежные, чуточку сочные, отменные, я предвкушал долгожданное – отмщение и удовлетворение. Заговорщицки подмигнув гарсону, я надвинул шляпу на глаза и, воображая себя молодым Делоном на ярком солнце, пересёк улочку и незамеченным нырнул в полумрак пиццерии. Свистнув круглых поварят, тотчас сбежавшихся ко мне с подвала и с террасы, я подробно проинструктировал их и передал в маленькие мучные ручонки три свёртка: свинец, мышьяк и цианид. Не перепеките, чумазики, иначе всё испортите! Их умильный лоснящийся хозяин поклонился мне из угла, и я улыбнулся – этот знает толк. Пока пицца пеклась, я сел за столик снаружи, вытянул ноги и раскрыл газету. Солнце пригревало, ласкало сквозь шляпу, безусловно благоволило моему замыслу, и я представлял, как это будет: «Господа, кому пиццу? Свежайшая! Ай да пицца! И, хоть до обеда ещё далеко, они повскакивают, сгрудятся вокруг, вечно голодные, вечно поношенные, вечно засаленные, и будут тянуть костистые веснушчатые руки, и хватать самые широкие куски, и жирно выжимать кетчуп, и жадно жевать, и губы будут в муке, и по подбородку потечёт жёлто-зелёное масло. И они будут корчиться в необратимых судорогах, и молить о помощи, и умирать. И я, наконец, спустя годы мучений, сброшу ярмо, сковырну клеймо и выйду на свободу, к братикам, к маме и папе!» Пиццы вынес сам хозяин – на огромных фаянсовых тарелках, щедро сырные, румяно томатные, благоухающие душицей, с присовокуплённой в знак доверия высокой бутылью уксуса. Подхватив всё разом с небывалой для меня сноровкой, я опрометью бросился в машинный цех, где корпели над паскалем и ассемблером приговорённые к умерщвлению негодяи. Первый этаж, порог, второй, третий – уже слышны их гнусавые голоса – четвёртый, двойная чёрная дверь, порог – «Господа!» – и первые повороты голов, первые бесцветные рыбьи глаза – и вдруг хруст, потеря равновесия, будто ступил в яму – полёт на пол, на дубовый в бежевых прожилках ламинат... это подломился мой каблук! Я видел на себе все плоские глаза, я видел пыль на полу, видел, как остро раскололся фаянс, как размазались по поддельным доскам пиццы, как катится вдоль плинтуса свинец, как просыпается в щели мышьяк, как испаряется цианид. «Какой ты неуклюжий, Роллтон-бой, право же. Это пицца? Что ж, ты лишил нас пиццы, сколь нежданной, столь и желанной! За это ты будешь жестоко наказан; но после. А сейчас пшёл вон!»