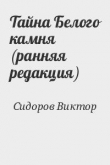Текст книги "Сказание о Майке Парусе"
Автор книги: Петр Дедов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Маркел с прежней горячностью принялся за дело. По заданию Кузьмы Сыромятникова он вел агитационную работу в своем взводе. Это дело требовало не только ума, осторожности, изворотливости, но и хитрости. Не ровен час, нарвешься на провокатора – живо загремишь на «вечный отдых в Могилевскую губернию», как выразился Кузьма. А попробуй растолковать тому же Макару Русакову, что к чему? Парняга, кажется, до сих пор верит, что царь-батюшка у себя на троне восседает, а его, Макара, на этот счет все обманывают, за нос водят.
– Нравится тебе в солдатах, Макар? – улучив момент, издалека начинает Рухтин.
– Не-ка, – хмурится детина.
– Почему?
– Ботинки жмут... Нашли, да малы. На пятках волдыри, – во какие!..
– Ну, а домой тебе охота? – сдерживая раздражение, продолжает Маркел.
– Домой-то? – чешет в затылке Макар. – Нельзя домой, не пустят.
– А если разогнать тех, кто не пускает? Их же куда меньше, чем нас, солдат.
Макар пятится от агитатора, как от чумного. И сам черт не поймет, дурак ли он круглый, или хитрит, притворяется...
Не легче и с кержаком Спирькой Курдюковым. Этот, правда, на все готов – хоть сейчас способен кинуться в драку, неважно с кем: ему бы только бунтовать, ломать и крушить, бить кого-нибудь, буянить, – за таким нужен глаз да глаз...
* * *
В ночь на восьмое никто в роте не спал. С вечера, пока крутилось в казарме начальство, все делали вид, что ничего особенного не происходит, даже проявляли излишнюю рьяность в повиновении. Но заранее были подготовлены ночные караулы, часовые у пакгауза, где хранилось оружие, были поставлены из надежных людей. Несколько офицеров полка действовали заодно с солдатами, они помогли во многом.
Затаившись на нарах, все ждали связного, который должен был подать сигнал к выступлению. Но связной запаздывал. Он явился только за полночь, когда томительное, тревожное ожидание до последнего предела взвинтило солдатам нервы.
Связной, крохотный мужичонка в солдатской, до пят, шинели, перекатившись через порог казармы, зашипел простуженным голосом, еле переводя дух:
– Робятки, отменили выступление-то... Не подготовили рабочих в городе-то...
– Брешешь, нечестивец поганый! – первым кинулся к связному Спирька Курдюков. – Не верьте ему, братья, он этот... как его? Продава... Провокатор!
– Погоди ты, не мельтеши! – сурово осадил горячего парня Кузьма Сыромятников. И обратился к связному: – Рассказывай толком, чего зенки выпучил!
В этот момент на улице, со стороны железнодорожного моста через Омь, защелкали одиночные выстрелы. Ближе к казармам им отозвался длинным татаканьем пулемет. Что-то грохнуло, рвануло так, что зазвенели окна.
– За мной! – крикнул Сыромятников, отшвырнув прочь очумевшего связного. Спирька Курдюков налетел коршуном, саданул мужичонку в пах сапогом, тот скорчился, забился на грязном полу казармы...
Они бежали по темным улицам в сторону городской тюрьмы. Так было заранее обусловлено партийным подпольным комитетом, руководившим восстанием: восьмой кадровый полк должен захватить тюрьму, освободить политических заключенных и вместе с ними примкнуть к остальным повстанцам города, чтобы ударить по главным силам Колчака.
У тюремных стен уже завязался бой: трещали выстрелы, рвались гранаты. В синем полумраке наступающего утра здесь маячили вооруженные люди в штатском. Увидев бегущих солдат, они залегли боевой цепью.
– Стой! Не стреляй! – вырвался вперед Кузьма Сыромятников. – Кто вы такие, откуда?!
– Со станции Куломзино мы, железнодорожники! – отозвались из цепи.
– А мы – восьмого кадрового полка, тюрьму-то вместе нам брать!
Рабочие повскакивали, кинулись навстречу солдатам:
– Нажмем, братцы! Главное – ворота сломать!
Скопом навалились на массивные железные ворота.
Откуда-то появились бревна, вывороченные рельсы. Раскачивая на весу, ими таранили чугунные решетки. Тюремные стражники отхлынули в глубь двора, оттуда беспорядочно отстреливались.
– Э-эх, ухнем!! – весело ревели десятки глоток. – Еще ра-азик! Еще ра-азик!!
Поднятые на руках, огромными челноками качались бревна и рельсы, корежась, скрежетало и лязгало железо. Со стороны могло показаться, что люди горячо увлечены какой-то мирной артельною работой.
Наконец, ворота рухнули. Вооруженная толпа хлынула в тюремный двор. Оставшиеся в живых стражники сдались, стали помогать открывать камеры. Из черных дыр сыпались арестанты в полосатых халатах, будто кто выкидывал оттуда матрацы. Объятия, поцелуи, рыдания, смех...
И в это-то время со стороны задних ворот рявкнул дружный залп. Показалась стройная лавина юнкеров в долгополых серо-зеленых шинелях.
Пестрая толпа освободителей и освобожденных очумело шарахнулась к разломанным воротам, но нарвалась на плотную стену краснопогонников-добровольцев. Завязалась рукопашная схватка. И вдруг добровольцы расступились, в узкий проход хлынули конные гусары в красных бескозырках и с шашками наголо. Стальные молнии засверкали над головами.
– Братцы, нас предали! – истошно завопил кто-то.
– За мной, товарищи! С тыла им заходи! – сквозь винтовочную пальбу и вой послышался голос Кузьмы.
Маркел увидел, как с разрубленным саблею лицом рядом упал его односельчанин Мишка Гуляев. Мимо, сбивая с ног, раскидывая в стороны чужих и своих, с диким ревом промчался к воротам Макар Русаков. Маркел бросился следом за ним, едва выбрался из плотной гущи орущих людей, храпящих коней, свистящих сабель и побежал, что было духу, по кривому темному переулку.
ГЛАВА V
Путь-дороженька

И снова была дорога...
Маркел Рухтин из Омска вышел затемно, а к вечеру был уже далеко в степи, где ничто не напоминало о городе, и только в той стороне розовое предзакатное небо было в грязных потеках от дыма заводских труб.
Стремительно надвигалась долгая зимняя ночь, и вместе с этим, заглушая все горькие думы, росла, набухала в груди тревога: куда приткнуться на ночлег, где обогреться и отдохнуть?
Маркел знал, что почти в каждом селе есть теперь отряды белой милиции или добровольные кулацкие дружины. И уж здесь, вблизи города, наверняка распространился сейчас слух о неудачном восстании и даны указания задерживать не только всех подозрительных, но и каждого незнакомого, чужого человека. А деревня – не город: от стороннего глаза не скроешься. Правда, одет он был по-крестьянски: на омской барахолке успел загнать солдатское обмундирование и купить старый дубленый полушубок, бродни, шаровары. Но под всей этой маскировочной одеждой оставался-то он, Маркел Рухтин, чужой всем в этих краях, бывший солдат восьмого кадрового полка, который восстал против самого верховного правителя и был жестоко подавлен.
Еще на омской барахолке наслышался Маркел всяких страстей о том, что большинство повстанцев, рабочих и солдат, были убиты на месте, а тех, кому удалось бежать, усиленно разыскивают, приговорив заранее к смертной казни. Там же он узнал и о причине поражения: оказывается, городские рабочие не были как следует подготовлены, к тому же навредили провокаторы, и выступление отменили в самый последний момент. Только рабочих из района Куломзино не успели предупредить, а солдаты восьмого полка, заслышав выстрелы куломзинцев, не поверили в ту ночь связному...
Совсем стало темнеть, когда впереди, сквозь белесый морозный туман, желтыми пятнами засветились огоньки какой-то деревни. Маркел озяб, сильно хотелось есть, но у самой околицы он побоялся, повернул в степь. Долго кружил по убродному снегу, пока почувствовал под ногами надежную твердь санной дороги и пошел по ней прочь от манящих теплом и уютом огоньков деревни...
Морозная, черная ночь опустилась над степью, даже звезд не было видно в вышине...
Позже, в своей неоконченной повести «Последняя спичка», где Рухтин вывел себя под именем Миронова, он сам расскажет о тех суровых днях:
«...В городах все рабочие организации разбиты, и Миронову с этой стороны поддержки ждать не приходится. Чтобы жить в городе, ему нужно иметь подложные документы. Их сейчас негде взять. А кто поручится за то, что потом он их достанет? Если он будет ждать, ничего не предпринимая, чего может дождаться?..
Нет, не программу ленивого отчаяния он будет выполнять, а программу борьбы с ненавистной властью...»
Маркел ощущал под ногами намерзшие глызы конского навоза, мягкие шелестящие клочья сена. Крестьянским смекалистым умом он догадался, что этот санный путь проторен обозами, перевозящими сено. И верно: вскоре на фоне мглистого неба огромными болотными кочками зачернели стога. Немного отпустило в груди, идти стало легче.
Он облюбовал стог подальше от дороги и стал дергать под ним неподатливое, смешанное со снегом сено. Разжигать костер побоялся, и когда сделал нору, сразу залез в нее, плотно забил выход. В ноздри лезла сенная труха, пахло степным разнотравьем, засохшим визилем и клубничником. Запахи эти напомнили лето, желанную для любого крестьянина сенокосную пору, веселое вжикание литовок и натужный гул полосатых шмелей в росных травах...
Подтянув ноги к подбородку и дыша в расстегнутый ворот полушубка, Маркел угрелся в своей норе, достал из-за пазухи краюху ржаного хлеба и стал с жадностью есть.
Кажется, никогда еще в жизни не казалась такой вкусной пахучая, заветренная краюха! «Устроился, как медведь в берлоге», – подумал он и даже позавидовал таежному зверю. В детстве, играя с ребятишками, они делали ради забавы такие вот норы в стогах сена. Как пригодился теперь этот опыт! И как хорошо, что родился он все-таки в деревне, где человек не такой уж беспомощный перед лицом природы, ближе к ее суровому первозданному миру...
* * *
Вот уже много дней Маркел шел на северо-восток, в глухомань таежных урочищ, где на берегу быстрой речки Тартас приютилось село Шипицино – единственное родное место на всей огромной холодной земле. Он старался не думать о том, что ждет его дома: в безвыходном положении человек всегда бессознательно стремится на родину, даже если знает, что там уготовлена ему смерть. Но дома, как говорится, и стены помогают. Неужели смирились все мужики, согнулись перед Колчаком в рабской покорности? Не верил этому Маркел и шел домой не только с надеждой на спасение, но с твердым намерением продолжать борьбу.
Его, таежного жителя, степь поначалу пугала ледяным спокойствием, безжизненной пустотою, где на десятки верст видно все вокруг и в случае нужды некуда спрятаться, негде переждать опасность. Он шел стороной от больших дорог, но голод и холод придали ему смелости. Теперь он стал заходить в маленькие тихие поселки и на отдаленные заимки. К поселкам подходил обычно в сумерках, долго прислушивался и вглядывался в пустынные улицы и только потом выбирал избу победнее, стучался, просился на ночлег.
Пускали его без особой радости, а лишь только потому, что так уж издревле повелось на Руси: грех отказать в ночлеге, не помочь одинокому путнику. Осторожным стал сибирский крестьянин, куда подевалось знаменитое хлебосольство и простодушие: успели научить кое-чему «колчаки», как называли теперь всех поголовно служителей нового правителя. Затаился мужик, стал ниже травы, тише воды, схоронился в собственном подворье, чтобы переждать смутное время...
Но колчаки не давали спокойно отсыпаться по берлогам. Им нужны были новые солдаты, хлеб, фураж и прочий провиант. Антанта снабжала только оружием да частично одеждой, остальное же все, особенно живую и тягловую силу, приходилось изыскивать на месте, у зажиточных, но прижимистых сибирских мужиков, у которых даром и снегу во дворе зимою не выпросишь.
И колчаки поняли сразу, что просить и взывать к сознательности – дело бесполезное, все надо брать только силой.
И засвистели по селам шомпола да плетки, уже и виселицы нет-нет стали корячиться за околицами... Круто взялся Колчак: не хотите добром, возьму силой. А для этого надо запугать, чтобы одного духу твоего мужик боялся.
Но с самого начала не учел новый правитель главного, что после и привело его к полному краху...
Маркелу припомнился разговор с Кузьмой Сыромятниковым накануне восстания.
– Много ли вас, большевиков-то, по Сибири? А у Колчака силища! – горячился тогда Рухтин, вызывая Кузьму на откровенность, стараясь задеть за живое.
– Да какая там силища? Где ты ее увидел? – спокойно отозвался Кузьма. – Силища-то в народе вся, а народ за Колчаком не пойдет.
– Как сказать... – Маркел, чтобы выпытать у собеседника всю подноготную, иногда хитрил, прикидываясь этаким наивным деревенским простачком. – Сибирский мужик хитер, его на мякине не проведешь. У него и земель, и лесов, и воды вдоволь, так какая ему разница, кто у власти: колчаки или большевики?..
– Хитришь ты, вижу, парень, хотя до главной сути вряд ли докопался, – Кузьма стрельнул в Маркела свинцом серых глаз из-под мохнатых бровей, – может, часть крестьян и правда думают так, как говоришь ты, но это те мужики, которые не успели еще колчаковской порки отведать. А когда покушают березовой каши – сразу Советскую власть припомнят. Верховный правитель с самого начала промашку допустил: сорвался на мужика, что собака с цепи, налетел с клыками да кулаками. Не учел, что сибирский крестьянин к плетке не приучен. Сибирский мужик – гордый, закаленный в борьбе с суровой природой и постоять за себя умеет. Коренные сибиряки еще от казаков Ермака Тимофеевича свой род ведут. Отчаянный народец, бесстрашный. Чал-дон: чалил с Дона. Да и после в Сибирь ссылали самых непокорных и мужественных, кто на господ и даже на царя не боялся руку поднять. А недавнее время возьми, когда валом повалили в Сибирь переселенцы? Тоже ведь слабак не шибко-то решится покинуть хотя голодное и холодное, но родное гнездо и двинуться за тысячи верст в неведомый край... Да и выживал здесь не каждый: так сказать, естественный отбор происходил... Вот он каких кровей, сибирский-то наш мужик, а Колчак с нагайкой на него налетел, на колени вздумал поставить. Посмотрим, что будет дальше. Время покажет. Жалко вот, что рабочего класса в Сибири маловато...
– Да Ленин далековато, – в тон Сыромятникову поддакнул Маркел.
– Все понимаешь, язви тя в душу-то, а притворяешься, – выругался Кузьма на чалдонский лад и рассмеялся.
* * *
Так и шел Маркел, где днем, где ночью, от одного людского жилья к другому, а конца пути не было видно...
Подкатили рождественские праздники – веселые, разгульные деньки. Теперь можно было в любое село зайти без опаски, под видом колядовщика.
Колядовщики и славильщики об эту пору ходили толпами, из деревни в деревню, – попробуй в этой кутерьме разобраться, где свои, где чужие. Да и разбираться было некому: мужики находились в беспробудном похмелье.
Маркел решил воспользоваться случаем, чтобы запасти харчишек на дальнейшую дорогу. Шибко изголодался он за последнее время: кормился случайными подачками, а то подрабатывал у каких-нибудь одиноких вдов да стариков – дрова помогал пилить, пригоны очищать от навоза...
А тут – случай такой... Даже радостно стало на душе, будто вернулся он в свое детство, когда шумной мальчишеской ватагой ходили по дворам, набив карманы овсом и житом, и, переступив порог очередной избы, горстями пуляли зерно в притворно испуганных хозяев, приговаривая: «Уродися, жито, чтоб жилося сыто! Жито и овес – чтоб в оглоблю рос!»
А потом хором начинали «славить»:
Славите, славите,
Вы ничо не знаете?
Мы зачем пришли:
За копеечкой!
Не дадите пирога —
Мы корову за рога!
Не дадите булку —
Выведем на улку!
Дети пели шуточные «славки» да «колядки», а взрослые парни и девки – длинные песни-молитвы во славу Христа и хозяев дома.
Маркел помнил эти песни и, зайдя в первую же избу, стесняясь до слез, затянул одну хриплым простуженным голосом.
В избе было сумрачно и необычайно тихо, и, лишь привыкнув маленько к темноте, Маркел разглядел множество любопытных ребячьих глаз, которые смотрели на него отовсюду: с лавок и топчанов, с печки и полатей, даже из-под стола. Изба до отказа была набита детишками, частью – голопузыми, частью – в одних замызганных холщовых рубашонках.
«Вот это да-а! – поразился про себя Маркел. – Занесла меня сюда нелегкая... Сколько же их тут? Поди, поболе дюжины?» И только теперь заметил хозяина и хозяйку, неподвижно сидевших в кути.
– С рождеством Христовым вас, – промямлил он, отвешивая земной поклон.
– Тебя тоже, добрый человек, – скрипучим голосом отозвался хозяин, а баба стала шарить в кути, извлекла откуда-то на свет божий завернутый в рукотер черный пирог, отломила половину. Пирог был еще парной, запахло кислой капустой, ребятишки, как по команде, повернули головы, жадно уставились на руки матери.
Маркел было попытался отказаться, но хозяйка настойчиво совала кусок пирога ему за пазуху, даже обрадованно как-то уговаривала:
– Бери, бери, не стыдись. Разговейся на Христов праздничек – не побрезгуй. Чем богаты, тем и рады... К нам ить никто не ходит колядовать – все больше в богатые дворы заворачивают... Не побрезгуй, добрый человек...
Маркел выскочил из избы, как ошпаренный, весь потный от стыда.
«Последний кусок у ребятишек урвал, – крутилось в голове, – так вот почему они уставились все на меня, как на чучело гороховое! К ним из местных-то никто не ходит, знают их бедность... И как обрадовалась хозяйка-то...»
Оправившись от смущения, Маркел сказал себе со злым весельем:
– Хватит нищих-то обдирать. Тряхнем-ка толстосумов!
Он выбрал самый богатый по внешнему виду двор и направился к нему. Из-за высокого заплота выглядывал просторный крестовый дом, прочный и приземистый, как гриб-боровик. Все надворные постройки: сараи, амбары, дровники, сенники, даже овин и баня – располагались под одной общей крышею – на сибирский манер, чтобы легче было управляться по хозяйству в лютую и метельную зимнюю пору. И сам дом был хорошо приспособлен к здешнему климату – низкий, с крохотными окнами и маленькими дверными проемами. Хоть не шибко-то удобно, зато тепло.
«Толковый живет хозяин», – подумал Маркел и толкнул тяжелую дверь калитки. Как надо было и ожидать, навстречу, гремя цепью, рванулся огромный пес-волкодав, но до расчищенной к избяному крыльцу дорожки не достал, – зависнув на укороченном поводе, задохнулся в бешеном лае. Хозяева, значит, сегодня принимали.
Маркел вошел в избу, запел во славу Христа. В передней несколько женщин копошились у огромного зева русской печи. Они приостановились и глядели на пришельца почему-то с улыбками.
– Ну и голосок же у тебя... – сказала старуха с длинной и морщинистой, как капустная кочерыжка, шеей.
– Он, маманя, поет на тот мотив, на какой наш кобель сидорову козу драл, – захохотала краснощекая и, видно, озорная молодуха.
– Да уж кобель у вас – что надо, – пробормотал Маркел.
– Во-во! – закрутила маленькой головкой на шее-кочерыжке старуха. – Сразу видать – чалдоны! А то вон хохлы-чаехлебы на другом конце деревни живут, дак их по тявканью ихних собачонок узнать можно: чай-чай! Чай-чай! А уж на нашем-то порядке кобели, как в бочку, бухают: борщ-борщ! Борщ-борщ!
– Да еще и с мясом! – похвалилась краснощекая молодайка и от избытка праздничного счастья раскатилась звонким смехом. Но тут отворилась дверь из горницы, и она отвернулась, прыская в ладонь.
Показался нарядный старичок в бархатной поддевке и в таких широченных плисовых шароварах, заправленных в высокие узкие сапоги, что напоминал игрушечный пряник на палочке.
– Во, и нам колядовщика бог послал! – крикнул он, увидев стоявшего у порога Маркела. – Ну-ка, бабы, попотчуйте парня, штобы весь год помнил Парамона Похомова! А то, вишь ты, скупердяем меня все считают, черти голопупые! А какой я скупой, скажи на милость? – старичок подбежал к Маркелу, приосанился фертом – руки в боки. – Ну, ты вот, паря, скажи: скупой я али нет?
– Не знаю, – улыбнулся Маркел.
– Зна-аешь! – наседал хмельной хозяин. – А ну – скидавай свои лохмотья, айда-ко за стол! Сегодня Парамон Похомов всех угощает! Радость у меня – сынок приехал! Што?! Не моги перечить, разболакайся моментом!..
Он потащил Маркела в горницу, и тот опешил в дверях: за столом, среди бородатых мужиков, сидел колчаковский офицер в серебристых погонах поручика. Но отступать было поздно. Игрушечный старичок тащил его за собою, грубо толкал в бока.
– Иди, иди, паря, не слопают тебя тутока. И без тебя закуски эвон сколько...
Маркел быстро смекнул: ничего не оставалось, как прикинуться этаким деревенским простачком. Уверенно прошел к столу, сел как раз напротив поручика и с нарочитой жадностью принялся за еду. Была в его в общем-то робком характере смелая черта: в критические моменты не отступал, а пер на рожон – будь что будет. Но сытная пища не лезла в горло, даже стерляжья икра стала комом. А хозяин-старичок приплясывал около, хлопал себя ладонями по ляжкам:
– Ай-да молодец! Вот это проголодался, сукин сын, – ажно уши ходят ходуном!..
Офицер разговаривал с мужиками, а сам нет-нет да и косился на случайного гостя своими круглыми и зелеными, как у кота, глазами. Да и лицом, когда Маркел пригляделся, поручик здорово напоминал кота: пухлые щеки с бакенбардами, топорщистые усики...
Он налил Маркелу стакан самогона, спросил в упор:
– Чей будешь?
Маркел назвал случайную фамилию.
– Возраст призывной... Почему не в армии? А документы есть?
– Да какая армия, какие документы?! – со слезою в голосе взмолился Маркел. – Из больницы домой добираюся, в городу лежал...
– Чем болел?
– А хто ж его знат... Пузо резали, кишку, гля, какую-то выдирали.
– Ага, аппендикс... А что, приехать за тобою некому было?
– Обещал батяня к сроку, да меня допрежь времени из больницы турнули.
– Что так?
– Здоров, говорят, неча казенный харч переводить.
– Дак без кишков-то много ли ты того харчу переведешь? – рассыпался мелким смешком старичок.
Поручик моргнул усом, задумался. Потянулся со своей рюмкой к Маркелу:
– Давай за рождество Христово... А поправишься – сразу в солдаты. Не жди, пока за уши притянут. Да-с.
– Это уж как водится, это мы с полным удовольствием, – поспешил заверить Маркел.
– Не шибко-то оне счас за службу радеют, – вмешался в разговор толстый чернобородый мужик. – Деревню нашу возьми – почитай, половина призывников по лесам да заимкам прячутся. В большинстве – бывшие фронтовики да дети голодранцев. Шибко уж им Советская власть пришлась по нутру. Спят – и во сне ее видят. Никакой другой власти служить не хотят – не признают, значится...
– Дак оно понятно: мазнули им большевики медом по губам. Хорошей земелькой, вишь, побаловали, – подсказал плюгавенький мужичок, Маркелов сосед.
– Ничего, его превосходительство адмирал Колчак живо наведет должный порядок, – по-кошачьи дернул усом поручик. – Это вам не какой-нибудь слюнтяй Николашка со своей мягкотелостью. У адмирала нервы железные, он прекрасно знает психологию русского человека, которому палка от роду приписана.
– Так-то оно так, – усомнился чернобородый, – да только палку перегибать тожеть не след... Палка-то, она о двух концах...
– О двух, это точно, – поддержал шустрый старичок-хозяин. – Ты, Проня, сынок, того... Озлится народ – добра не жди... Мы уж своего брата – мужика, лучше, как твой Колчак, знаем.
– Философы! – презрительно фыркнул офицер. – Так подскажите, как его без палки взять, новобранца. Нам армия нужна. Разобьем красную сволочь – тогда и слабинку можно дать... Да-с. Ты согласен со мной? – неожиданно спросил он у Маркела.
– Дак я чо?.. Я ничего... Я завсегда готов...
– Нет, пущай он свою пузу покажет, какой дратвой зашили ее, – захихикал веселый хозяин. Он, видать, и за стол-то парня затащил для потехи. Маркел съежился, почувствовал, как сразу взмокли шея и спина. Но выручила вошедшая в это время старуха с самоваром, – должно быть, хозяйка:
– Еще чаво придумал! – завертела она маленькой головой на длинной шее-кочерыжке. – Парень-то изголодалый весь, одне мощи остались, а он выгибается перед ним, как вша на гребешке.
– Ладно, катись отсель вместе со своим гостем! – сразу ощетинился веселый старичок. – Пшел! Вот тебе бог, а вон – порог!
Маркел только и ждал такого случая. Оставалось одно: шапку в охапку – и дай бог ноги, как говорится...
Вот он нынче стал каким уверенным да куражливым, мужичок-кулачок! Будто и не было никаких революций, а так, мелкая базарная драка случилась и снова согнулся народишко под свистящими розгами! Но ведь сам толкует, что палка о двух концах, значит, чует, понимает, что розги – жиденькие прутики – со временем могут в грозные дубины вырасти...
«Чуешь, гад! Погоди, дай только время», – шептал Маркел, выбегая за околицу села...
* * *
После рождественских праздников жахнули крещенские морозы, а конца пути не было видно...
Степь кончилась, начались леса. Сперва березовые да осиновые колки, а дальше – сосновые боры, лапник-пихтач, низкорослый ельник по низинам.
Мертвым покоем, ледяным безмолвием были объяты леса.
Особенно жутко здесь по ночам. При неверном лунном свете пугающе настораживались разлапистые коряжины, медведями-шатунами поднимались навстречу занесенные снегом выворотни. Ни звука, ни шороха... И вдруг – ухнет с дерева снежная навись, эхо раскатится окрест, пугливыми зайцами начнет метаться меж стволами...
А то – грохнет пушечным залпом неожиданно над головой, оглушит – это не устоял перед морозом кряжистый древесный ствол, треснул, расщепился от комля до вершины.
Маркел продвигался теперь большей частью ночами. Днем отсиживался, где придется, а в сумерках трогался в путь. Это с тех пор, как услышал он страшную историю от одного мужика, который подвез его попутно на своих розвальнях.
Мужик-то этот и подвозить его сначала отказывался. Нагнав среди дороги, остановил, правда, лошадь, но когда разглядел получше незнакомого оборванного парня, то засуетился, выхватил из передка саней кнут, врезал по коняге.
Маркел побежал следом, спотыкался и падал. Не мог он понять такой жестокости мужика, нарушившего неписаный закон дороги: как не подвезти одинокого путника, да еще в зимнюю стужу, да если сани порожние?
А мужик понужал лошадь и пугливо оглядывался, будто за ним гнались волки. Но, видно, убила совесть – натянул вожжи.
– Я ведь не грабитель, дядя, чего испугался? – подбегая, сказал Маркел непослушными от холода губами.
– А хто ж вас знает... Шляетесь тутока, как бездомные собаки, – мужик по-черепашьи вытянул голову из воротника огромного бараньего тулупа.
– Да вот, из больницы домой иду, – виновато сказал Маркел.
– Из больницы, – передразнил мужик и снова втянул голову обратно так, что исчезла даже белая заячья шапка. – Садись уж, – глухо донеслось из мохнатой утробы тулупа.
Маркел прицепился сзади, на ворохе хрусткого сена, представив, как, должно быть, тепло и уютно мужику в его обширном тулупе, как приятно пахнет кислой овчиною и как размаривает сон под монотонный скрип полозьев...
Долго ехали молча. Мужик подергивал вожжи, смачно чмокал губами, белая от инея лошадка трусила мелкой рысью, кивая в такт большой головою, из ноздрей ее били тугие струи пара. Наконец, из тулупа показалась сначала белая шапка, потом испеченное, морщинистое лицо хозяина.
– Далече ли до дому-то? – поинтересовался он.
Маркел назвал какую-то деревню.
– Не знаю такой, – сказал мужик и снова подозрительно оглядел Маркела. И вдруг спросил неожиданно:
– Как оно, в солдатщине-то, не сладко, говоришь?
– О чем ты, дядя? – изумился Маркел. – Говорю же – из больницы иду...
– Расскажи своей бабушке, – презрительно сплюнул мужик. – Анадысь тут двоих таких же вот, как ты, заловили... Колчаковские каратели... Оказалось, солдаты беглые из Омска, только переодетые. Бунт оне какой-то там учинили...
– Ну и что? – подался вперед Маркел.
– А то! – повысил голос мужик. – Сцапали голубчиков средь бела дня вот так же вот на дороге... Ночи, видишь, им не хватало, в открытую шли, как на гулянке. Гармошку только забыли с собой прихватить...
– Дальше-то что?! – крикнул Маркел.
– А то! Раздели донага и пустили на все четыре стороны. Бегите, мол, куда глаза глядят, полная свобода вам, только одежонку мы вашу возьмем заместо солдатских мундиров, которые вы где-то загнали. Мундиры-то, мол, казенные... Ну, и чесанули те бедолаги по сугробам, а мороз-то был – слюна на лету замерзала... И версту не пробегли – закувыркались в снегу, как выброшенные на лед окуни... Да мало того – дознались каратели как-то и разыскали в нашей деревне хозяина, который намедни тех солдат на ночлег пускал. Шкуру с него сняли шомполами, и по сей день не поднимается, кровью харкает...
Мужик замолчал и снова по-черепашьи втянулся весь – с головой, руками и ногами – в свой тулуп-панцирь.
Маркел соскочил на дорогу. Хозяин, видно, услышал, придержал лошадь. Подозвал парня. Порылся в передке саней, вытащил из-под сена холщовый сидорок:
– Возьми. Харчишек кое-каких баба в дорогу собрала. По сено я еду... Да ладно, обойдусь. Тебе нужнее... Путь-то спрямить маленько можно. Вон за той согрой увидишь вправо санный след – дуй по нему, на Седову заимку выйдешь. Тамока глухо, никто не встретится...
* * *
Но и до самых глухих углов стали добираться колчаковские власти, чинить там беспощадную расправу.
Забрел как-то Маркел в крохотную деревушку – две дюжины нищих избенок, крытых соломой. В сумерках дело было, но ни одного огонька не светилось в окнах, жуткая тишина стояла, даже собаки не брехали – словно начисто вымерло все от чумы или холеры.
Маркел постучал в крайнюю избушку. Никто не откликнулся. Подождал, потом потянул за скобу. Дверь жалобно завизжала на промороженных петлях. В избе было темно и холодно. Кто-то завозился в углу, застонал. Маркел чиркнул спичкой, прошел к столу, засветил сальную коптилку. Огляделся. Из полутемного угла смотрели на него округленные испугом глаза. На дощатых нарах лежал старик. Лежал на животе, неловко повернув к Маркелу голову.
– Ты кто? – спросил он сиплым голосом.
– Путник я... Ищу ночлега, – ответил Маркел.
– Пу-утник, – старик закряхтел, поворачиваясь на бок. – Дай водицы испить.
Маркел нашел в кути кадку с водой, жестяной ковш. Старик с трудом напился: голова его тряслась.
– Болеешь, дедушка?
– Хвораю, – слабо отозвался тот. – Тока хворь моя не заразная, не бойсь. Погляди-ка спину – штой-то огнем палит.
Маркел откинул драный полушубок, заголил холщовую рубаху. Костистая спина старика кровенела темными рубцами, кое-где шмотьями висела кожа.
– Шомполами, – спокойно пояснил старик. – Летом– то лучше – розги, можа, нарезали бы, оне помягче, а уж зимой – што под руку попало...
– Кто же тебя так, дедушка?
– Известно кто – каратели... Да ты сам-то кто будешь?
– Не бойся... Тоже от колчаков драпаю, – открылся Маркел, чтобы сразу рассеять подозрения. – За что они тебя, каратели-то?
– Кабы меня одного, дак куда ни шло, – засипел старик, жадно хватая воздух. – А то ить всю деревню перепороли, усе поголовно пластом лежат... А у нас и деревня-то – старики да старухи, какие одной ногой уже в могиле стоят...