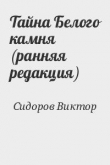Текст книги "Сказание о Майке Парусе"
Автор книги: Петр Дедов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Атаман (так называли в отряде Митьку Бушуева) сам подвел Маркелу низкорослую косматую лошадку. Сказал, строго сдвинув атласно-черные брови:
– Седло себе добудешь в бою. А пока – охлюпкой. Ездить-то хоть умеешь? В городу-то, небось, только и катался что верхом на палочке... когда без штанов еще бегал?
– Да какой он городской, нашенский он, из Шипицина, – загалдели мужики. – Пастушонком сколь годов был...
Неказистая на вид кобыленка в деле оказалась резвой и выносливой. Не отставала от других – шла мелкой рысью, без тряски, будто плыла.
Отряд ни на день не задерживался на одном месте, кочевал по лесам, нападал на мелкие группы белой милиции и кулацких дружинников. Атаман, как и подобает ему, всегда мчался впереди отряда, хищно пригнувшись к самой гриве вороного жеребца.
Лес гудел от топота копыт, осенние деревья по сторонам сливались в разноцветный ковер, ветер свистел в ушах, да сердце замирало в бешеной скачке.
Вольная волюшка! Ночи у костра, лихие песни мужиков, – и снова дороги, цокот копыт по схваченной утренником земле, золотая метель листопада и буйная, пьянящая радость впереди – борьба за правое дело!
* * *
Отрезвление пришло в холодном сыром амбаре, куда Маркела бросили вместе с другими в ту страшную ночь разгрома отряда. Взяли их сонными, притащили в исподнем белье, связанных по рукам и ногам...
Все это Маркелу казалось сейчас кошмарным сном. Он поближе придвинулся к затухающему костру. По углям, подернутым серым пеплом, судорожно метались синие огоньки, гасли один за другим.
Маркел бросил в костер охапку волглого от росы хвороста, огонь совсем погас, повалил белый едкий дым. Прутья зашевелились на углях, корчились и трещали, пока под ними снова не возник язычок пламени, который осторожно стал пробираться в гущину и вдруг полыхнул так, словно весь костер подбросило взрывом. Сверху сорвалась какая-то сонная птица, очумело шарахнулась на огонь и с диким криком исчезла в темноте. У Маркела словно внутри оборвалось что-то, – он припал к земле, уцепился за жесткую траву, будто за гриву озверело несущего коня.
А костер полыхал вовсю, и весело плясали вокруг обомшелые стволы сосен.
* * *
Из амбара его вывели первым. Лязгнул засов, рывком распахнулась дверь, и в светлом проеме, как из-под земли, вырос страхолюдного вида детина, похожий на огромную гориллу, какую Маркел видел на картинках. Круглая голова, заросшая до глаз рыжим волосом, безо всякой шеи покоилась на сутулых, непомерной ширины, плечах. Сходство с обезьяной дополняли короткие кривые ноги и длинные, до колен, руки.
– А ктой-то тут Маркелушка Рухтин? – неожиданно тонким, бабьим голосом пропел детина. – А выходь, Маркелушка, наружу, поглядим, какой ты красавчик есть... О, да ты ишшо цыпленок желторотый, укусный с тебя можно сделать сашлычок, – ласково закончил он и, одной рукой сграбастав Маркела за шиворот, высоко поднял над землей, как провинившегося котенка
– Брось, Самоха, задавишь допрежь времени! – крикнул второй солдат, запиравший дверь амбара.
Самоха залился сверлящим смешком, от которого мороз продирал по коже...
В избе, куда ввели Маркела, за столом сидел красивый подпоручик. Голубоглазый, с черными усиками над яркими губами, весь наглаженный и начищенный – словно с лубочной картинки сошел. Но что-то порочное было в его лице. Уставился на Маркела, улыбнулся одними губами – глаза оставались холодными:
– Что же тебя, аника-воин... так и взяли в одних подштанниках? Герой-ой. И такую соплю ты просишь помиловать, батюшка? Зачем ему жизнь? Зря небо коптить?..
Только теперь Маркел заметил в углу попа из своей деревни Шипицино – Григория Духонина. Поп был в новой атласной рясе, с большим крестом на шее, – будто в церковь на службу пришел. Сидел в горестной позе, по-бабьи подперев щеку ладонью. Скорбный взгляд его робких бараньих глаз был устремлен куда-то сквозь Маркела.
При последних словах подпоручика он встрепенулся, осторожно кашлянул в кулак:
– Дак не чужой ведь, ваше благородие (поп доводился Маркелу крестным отцом). С этаких лет его знаю, – он показал рукой два вершка от пола. – Уж какой смиренный да послушной был – божьей козявки не обидит... Нечистый попутал отрока, по молодости лет, по тупости связался он с этими разбойниками, ваше благородие...
Подпоручик опять скривил в улыбке красивые губы, покосился на Духонина:
– Ангел, говоришь, парнишка-то? А ну-ка, Самоха, погляди, – может, у него и впрямь под рубахой крылья?
Самоха Гуков засопел над Маркелом, задрал ему на голову холщовую исподнюю рубаху.
– Нетути, ваше благородие, – разочарованно сообщил он.
– Так сделай!
Самоха с полуслова, видно, понимал шутника-хозяина. Он крутанул назад Маркелову руку, уцепился за выпершую лопатку, пытаясь выдрать ее из тела. В глазах Маркела померк белый свет, он закричал от боли, забился на полу.
– Хватит! – издалека прозвучал голос подпоручика.
Когда Маркел очнулся, то увидел попа на коленях. Он елозил на полу, стараясь припасть лицом к блестящим сапогам подпоручика, который нервно метался по избе.
– Не губите, ваше благородие, не виновен парнишка... Без отца рос... Мухи не обидел... Дьявол попутал, – сами ить узнали, што всего пять ден был он у разбойников... Не губите ради меня – я ить жизнь вам спас, когда Бушуев-то нагрянул...
– Молчать! – подпоручик пинком отбросил попа, склонился над лежавшим навзничь Маркелом. Глаза его округлились и побелели от бешенства, нижняя челюсть тряслась. Он стал медленно расстегивать кобуру.
Перед лицом Маркела заплясал пустой зрачок пистолетного дула.
«Все, – успел подумать Маркел, и тело его сжалось, похолодело, стало чужим. – Как это просто». В то же мгновение голову будто на мелкие черепки разнесло ударом...
* * *
Очнулся Маркел от грохота и тряски. С трудом сообразил, что его везут куда-то на телеге. Открыл глаза.
Сквозь красный туман увидел: перед ним возвышалась огромная черная гора. Застонал, заскрипел зубами от боли.
Гора шевельнулась. Из мрака выплыло бородатое лицо отца Григория. Кроткие глаза цвета кедрового ореха были совсем близко.
– Пить, – прошептал Маркел.
Поп засуетился на телеге, зашуршал сеном. Выволок откуда-то оплетенную ракитовыми прутьями большую бутыль.
– Вроде, осталось маленько... Не все душегубам выпоил, – скороговоркой зачастил он, откупоривая зубами деревянную пробку. – Глотни, пользительная штука...
Приподнял туго забинтованную Маркелову голову. Маркел клацал зубами о край посудины, мутная самогонка текла по шее за воротник. Горло обожгло, благостное тепло пошло по всему телу, сразу ожили, почувствовались руки и ноги.
– Так-то вот оно и ладно будет, – приговаривал поп, подмащивая Маркелу под спину тугую охапку сена. – Рукояткой нагана он тебя треснул... Ничего, до свадьбы все подживет...
Нырнула в лес грязная после дождей, истерзанная колесами дорога, пошла в гору. Лошадь напружинилась, вытянула шею. Отец Григорий легко соскочил с телеги, пошел рядом. Просторная черная ряса струилась красивыми складками на его ладном сильном теле, нисколько не скрадывая статную фигуру. Отцу Григорию за пятьдесят, а ни за что не дашь столько. Не изработался... Румяное лицо, русая, без единой сединки, борода. Походка упругая, в раскачку, – бревна бы такому ворочать или землю пахать... Молодые прихожанки в церкви пялят на батюшку глаза, и таятся в тех глазах отнюдь не благочестивые чувства...
– Ночью матерь твоя к нам прибегла, голосит, волосы на голове рвет, – возбужденно рассказывает отец Григорий. – Какой-то мужик из Заозерки приехал, ну и распространил слух, что Савенюк накрыл там Митьку Бушуева... Многих побили, а живых в амбар заперли. И тебя, мол, видел среди пленных. Шибко убивалась мать-то... Христом-богом уговаривала меня поехать: уважает, мол, тебя Савенюк, на квартире постоянно останавливается. Упроси его, может, сжалится над Маркелушкой... Вот и пришлось на коленях ползать на старости-то лет... Хорошо, не забыл услугу, когда я самого-то его от смерти спас. Добро людям сделаешь – они тем же отплатят. На этом весь божий мир держится...
Ореховые глаза отца Григория светились лаской, – видать, сильно он был доволен содеянным добром. К тому же, не скрывал, надеялся, что на том свете ему это зачтется.
Дорога пошла под уклон, поп запрыгнул в телегу, тронул вожжи. Лошадь взяла рысью, телега затарахтела по обглоданным колесами кореньям. На зеркальные ободья наматывались влажные разноцветные листья, разлетались по сторонам, яркими заплатами липли к потному крупу лошади.
Только теперь Маркел окончательно понял, что жив. Немалым усилием отогнал от лица черный зрачок смерти и будто впервые в жизни увидел это небо и этот лес, гудящий медноствольными соснами, рябящий в глазах березами.
Что-то теплое, живое, похожее на радость, шевельнулось в груди, и слеза обожгла щеку...
– Чо делать-то теперь будешь, крестничек? – спросил отец Григорий.
Маркел хотел что-то ответить, шевельнулся, и глаза снова застлало туманом от боли.
– Уходить тебе надо, а то как бы свои же мужики не пришибли. Подумают, помиловали тебя за то, что предал: Митьку-то Бушуева вон как уважают – защитником своим считают... А с другой стороны, – Савенюк не передумал бы... Зверь-человек, попадешься еще раз ему на глаза – расстреляет, антихрист. Это он дружбу со мной не хотел терять – помиловал...
Долго ехали молча. Лес кончился. Телегу мягко покачивало теперь в размытых колеях дороги. Почуяв близость деревни, лошадь наддала ходу.
Вечерело. С луговой стороны потянуло пряным запахом осоки, дымком далекого пастушьего костра. Было тепло, уютно на земле.
Поп мурлыкал под нос что-то протяжное, но не заунывное, – не то песню, не то молитву. Его благостное настроение передалось Маркелу. Пришло какое-то легкое чувство освобождения, отрешенности от всего, что с ним произошло. Он с благодарностью подумал об отце Григории. Все-таки добрый это человек. Никогда не делал людям худого, – наоборот, старался, как мог, утешить в горести и печали. Иногда оказывал бескорыстную помощь сиротам и обездоленным.
Его, мальчонку-безотцовщину, и пригрел, и обласкал, а когда увидел тягу к грамоте, обучил читать и писать, потом помог устроиться в церковноприходскую школу...
Да, многим он, Маркелка Рухтин, обязан отцу Григорию...
Поп будто догадался, о чем он думает, наклонился, спросил тихо, участливо:
– Шибко голова-то болит?
– Вроде маленько полегчало.
– Подживет. Были бы кости целы, а мясо нарастет. – Отец Григорий белозубо улыбнулся, огладил пышную бороду. Продолжал ласково, с легким укором: – Не в то стадо ты забрел, сын мой. Время сейчас тяжелое, все, как по святому писанию, выходит: брат на брата, сын на отца с рогатиной попер. Вот и надобно в сторонку, в кустики уйти – переждать, пока все образумится...
Маркел пошевелился, стараясь как-то выразить свое несогласие.
– А Савенюк в это время мужиков будет пороть, – с трудом вылепил он разбитыми губами, – хлеб и лошадей отнимать, парней силком в армию гнать... А кто воспротивится – с теми... вот как со мною...
– Савенюк и его головорезы – накипь, исчадье ада, – легко согласился отец Григорий. – Когда воду взбаламутят – наверх всегда всплывает дерьмо...
– Почему же вы, батюшка, привечаете его? В вашем доме он постоянно останавливается...
– Грешный я человек, – смиренно ответил поп, – никому отказать не могу...
И вдруг рассердился, заерзал на сене:
– А ты молод еще, сын мой. И глуп к тому же. Рано тебе осуждать меня, ибо не ведаешь того, что пригрел я басурмана с единой мыслью: в меру своих сил обуздывать карателей, чтобы меньше крови народной пролилось.
Лгал отец Григорий. Нагло, без стеснения. Каким-то внутренним чутьем угадывал это Маркел и почувствовал, как изнутри накаляет его злоба. Рывком приподнялся на локтях, пристально глянул в чистые поповские глаза.
Спросил громко, вызывающе:
– Кровь народную жалеете? А забыли, как выдали однажды Бушуева, когда он в доме вашем Савенюка прижучил?!
– И опять ты глуп, сын мой, – невозмутимо отозвался отец Григорий. – Жизнь я ему сохранил в эту ночь, твоему Бушуеву. Сам побежал карателей звать, а матушке шепнул, чтобы она Митькиных людей упредила... А так бы все едино взяли его, ибо безрассудна была его выходка. А ты думал, он, Митька-то, божьим чудом спасся тогда?
– Путаете вы все, батюшка... Ежели вы Бушуева пожалели, зачем же карателей-то было звать? – искренне изумился Маркел.
– И опять же за тем самым, чтобы кровопролитие отвратить. Надо же было как-то спасти и Митьку, и Савенюка со товарищи его... Уразумел теперь, сын мой?
Маркел растерянно поглядел на попа. Подумал: не такой он и простак, отец Григорий, хоть и глаза у него по-бараньи кротки и наивны.
– Тебе Савенюк враг, а мне он – человек божий, живая душа, – тихо продолжал поп. – Я политики вашей не касаюсь, а лишь долгом своим чту в наше черное время, похожее на долгую Варфоломееву ночь, по силе-возможности спасти больше человеческих душ, гибнущих бессмысленно, ако неразумные тараканы... Ведь кончится когда-то эта страшная ночь, и воздастся мне тогда за праведные деяния мои...
– Значит, вы не признаете ни правых, ни виновных... Выходит, о себе больше печетесь, батюшка! – вырвалось у Маркела, и он выругался про себя: черт дернул за язык. Отец Григорий спас ему жизнь, а он, вместо благодарности, всю дорогу перечит попу, дерзит... Вот уж непокорная натура: что на уме, то и на языке. А пора бы действительно ума-то набираться, посдержаннее быть – не дите малое...
Но батюшка вроде бы не рассердился.
– И о себе пекусь, – смиренно согласился он, – и дело свое считаю превыше прочих всех... А кто прав, кто виноват в теперешних кровопролитиях – богу одному ведомо. Они ведь, большевики твои, тоже не святые апостолы. И хлебушко у мужиков отымали, и храмы господни оскверняли. А Христос учит нас: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благоволите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо, если вы будете любить только любящих вас, какая вам награда?» Так-то вот, сын мой! Время на чистую воду выведет грешных и праведных, правых и виноватых, а сейчас – есть ли более достойное дело, чем спасать заблудшие души христианские...
Отец Григорий говорил вдохновенно, певуче, с длинным оканьем, и от этого сами слова казались круглыми, какими-то уютными, успокаивающими боль, отодвигающими в далекую даль жестокую реальность... И пришло сознание, что в чем-то он прав, отец Григорий, и не только из личной корысти претерпел за него, Маркела, грубые унижения и оскорбления Савенюка... Да только ли за него?
Смеркалось, когда они подъезжали к деревне. Впереди показались размытые туманом желтые огоньки окон. Хорошо запахло березовым дымом, донесся сварливый собачий брех.
– Давай-ка сенцом тебя притрушу, – сказал отец Григорий. – От злого глаза подальше... Уйти тебе надобно на время из деревни. Вот хотя бы на заимку к лесничему деду Васильку. Чудно-ой человек, не от мира сего, – божья непорочная душа, ако у младенца. Зверью да птице поклоняется, на пень молится... Лесной человек...
И Маркелу сквозь тягучую дремоту представился загадочный дед Василек этаким старичком-лесовичком из детских сказок: маленький, юркий, клок зеленого мха вместо бороды, а на голове – красная, в белых пятнышках, шляпка мухомора...
* * *
И вот он шел теперь на Василькову заимку, да слаб еще был, сил не хватило – заночевал на таежной тропе, у костра. В полудреме-полубреду провел эту ночь, и только ближе к рассвету успокоился, сидя, прикорнул у огня. Проснулся от неясного гула, вскочил на ноги.
Огромный коряжистый пень, под которым был разложен костер, гудел и ухал, как неведомое чудовище, выплевывая из разверзнутого зева огненные снопы искр.
У пня напрочь выгорело трухлявое нутро, образовалась тяга, как в печной трубе, и потому он ожил: застонал, завыл диким зверем на разные голоса...
Маркел огляделся по сторонам. Темно еще было. Огромная ночь стояла над тайгой – беспросветная, гибельная... Ни единой звездочки в небе, ни единого признака жизни на земле... Он закрыл лицо ладонями, упал на кучу хвойных веток, забылся...
ГЛАВА III
Дед Василек

Снился Маркелу сон. Тревожный. Он и во сне убегал от кого-то, а ноги плохо слушались, словно одеревенели, и сердце леденело от страха... Несколько раз пытался взлететь – и не смог. А жара палит – дышать нечем. Вдалеке увидел мать. Она собирала клюкву на болоте. Рясная клюква, как нарочно кто насыпал.
– Мама, ты чего так рано берешь ягоду, еще ведь и заморозков не было? – спросил Маркел.
– Самое время, – засмеялась мать. – Сейчас клюква в цене. Купцы из Каинска понаехали – дорого дают... Насобираю вот – рубашку тебе справлю. Красную...
И вдруг она провалилась по пояс, замахала руками, как подбитая птица крыльями. Маркел кинулся на помощь – и сам ухнул в трясину. Почувствовал, как холодная няша жадно схватила тело, тянула, засасывала все глубже... И тут из чахлого кустарника выскочил тот, кто за ним гнался. Черное чудовище, из пасти которого летели искры. Оно приближалось и стало обыкновенным волком. Маркел почувствовал на груди цепкие лапы зверя.
И проснулся. Открыл глаза. Было уже светло. Волк не исчез. Лобастая голова его нависла над самым лицом. Сон перешел в быль, и Маркел не испугался, даже не вскрикнул. Наверное, всему бывает предел, даже страху, к которому можно привыкнуть, если он преследует постоянно. Они напряженно смотрели в глаза друг другу – зверь и человек. Волк не отвел своих желтых глаз: когда он чувствует силу, то выдерживает взгляд человека. Одна только мысль шевельнулась в отупевшей, измученной голове Маркела: скорее бы все кончилось...
– Ну, чего же ты ждешь? Вот моя глотка, – шепотом сказал Маркел.
У волка верхняя губа поползла кверху, обнажая огромные желтые клыки. И это было похоже на страшную улыбку.
– Серый, назад! – крикнул кто-то звонким голосом.
Зверь нехотя попятился, поджимая хвост. Из кустов вышел маленький старичок с ружьем на плече, скорым шагом стал приближаться. Маркел сел, безразлично, тупо смотрел на идущего к нему человека. Протер кулаками глаза: не сон ли это продолжается?
Старик подошел, оглядел Маркела, строго спросил:
– Чей будешь, куда путь держишь?
– Рухтин я, из Шипицина, – вяло отозвался Маркел, – иду на Василькову заимку...
– Это какой Рухтин? Ивашкин сынок, што ли?
– Ага.
– Понятно. Сказывают, бросил вас тятька-то?
– Мы его бросили. Выперли из дому...
Старичок неожиданно захохотал детским заливистым смехом:
– Так его, пьянчужку подзаборного!.. Достукался, мерин косоглазый!..
Маркел сидел недвижно, свесив на грудь белокурую голову.
– Э-э, погоди... – старик перестал смеяться, – да на тебе, парень, лица нет... Что с тобой случилось-то? Кобеля моего перепугался?
– Ничего не случилось. Жить невмоготу...
– Ого! – старичок даже подпрыгнул на месте. – Это в твои-то годы?! И когда она успела так наскучить тебе, жизня-то? Ну-ка давай, поднимайся, елки-моталки! Пойдем ко мне. Я и есть дед Василек, к кому ты путь держишь...
По дороге дед Василек говорил без умолку:
– Утром проснулся это я, вышел во двор, чую – дымком откуда-то наносит. Здесь ведь воздух такой – за десять верст запах дыма доходит. Да... Думаю, не лес ли горит? За ружье – и подался...
Серый бежал в сторонке, недоверчиво скалясь на пришельца, когда Маркел глядел в его сторону.
Дед Василек шустро семенил рядом, и было такое впечатление, что ему не терпится припустить вперед – от избытка живости и веселья...
* * *
Три дня Маркел провалялся в постели. Бредил, нес несуразицу, порывался вскочить и бежать куда-то. Дед Василек ни на шаг не отходил от него. Суетился, кипятил какие-то травы, поил Маркела горьким отваром.
Потом стало легче, кошмары отступили. В избе было уютно, пахло смольем и пряными травами, которые засохшими пучками были развешены по стенам. Эти стены, рубленные в лапу из толстых лиственничных бревен, потемнели от времени и лоснились, словно покрытые лаком. Ничего лишнего не было в избе старика: дощатый, выскобленный до желтизны, стол, грубо сколоченные табуретки, нары, заваленные сеном и прикрытые медвежьей шкурой. В красном углу – ветхая темная икона, под ней – полочка с книгами. Книги удивили Маркела, они казались чужеродными в этом суровом жилище лесного человека.
Но больше всего поражал его сам хозяин. Признаться, за все время Маркел так и не сумел как следует разглядеть деда Василька: неутомимый старик мелькал, как привидение, – и минуты не мог усидеть на месте.
Как-то вечером явился из тайги довольный – лицо сияет, как пасхальное яичко. Закричал с порога:
– Попался, сук-кин сын, мошенник! Хотел вокруг пальца обвести деда Василька?! Не тут-то было! Я тебя, елки-моталки, научу жить по-людски! Я тебя самого загоню под землю, лихоманка тебя задери!..
Маркел, лежавший на нарах, недоуменно глядел на старика, до подбородка натягивая шубу.
– Да не бойся, не на тебя я, – спохватился дед, – пакостника тут одного выследил... Третий год изловить не могу, а тут на верный след вроде напал. Микешка Сопотов, кому же еще быть. Давно-о грабит тайгу, подлец. Ловушки на зверя ставит, глухаря и тетерева силками промышляет. Охотник тоже, едрена мать... Теперь вот и совсем обнаглел: роет по тайге глубоченные ямы, сверху хворостом прикрывает. В ямины-то эти то косуля попадет, а то и сам сохатый завалится... Дак ить зачем же ты так делаешь-то, окаянная твоя душа! Ить в ямину-то зверь врюхается, а ты чуток недоглядел – и протухло мясо. Губишь-то во много боле, чем себе берешь. Вот ить жадность обуяла человеком – готов всю лесную живность подчистую свести!.. Приметил я эти ямы-то: теперяча не уйдет, накрою...
Дед Василек клокотал веселым гневом. Присел на табурет около нар, сорвал с головы шапку и швырнул в дальний угол. Худощавое лицо, скудная рыжая бороденка. Синие и по-детски чистые, как весеннее небушко, глаза. Над матовой лысиной топорщатся седые волоски. Лучи заходящего солнца ударили в окно, и волосы засветились – ни дать ни взять лик святого в нимбе.
Уютный старичок, домашний. И сердиться-то не умеет: даже в гневе веселость какая-то...
А еще удивился Маркел: каким похожим оказался дед Василек на того, какого создал он в своем воображении, когда ехал на телеге с отцом Григорием и тот рассказал ему про этого лесного жителя. Истинный старичок-лесовичок! «Все-таки имя накладывает отпечаток на человека, – подумал Маркел, – а, может быть, наоборот – человек делает свое имя... Дед Василек... Да иначе и назвать-то нельзя этого шустрого старичка!.. Одно только имя услышал, – и вот он весь человек, как на ладони, с характером и внешностью»...
– Дак пойдем завтра вора имать? – прервал его размышления дед Василек. – Очухался маленько или слаб еще?
– Я, конечно... Я с радостью, – заторопился Маркел. И спросил с присущей ему прямотой: – А зачем его ловить-то? Кому это нужно-то сейчас: косули, сохатые, глухари?..
– Как это – зачем? Как это – кому? Ты очумел, што ли, елки-моталки?
– Вот и я спрашиваю: зачем? Все кругом вверх тормашками перевернулось, все прахом пошло... Временное сибирское правительство земли и поместья бывшим хозяевам возвращает, то и гляди снова царя на престол посадят, и он эти леса опять своему Кабинету оттяпает. А ты птичек-зверушек жалеешь... Снявши голову – по волосам не плачут...
– Во-он ты какой умник, – протянул дед Василек. – Ну-ну... Да я плевать хотел на твоих царей и протчих правителей! Што же мы после себя оставим народу-то своему, если в этой суматохе под шумок начнем под корень выводить леса и всякую живность?! Думал ты об ентом, садовая голова? Царский Кабине-ет оттяпает... Да я, почитай, полвека верой и правдой прослужил, – и не Кабинету, а лесу. Каждую пичужку, каждую сосенку пуще глаза своего берег, а теперь, по-твоему, все на слом? Пущай варнаки всякие бьют, сжигают, калечат? Не-ет! Пока жив дед Василек – не бывать в тайге разору!..
* * *
В тихий сумеречный час на огромной лесной поляне столкнулись в жестокой схватке Осень и Зима. Осень теплилась неяркой, ржаного цвета, зарею, а Зима сверкала холодными звездами на ясном, льдисто-спокойном небе. Осень сопротивлялась: весело звенела ручьем в овраге, вспыхивала искорками алого клевера в пожухлой траве, тихо шелестела поздними цветами – колокольчиками. Но дохнуло холодом небо – и опудрилась, стала хрусткой под ногою местами еще зеленая трава, а тальниковые кусты расцвели хрустальными иголками инея. Покрылись льдистой пленкою, замерзли колокольчики. И когда прошел по поляне осторожный ветер, они тоненько отозвались ему. Оказывается, не зря зовутся колокольчиками – один раз в году звенят они своими голубыми венчиками!
Снежным комочком выкатился из леса заяц. Замер на месте, постриг ушами и, хлебнув студеного воздуха, громко чихнул: снежинка в ноздри попала...
* * *
Маркел и дед Василек вышли из дома на утренней заре. Чуткая тишина затопила тайгу. Сторожко затаились в низинах елочки, беззвучными зелеными взрывами вздымались в сумерках могучие кедры.
Тянуло спиртным настоем вянущих листьев. От этого у Маркела слегка кружилась голова, но чувствовал он, как бодрость вливается в тело, – радость какая-то беспричинная: всегда так бывает после болезни.
– Счас мы возле ям засаду устроим – придет, варнак, никуда не денется, – бубнил старик хрипловатым со сна голосом.
– Ну, поймаем, и куда мы его? – снова не выдержал Маркел.
– Как это куды? Знамо – властям сдадим.
– Да где они, власти-то? Их, поди, теперь днем с огнем не сыщешь...
– Ты опять за свое... – дед Василек начинал сердиться. – Раз властей нету – значить, гори все синим огнем? Да пойми ты, дурья башка, што мы, таежники, испокон веков от леса живем. Хлебушка у нас много не посеешь – вся надея на тайгу... И мясо отсель, и грибы, и ягода. Орехи кедровые – где ишшо в мире они произрастают? За границу на золото их меняют, равно как и пушнину всякую... Вот березу, к примеру, возьми – што ты знаешь об ентом дереве?
Маркелу не хотелось в такое хорошее утро сердить старика, и он ответил уклончиво, шуткой:
– Жвачку из бересты варят...
– Так! – серьезно подтвердил Василек. – От этой жвачки зубы у человека до ста лет держатся. А ишшо?
– Ну... красивая она, береза, нежная, во многих песнях про нее поется.
– А почему про осину не поется? Тожеть красивая стерва, – по осени костром горит. Не знаешь – почему? А потому, што пользы от осины мало. Никудышнее дерево – кто же про такое петь будет? А береза – смотри, – дед начал загибать пальцы: – первое – дрова. Возьми ту же осину или сосну. Бросишь в печь полено оно – пшик, и прогорело. Ни жару, ни пару. А береза горит долго, жар дает ядреный... В таком жару хлебы пекутся духмяные да румяные... Второе – избу срубить. Березовое бревно ошкурь да выдержи трошки – как мореный топляк будет. Топор не берет – искры летят. А ты не-ежная. За одну нежность да красоту любить не станут... Опять же – туесок берестяной сделать, веник наломать в баньке попариться – все береза. А сок березовый для человека, а почка березовая для всякой птицы лесной... – у деда Василька не хватило на руке пальцев, он высморкался, весело поглядел на Маркела: – Уразумел теперь? А раньше такое ишшо говаривали старики: случился с человеком недуг какой – положи его под березу, когда лист только начинает проклевываться. Она духом своим лечит лучше всяких врачей...
– Ну, уж это... – Маркел засмеялся. – Сказки сказываешь, дед.
– Сказки? Дак ты не веришь, што и тебя я не пилюлями, а травами на ноги поставил? Больно грамотные стали, куда с добром. Оттого и колготня меж людьми пошла – готовы глотку друг другу вырвать. А надо бы у ей, у матушки-природы, уму-разуму учиться, коли своего не хватает. Возьми зверя любого: будь он больной или смертельно раненный, а все одно будет ползать, искать нужную травку или ягодку, пока не найдет. И ведь знает точно, от какой болезни какую травку ему нужно пожевать... Тожеть, небось думаешь, сказки сказываю?..
Тропа кончилась, они лезли теперь напрямик, через бурелом и чащобу. Маркел быстро упарился, попросил деда остановиться. Опустился на огромный поваленный кедр. Трухлявый ствол с треском просел, как диван с испорченными пружинами. Запахло грибной гнилью.
Солнце уже поднялось, но тихо было в тайге. Птицы частью улетели на юг, а тем, что остались, было не до песен: спешно готовились к долгой и суровой зиме. Вон вертихвостка синица, странно притихшая, озабоченная, порхает по веткам – отыскивает личинок, собирает семена сосен и елей, маскирует все это под шубами белесых лишайников, что заплатами налипли на старые древесные стволы. Куцый поползень в купеческой жилетке черного бархата таскает в дупла и прячет за отставшую кору на стволах орехи и семена кленов. День-деньской шустро снует вниз головою по сучьям, и даже задиристые синицы при встрече уступают ему дорогу – ничего не поделаешь, ловкач, акробат, а в лесу к мастерам своего дела относятся с уважением.
Дед Василек присел рядом с Маркелом на кедровый ствол, снял шапку. Из нее валил пар, как из рыбацкого котелка. Он закурил трубку, сладкий дымок приятно щекотал ноздри, синими пластами путался в сучьях.
– Жи-ись, елки-моталки!
И действительно: хорошо было вокруг. Тихо и ясно. Но не пустынно, нет. Если внимательнее приглядеться – всюду кипела жизнь, торопилось жить все живое.
Бурундук пискнул рядом, столбиком застыл в пяти шагах от неведомых пришельцев. Шибко уж любопытный! Щеки смешно раздуты, отчего голова кажется непомерно большой.
– Орешек кедровых насобирал? – спросил дед Василек.
Бурундук стреканул на сосну, замелькал меж ветвей арестантским халатиком.
– Давай, давай, да получше прячь! – напутствовал старик. – А то ить медведь кладовую твою разыщет – пшик один останется, с голодухи зимой пропадешь. Он ить, косолапый, сам-то шибко ленив собирать, готовенькое ищет.
Вдруг в кустах послышался треск, Маркел вскочил, дед Василек схватился за ружье. Из чащи выскочил Серый с обрывком веревки на шее. Красный язык вывалился на четверть, бока ходят ходуном. Старик специально оставлял его дома, чтобы не мешал, прежде времени не спугнул браконьера.
– Во, нечистая сила! – ругнулся он. – Чего тебя лихоманка принесла? Может, изба загорелась?
Пес припал к земле и завилял хвостом.
– Может, чужой кто к нам пожаловал?
Серый, виновато моргая, пополз на брюхе к ногам хозяина.
– Понятно, – сказал Василек. – Дома все в порядке. Просто затосковал псина, думал, на охоту мы отправились, – вот и оборвался...
Они долго шли по тайге. Серый вьюном вился вокруг, носился за разными птахами, облаивал бурундуков – радовался, что остался безнаказанным. Не знал, куда истратить молодую силу.