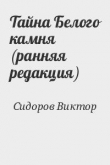Текст книги "Сказание о Майке Парусе"
Автор книги: Петр Дедов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
ГЛАВА X
Жибаринский бой

Душная июльская ночь. Кажется, сам воздух пропитан нудным зудом мошкары. Темнота такая, что за два шага не видно ни зги.
Темень рождает тихий шепот, невнятное бормотание: это шумит в отдалении, позванивает на перекатах неутомимая таежная речка Тартас. Но шум реки и комариный звон только подчеркивают тишину, затопившую все огромное пространство земли и черного неба.
Спит село Минино. Тихо, темно. Но появись за околицей в этот неурочный час, как сразу, словно из-под земли, вырастут неясные фигуры часовых, и окликнут хриплые голоса:
– Кто идет?
– Каво тут черти носят?
– Пароль?
И снова темень, тяжелая предрассветная дрема.
В глубокой придорожной канаве затаились трое. Молодой парень сидит прямо на земле, по-казахски, калачиком подвернув под себя ноги. Его неодолимо клонит в сон, он то и дело роняет голову и громко всхрапывает.
Дед Сила толкает его в бок, тихо ругается. Парень сладко, до хруста в костях потягивается, чмокает толстыми губами... и снова засыпает.
– Заверни цигарку, покури в рукав, сон – как рукой сымет, – советует старик.
– Ня-а курю, – зевает парень.
– Чо ты с ним цацкаешься? Дай по уху – сразу вся дурь пройдет, – советует третий, большой лохматый мужик. – Тоже мне, вояка. Оставь одного, из портков сонного вытряхнут – не услышит.
– Ага, хлипкий пошел молодняк, – соглашается дед Сила. – Я в ево-то годы с турками на Шипке сражался, во жарко было! Сам генерал Скобелев мне за храбрость вот ету орудию приподнес... Шомполку, то есть...
– Трепач, – презрительно сплевывает мужик, – как таких земля держит? Ну, и попал я в компанию...
– С волками жить – по-волчьи выть, – смиренно откликается старик.
– Дак завоешь, – раздраженно шипит мужик. – От самой Кыштовки без роздыху прем, аж пятки к спине прилипают... Хотели с берданами да вилами супроть пулеметов устоять, хах!
– Не в орудиях дело. Оне со своими орудиями пришли, да опять уйдут, а мы-то тутока останемся. Вот и суди теперяча, чей верх будет.
– Останешься... Перекокошат, как стадо баранье...
– Не, паря, такого не случится. Землица – она человеком жива. Хоть один останется – все одно наш верх будет...
– И куда бегим? – подает голос парень. – Самое ба время силенками помериться.
– А это не твово ума дело, – живо откликается дед Сила. – На то командиры есть.
– А мне зачем голова дадена? Заместо мишени? Я, чай, добровольцем пришел, сам себе хозяин, то есть. И так кумекаю: воевать надо, а не драпать...
Рядом, в соседней канаве, клацнул затвор винтовки, раздался сдержанный голос:
– Кого тут леший носит?
– Пароль?..
И снова темень, тишина, глухой шум реки.
Только в крайней избе села желтеет огонек керосиновой лампы. Здесь – дым коромыслом, над разостланной на полу самодельной картой склонились косматые головы. Вокруг карты ползают на четвереньках, стукаются лбами, горячатся.
Только что разведка принесла тревожную весть: каратели заняли деревни Забоевку, Куликовку, Никольскую, двумя обходными колоннами движутся на Минино, где находится сейчас партизанский штаб.
Да, нагнали шороху Колчаку. Партизанский край стал для него «вторым фронтом», не менее серьезным, чем первый, то есть наступление частей Красной Армии с запада.
Недаром же обратилась недавно с «воззванием» к восставшим белогвардейская газета «Барабинская степь», и в этом «воззвании» слышалась не угроза, а, скорее, мольба: «Если бы вы, шабурники, жили спокойно, не слушались большевиков, то победа была бы за нами... Ведь на вас брошено три батальона отборных солдат-егерей и лучшие батальоны легионеров, а эти войска нужны там, на фронте!»
Вот как! Не от хорошей жизни, конечно, такая откровенность, высказанная с расчетом на сочувствие. Но у партизан более точные сведения о противнике. Известно им, что неделю назад из уездного города Каинска выступил отряд польских легионеров численностью до пятисот человек, вооруженных станковыми пулеметами, бомбометами и артиллерийскими орудиями. К ним присоединились каратели поручиков Храпова и Телегина, разрозненные кулацкие дружины, много раз битые белые милиционеры. Да триста действительно отборных солдат-егерей, да сотни четыре кадровых солдат из так называемых отрядов особого назначения.
Вот какие силы двигались на партизан, чтобы раз и навсегда покончить с «шабурниками», очистить и укрепить тыл, без чего, по справедливому мнению Колчака, была немыслима борьба против наступающих с запада частей Красной Армии.
Пока что партизаны избегали прямых столкновений, отходили все дальше в тайгу, накапливали силы. И вот село Минино, темная ночь, большая изба на краю села, желтый свет керосиновой лампы и с десяток мужиков (весь командный состав чубыкинского отряда), ползающих вокруг большой самодельной карты.
Иван Савватеевич, заложив руки за спину, ходит вокруг спорящих, молчит. Его будто никто и не замечает, но он слушает внимательно, ловит каждое слово. Перед ним распрямляется крохотный мужичок с побитым оспой, птичьим личиком, по которому трудно определить возраст. Про таких говорят: маленькая собачка – до старости щенок. Мужичок этот – командир одной из групп в чубыкинском отряде, говорит неожиданно гулким, утробным басом, и даже по голосу можно догадаться, что подчиненных своих он держит в ежовых рукавицах.
– Может, зряшная это затея, Иван Савватеевич? – спрашивает он. – С этим боем-то? Наломают колчаки нам хребтину – и более ничего. А я дак так кумекаю: уходить надо в урман, сохранить силы, посидеть трошки, а в подходящий момент и вдарить, да так, штоба пух от их полетел!..
На полу перестают спорить, задрав головы, выжидательно смотрят на командира.
– Кто ишшо так думает? – спрашивает Чубыкин.
Двое поддерживают рябого мужичка.
– А Золоторенко што скажет?
Фома тычет в карту кургузым пальцем, горячится:
– Надо оборонять Минино, бачьте, яка удобна позиция!
– Для тебя одного и удобная, – спокойно возражает Кузьма Сыромятников, – потому что семья твоя здесь...
– Да ты шо, сказывся?! – взвивается Фома. – Жалкую, не подсказал тады хлопцам, каких разведке обучал, шоб вони в Тартас тебя кинули! Мешок пожалел.
– Будет вам! – обрывает Чубыкин. – Говори дело, комиссар,
– Мое слово такое, – Кузьма вытянулся, всех оглядел строгим взглядом, оправил под ремнем гимнастерку, – надо выступать навстречу карателям, и немедленно. И биться до последнего патрона. Да! Бойцы Красной Армии идут напролом, несут огромные потери, не считаются ни с чем, чтобы вызволить нас из колчаковского рабства, а мы при первом же серьезном столкновении с противником смазали пятки и драпаем, петляем по кустам, как зайцы...
– Ото ж гарный та лихой у нас комиссар! – Золоторенко прижал к груди огромные кулачищи. – Люблю таких... до изнемождения.
– И долго ты продержишься, ежели попрешь к черту на рога? – пробасил рябой мужичок. – За пару часов от отряда одне воспоминания останутся... Уходить надо, спасать людей, оне ишшо нам сгодятся опосля.
– А где Майк Парус? – спросил Чубыкин. – Ага, тутока. Говори!
Маркел поднялся с пола, подумал. Сказал тихо, но решительно:
– Уходить, товарищи, нельзя. Надо бой давать. Чья будет победа – еще посмотрим, но дело даже не в этом. Мужики понять должны, что защитить себя они могут только сами, и боле никто другой. И не только теперь, а на будущее это понять: хочешь свободы – добывай ее с оружием в руках, а не то – подыхай рабом...
– Красно говоришь, – скривился все тот же мужичок с ноготок. – А я вот, к примеру, пожить ишшо желаю, поглядеть, кака она жизня дальше почнется... Уходить надо, переждать.
– Это так, – Иван Савватеевич терзает в кулаке рыжую бороду. – Это верно, уходить надо, – с дробовиками да пиками супроть пушек не попрешь, не перешибешь плетью обуха... Да тока и потачку колчакам давать нельзя, слабость свою выказывать. А то ить они полными хозяевами тайги себя возомнят, тада беда будет... Я вот и кумекаю: отойти ба нам к речке Жибаре, там и учинить для медведей ловушку, ага...
Все снова валятся на пол, лохматые головы нависают над картой.
– Дак а што там увидишь? – гудит Чубыкин. – Не шибко-то я верю этим бумагам. Без их знаю то место не хуже собственной избы. Там один переход через речку – деревянный мост. Каратели его никак не минуют. Слева – Тартас, а справа – болота такие, што сам черт шею сломат...
– Во це голова! – восхищается Золоторенко. – Не голова, а генеральный штаб! Та як же мне-то не стукнуло? Ще в детстве, помню, по клюкву туды ходыли...
– Как, мужики? – перебивает Иван Савватеевич.
Все согласились с командиром, даже настырный рябой мужичок гукнул в кулак что-то одобрительное. Уже на рассвете закончили обсуждать план боевых действий, продуманный до мелочей.
* * *
Не велика речка Жибара. Кто впервые увидит – непременно скажет: старому воробью по колено. Вытекает она из Сухановского болота и всего с десяток верст, петляя, несет свои темные, настоянные на болотной гнили, воды к таежной реке Тартас. У истока так совсем крохотный ручеек, который то проблескивает среди непролазных зарослей камыша и осоки, то вдруг исчезает под зыбучей лабзою, чтобы через десяток саженей снова выглянуть на свет божий.
И только ближе к устью, подпертая мельничной плотиною, Жибара выравнивается, становится глубже и шире. Однако и тут ее легко можно перейти вброд не только конному, но и пешему.
Да, речка невзрачная, что и говорить, но со своей особинкой, может, единственная такая на весь урман: неприступная ни для зверя крупного, ни для человека. Правый берег ее так заболочен, что подойти к воде невозможно опять же ни конному, ни пешему.
Только у плотины, рядом со старой мельницей, наведен деревянный мост, и к нему проложена гать из огромных полусгнивших бревен.
Тут единственное место, где можно с левого берега переправиться на правый, перейти по гати широкую полосу болота, а там уже, чувствуя под ногами земную твердь, подняться на голый от леса угор, на котором желтеет, ходит белесыми тяжелыми волнами высокая вызревающая рожь.
К Жибаре партизаны пришли среди ночи. Остановились на левом берегу, у мельницы. Чубыкин велел костров не разводить, не шуметь, а копать окопы в густых прибрежных зарослях тальника и черемушника в полной скрытности и тишине.
Мужики работали при тусклом свете луны, которая серебристой ладьею качалась над темной тайгой, отражалась в тихой речной воде. Кряхтели и шепотом матерились, вгрызаясь в неподатливую, прошитую крепкими кореньями землю; мошкара липла к потным спинам, но люди терпели: Чубыкину шибко-то перечить не станешь, приказ есть приказ, а велено до рассвета, как кротам, уйти всем в землю, чтобы и коршун с высоты не заметил, что ночью тут были, копошились живые люди...
А на мельнице, при тусклом огарке свечи, над разостланной на полу самодельной картою, снова маячили косматые головы.
Командиры боевых групп, «штабисты», чихая от мучной пыли, горячились, переругивались. Давно ли некоторые из них пахали землю, корчевали лес, охотились, – и духом не ведали, что придется командовать людьми, что от их сметливости и ума зависят сейчас жизни этих людей, а может, и большее – судьба всего народа, вставшего на защиту собственной, родной им власти.
И потому так преобразились «командиры» и были неколебимы в своих суждениях и беспощадны друг к другу.
И только Иван Савватеевич, как всегда, был спокоен, тяжелым шагом ходил вокруг спорщиков, иногда подавал голос, и этот гулкий, как из бочки, голос сразу всех настораживал, пресекал споры, разрешал недоразумения.
Самый сильный и лучше других вооруженный отряд под командованием Фомы Золоторенко решено было оставить на левом берегу, расположить в окопах на боевой позиции, что тянулась от мельничной плотины до устья Жибары, – вплоть до крутой излучины Тартаса. Еще две группы партизан выдвигались вперед. Они по мосту переходили на правый берег и надежно укрывались по обе стороны дороги, ведущей к мосту через гать. Прятаться им придется прямо в болоте, среди высоких кочек и чахлых кустарников, зато неприятелю и в голову не придет ждать угрозы со стороны гиблых, непроходимых топей.
Основной удар принимал на себя отряд Золоторенко. А когда начнется бой, выдвинутые вперед группы должны сомкнуться в тылу врага и отрезать ему путь к отступлению.
Главные же силы партизан, главные не столько по боеспособности и вооружению, сколько по количеству, а также обозы и штаб расположились южнее, прикрывали подход к Жибаре с тыла, со стороны села Урез, откуда, по донесениям разведки, двигались крупные силы чехов и белополяков. Командование этой группой прикрытия взял на себя Чубыкин. Вся ответственность за судьбу отряда ложилась на его плечи: в случае поражения он должен был увести людей в тайгу, сохранить их от полного разгрома и уничтожения, – и тех, что будут с ним в группе прикрытия, и этих, на Жибаре, которые смогут отступить к нему, снова слиться в один отряд...
* * *
К рассвету отряд Золоторенко полностью окопался на своих позициях, а две группы перешли за реку, укрылись в болоте по обеим сторонам дороги.
Первую группу возглавлял неопределенного возраста мужичок, тот самый, что возражал против этой боевой операции, звал в тайгу; второй командовал Кузьма Сыромятников. За недостатком командиров комиссару, бывшему фронтовику, имеющему боевой опыт, нередко приходилось руководить в боях группами и отрядами. А поскольку связной при штабе пока не требовался, Майк Парус был назначен к Сыромятникову в помощники. При нужде Золоторенко всегда мог отправить его на связь с чубыкинским отрядом.
Они лежали рядом, на широкой кочке, застланной охапками камыша. Тихонько разговаривали, курили осторожно, в рукав.
Операция была рассчитана на внезапность. Завтра к мосту должны подойти каратели. И если партизанская засада не будет обнаружена, противник без опаски пойдет строевыми колоннами, не готовыми к внезапному бою. Этого только и надо...
А пока – строжайшая осторожность. Не исключено, что где-нибудь рядом рыскают вражеские разведчики. Партизаны давно заставили колчаков уважать себя, сбили с них прежний гонор, научили бдительности...
Медлителен, тягуч таежный рассвет, томительно тянутся минуты напряженного ожидания. И тишина какая-то вязкая, глухая, словно с головою погрузился в липкую болотную няшу.
И невольно вздрогнешь, когда гукнет вдруг где-то странная, потаенная птица выпь, прозванная в здешних местах болотным быком, – загукает на всю округу, будто неведомый кто-то растягивает гармонь на одной басовитой ноте, а в ответ диким, пронзительным хохотом по-лешачьи отзовется еще какая-то птица...
– Развопились, черти-дьяволы, – зябко поеживаясь, говорит Маркел, – прямо аж мороз по коже...
– У каждого своя песня, – отзывается Сыромятников. – Может, поют они самое нежное – про любовь.
– Про любовь... – Маркел помолчал. Спросил охрипшим вдруг голосом: – А ты знаешь, Кузьма, какая она будет, любовь? В будущем?
– Так, наверное, как всегда... В основе продолжения рода...
– Да я не об этом... Звери и птицы тоже продолжают свой род, даже рыбы... А мы – люди ведь. И думается мне, что когда коммунизм настанет и все будут жить в мире и дружбе, одной семьей, то главное на земле и будет – любовь. Что, разве не так? Бога отвергли, а человек поклоняться чему-то должен... Вот и будет молиться любви, она ведь – повыше бога, сам говоришь, – в основе продолжения рода и всего сущего на земле... Только ее святой лик от грязи надо очистить, что напласталась веками... как на икону древнюю, почернелую и мухами загаженную.
– Мудрено говоришь, – перебил Кузьма, – у тебя коммунизм раем небесным получается, где ангелы да серафимы там разные на прозрачных крылышках порхать будут, голубиную любовь разводить... А ведь будущее – это все мы, ты, да я, да вон Макар Русаков – земные, грешные люди. И какими будем сами мы, таким наше будущее будет... Вот ты, к примеру, готов сейчас, прямо из этого болота, в коммунизм шагнуть?
– Я-то? – Маркел подумал. – Я-то нет, не готов. Пораньше бы маленько. А сейчас злобы во мне много накопилось, вот этими руками могу человека, врага своего, задавить. А в коммунизме такие ни к чему, врагов там не будет... Вот деда Василька – того сразу можно бы в коммунизм пустить, такой он был – человек из будущего, хоть и грамотешкой слаб, ни Маркса, ни Ленина не читывал.
– А мне, наоборот, сейчас ты больше нравишься, вот такой, чем тогда, когда впервой тебя там, в Омске, увидел, – слюнтяя с коровьими ресницами.
– Вот и объяснились в любви, – усмехнулся Маркел. – А приходилось тебе, Кузьма, видеть такое? По осени березы еще в листве, и вдруг – снег, липкий, тяжелый. Молодые дерева под тяжестью в дугу гнутся, аж макушками до земли притуляются. Многие ломаются, а другие зацепятся вершинами за коряжину какую, да так и растут горбатые, в поклоне вечном. Но есть березы особой силы. Сколь ни гнется такая – не сломится и вдруг да рванется вверх, как конь норовистый, распрямится, скинет снег – и в небо готова улететь... Таким вот я чувствую себя теперь, не пойми только, что хвастаю.
– Во-во! – обрадовался Кузьма. – Такие и нужны коммунизму: битые-кореженые, да совесть не потерявшие. Но далеко еще до тех времен, не дожить нам с тобой, наверное. Народишко-то у нас... Веками твердили: своя рубашка ближе к телу, моя хата с краю... Возьми кулака или купца того же... А что делать с такими, как Спирька Курдюков? При всякой власти и при любом обществе могут такие нарождаться – со звериной кровью в жилах...
– Вот кончится война, если останемся живы-здоровы, куда ты?
– Ох, не скоро она, проклятая, кончится, Маркелка. Много нам еще придется драться – мы ведь первые, волчьими стаями со всех сторон обложены... Не смогу я позабыть про винтовку, покуда эти волки зубами на нас щелкают... А ты?
– Мне бы подучиться немного, – голос Маркела осекся. – Мне бы... книги я люблю больше всего на свете... Сам писал повесть – не закончил. Рассказы писал, стихи... Сейчас-то понимаю – не то... Рассказать бы, как оно все было на самом деле, – про болото это рассказать, о чем мы говорили, о чем думали в эту ночь...
А ночь постепенно уходила, уже сумерки разбавились жидкой синевою, и где-то в последний раз дико захохотала неведомая птица. Люди притихли, насторожились.
На угоре белесым пятном обозначилось ржаное поле. Марево закурилось над болотом. Потом схватился пожаром восточный край неба, первые лучи пронзили лебяжьего пуха облака.
И тогда на угоре замелькали черные силуэты трех всадников. Они словно плыли в золотых волнах ржи, быстро приближаясь. Вот остановились, видимые четко, как на ладони. Конный дозор белогвардейцев. На одном поблескивают золотистые офицерские погоны. Офицер что-то приказал и остался на месте, двое других медленно тронулись вперед, сторожко оглядываясь по сторонам.
Партизаны вжались в податливую болотную лабзу, затаились за кочкарником, закидав себя заранее сверху камышом. Только бы не заметили... А переедут мост – там уже не страшно: там, в густых зарослях тальника, их бесшумно снимут удалые хлопцы Фомы Золоторенко. Офицеру, что остался, будет и невдомек...
Все ближе осторожный цокот копыт по бревенчатому настилу... И в этот миг вдруг рвануло тишину, как взрывом, подбросило людей в воздух.
Маркел вскочил на колени, глянул на дорогу. Один всадник клюнулся носом в гриву коня, завалился набок, завис на стременах. Лошадь взвилась свечкой, шарахнулась вбок, ухнула по уши в трясину. Другой круто развернулся, огрел коня плашмяком сабли. Офицер не стал его ждать, пригнувшись, нырнул в рожь.
Все произошло в одно мгновенье.
– Кто стрелял?! – опомнившись, заорал Кузьма Сыромятников. И только теперь понял, что стреляли не здесь, а в соседней группе, укрывшейся через дорогу.
Там слышались крики, возня, сухо щелкнул пистолетный выстрел. А от моста уже мчался всадник на вороном жеребце, размахивая саблей над головой.
Маркел и Сыромятников тоже кинулись через дорогу. Подскакал Фома Золоторенко, круто осадил жеребца, спрыгнул на землю. Лицо его было белым, глаза полыхали бешенством. Маркел еще не видел его таким.
Фома, молча расталкивая мужиков, отыскал командира – крохотного мужичка с птичьим лицом, – взяв за грудки, оторвал его от земли, хрипло выдохнул:
– Кто стрелял?!
Мужичонка завертелся ужом, выскользнул из цепких рук, схватился за кобуру пистолета. Рявкнул грозным басом:
– Отыди! Застр-релю!
– Кто стрелял?! – повторил Золоторенко и ловко достал саблей по руке, нервно царапающей кобуру.
– Не я... – мужичок поднес к губам раненую руку, впился в нее, казалось, с жадностью, как собака в кость. – Не я, – отплевываясь кровью, повторял он. – Я не виноватый... Дед Сила стрельнул... В дозоре оне с одним парнем были, на отшибе... Надежный старик – не задремлет, не прозевает, я всегда в ночной дозор его ставил... А тут... парень-то ентот сказывал, – ружьем своим расхвастался, это уж болезня у ево такая... Ну, и стал выцеливать шомполкой-то ентих верховых, што с конного дозору, – мол, обоих вместях с конями однем выстрелом разнес ба на куски... Не хуже пушки... Ну, и как-то невзначай...
– Да вы соображаете, шо наробылы?! Да вы... уся наша задумка теперь прахом пийшла! Из-за одного старого дурака, шоб ему ни дна, ни покрышки! А ну, волокить до мене деда Силу!..
– Нет его.
– Як нема?! Убег?..
– Застрелил я его.
– И тебя бы с ним туда же треба!
– Дак стреляй! – мужичонка рванул на груди рубаху. – Стрельни, ежелиф вина моя тутока есть!
– Ладно, курчонок. Не рви одежку. Так мы уси друг друга перебьем... Треба думать, шо дальше робыть... А старика жалко. Дюже гарный был старик...
* * *
– Обстановка такая: треба и хуже, да хуже не бувае. Попали мы, як кур во щи, – Золоторенко расхаживает на длинных ногах возле жалкой кучки командиров своих групп. – Разведка донесла: колчаки движутся з деревни Большие Кулики, часов через шесть будут здесь. Нас три сотни, их – трижды по столько. Об оружии и не заикаюсь: у их пулеметы, три пушки волокуть... Шо будем робыть? Чубыкин ушел далеко, нам не поможить: сам оборону должен держать в нашем тылу... Имали надию на внезапность – не вышло: карты наши теперь раскрыты... Вот и спрашиваю вас: шо будем робыть? Отступать, драпать до батьки Чубыкина?..
– Карты раскрыты, да не биты еще, – подал голос Кузьма Сыромятников.
– Будут биты, – угрюмо прогудел тот самый злосчастный мужичонка, обладатель мощного баса и не менее грозной фамилии: Митрофан Пугачов. – Пропадем ни за грош... Уходить надо... К Чубыкину, а потом – в урман...
– Не каркай ты, курчонок! – сразу взвился Золоторенко. – Жалкую, шо не срубил тебя за деда Силантия, – такого гарного старика загубил!
– Сам же говоришь – «драпать до батьки», – набычился Митрофан.
– А ты и рад за мной повторять, як тот попугай? Свой калган зачем на плечах имеешь? Шапку носить?
– Надо дать бой, – сказал Маркел. – Отступить никогда не поздно.
– Особливо, ежелиф отступать уже некому будет...
Маркел недобро покосился на Пугачова:
– Трусам место в трусятнике, а не здесь. Если так рассуждать – совсем не надо было за оружие браться. Покажем колчакам, что мы и один против троих не сробели, и пушек не испугались, – это пуще снаряда их убьет: поймут, что победы над народом им во веки веков не добиться...
– Добре Парус сказал! Да только коли легко они нас одолеют – проку буде мало от всей твоей политики. – Фома скрестил на груди могучие руки, подумал: – Треба им тоже пид загашник горячих всыпать. Да вот бойцов у нас маловато...
– А если так! – Кузьма Сыромятников решительно шагнул вперед, резкое, будто рубленное из морёного кедра, лицо его покрылось бурыми пятнами. – Если из ближних поселков собрать всех, кто там остался, – стариков, подростков, даже ребятишек, вооружить, чем только можно, и послать вперед, на дорогу. Пусть изображают главные наши силы, а когда навалятся каратели, пускай отступают в панике, бегут через мост. Те кинутся преследовать и попадут в нашу ловушку...
– Ты с кем це придумав?! Ты шо, лук ел или так!.. – лицо Золоторенко перекосилось злобой. – Мабуть, и дивчин, и старух старых пригнать сюда, шоб шкуру твою защищали?! Та их же – и глазом моргнуть не успеешь – усих порубають, як капусту... безоружных-то!..
– Я сам их поведу! А случится – вместе с ними погибну! Без жертв война не бывает! Так я говорю, товарищи? – Кузьма повысил голос, обращаясь к командирам. В голосе его, как всегда в таких случаях, зазвучал металл. Сыромятников наступал на людей настырно и непреклонно, давил их своим голосом, доводами: – Так или не так?! Принять смерть во имя революции – большая честь и заслуга перед народом, да!
– Так дети же... старики старые... Побьют – грех на душу возьмем, – растерялся на мгновение перед бешеным напором комиссара Фома Золоторенко.
– Грех?! А ты чистеньким хочешь остаться, в рай мечтаешь попасть? А то будет не грех, если не сможем удержать здесь, в урманах, кадровые колчаковские войска и они двинутся на идущую к нам на помощь Красную Армию и остановят ее победоносное наступление? То будет не грех?!
– Молчать!! – рявкнул Золоторенко. – Я тут командир!
– А я – комиссар!
Маркел встал между ними, крепко сжимая карабин, ощетинился, готовый на все:
– Перестаньте! Не время власть делить! Будем голосовать. Кто против решения комиссара? – и сам поднял руку.
Но хоть и не большое, а большинство проголосовало за предложение Сыромятникова.
Кузьма вызвался лично, с небольшой группой партизан, ехать по селам собирать «ополчение», и сам решил руководить им во время боя.
– Чуешь, шо не прав, так свой лоб хочешь первым пид пули подставить? – улучив момент, злобно зашипел Золоторенко на ухо Кузьме...
* * *
«Ополченцы» прибыли за полдень. Человек больше ста. Какие пешим ходом, другие приехали на телегах, были и верховые. Большинство – ликующие безусые подростки, вырвавшиеся из-под родительской опеки и изъявившие горячее желание помочь партизанам. И бородатые старики были, немного, правда.
Вооружение такое: несколько охотничьих ружей, больше – вил, кос, топоров, наскоро сделанных деревянных трещоток, даже худые ведра и печные заслонки – для создания шумихи.
Когда это доблестное воинство проходило мимо Фомы Золоторенко, он хмуро кинул:
– Чи не саранчу сгуртовались пугать?
– Зададим колчакам жару, дядя! – радостно отозвался мальчонка в красной рубахе, размахивая над головой дырявой трубой от самовара.
– Давай, давай... Тико портки жовти одеть було треба, шоб греха никто не побачив.
Сыромятников повел их под самый угор, засеянный рожью. С ним было еще пять хороших стрелков из бывших охотников, с боевыми винтовками.
Только мало-мальски окопались – показался отряд пехотинцев, развернутый в боевую цепь. Каратели, пригибаясь, бежали по высокой ржи, на ходу стреляли, не видя пока противника.
В ответ им прозвучал дружный залп, бежавший впереди офицер и несколько солдат ткнулись в землю под меткими выстрелами, а «ополченцы» подняли такой дикий шум, что вражеская цепь дрогнула, залегла.
Резко зататакал пулемет, каратели снова поднялись в атаку, а старики и подростки в панике хлынули к мосту.
Майк Парус, возглавивший теперь группу Сыромятникова, видел из своей засады, как мимо мчались босые ребятишки, неуклюже трусили одышливые старики, как пули карателей настигали их и они падали с разбегу, корчились в предсмертных судорогах.
Мальчонка в красной рубахе бросил самоварную трубу, козленком прыгал и метался, белое лицо его зияло черным провалом кричащего рта; у самой гати нагнал мальчонку рослый детина, поддел на штык и кинул через себя...
«Ополченцы» сгрудились у моста, тут и насели на них каратели.
Многие подростки бросились вплавь (речка Жибара в этом месте была шире и глубже), старики же застряли между бревенчатыми перилами моста, образовали «пробку». Хлопцы Золоторенко ничем не могли им помочь с того берега, группы Рухтина и Пугачова тоже стрелять опасались, и тогда Маркел вскочил в безумном порыве, повел свою горстку партизан врукопашную.
Его примеру последовали пугачовцы, подоспели вовремя – каратели повернулись, защищая тыл, замелькали штыки, охотничьи ножи, рычащие клубки тел покатились по земле...
На Маркела налетел коренастый бородач с дико выпученными глазами, но он извернулся, достал бородача ножом в живот, а сзади навалились еще двое, сбили с ног. Оскаленная, хрипящая морда маячила у самых глаз, в красном тумане, белогвардеец навалился на грудь, судорожно шарил за поясом кинжал – как вдруг (так во сне только бывает!) поднялся в воздух, с поросячьим визгом полетел куда-то в сторону. Мощная рука подняла Маркела на ноги. Он запрокинул голову – перед ним стоял Макар Русаков.
– Держись за мной, Маркелка! – выдохнул он и кинулся в самую гущу карателей, размахивая вывернутым из настила бревном.
– Хоть здесь нянькой мне не будь! – озлился Маркел.
Несколько минут длилась эта схватка, но она решила исход. Старики протолкнулись, очистили мост, и в тыл карателям ударил Золоторенко.
Никто не спасся, даже не было пленных. Весь авангардный отряд белых пехотинцев был уничтожен.
Партизаны разжились боевыми винтовками, патронами, даже гранатами. Только вот пулемет остался на угоре, где-то в истоптанной ржи. А оттуда снова уже доносились выстрелы, там копошились люди, мелькали верховые: колчаковцы готовились к новой атаке.
И снова пошли пехотинцы. Но теперь осторожно, короткими перебежками, густо стреляя и прячась за камыши да кочки.
Партизаны все теперь были на левом берегу, в окопах. Выгодная позиция дала им возможность отбить вторую атаку и третью, но каратели лезли настырно: им во что бы то ни стало надо было перейти Жибару, чтобы двигаться дальше, на Минино и волостное село Шипицино. А путь был один...
К вечеру они прекратили атаки. Фома Золоторенко залез на крышу мельницы, долго стоял с биноклем. Слез хмурый и молчаливый.
– Ну, чего они там задумали? – спросил Сыромятников.
Фома не ответил. Круто повернулся, пошел прочь от него и только тогда буркнул под нос:
– Беги по селам, сбирай хлопчиков... грудны там ще остались. Ще раз бойню зробим...
Маркел догнал его, дернул за рукав:
– Не время, Фома Иванович. Охолонь. А кровь стариков да ребятишек не зря пролита, сам видишь. Без них не известно еще, как дело обернулось бы...
– Утешитель... – Фома полосонул Майка свирепым взглядом. – Уси вы, грамотеи, таки... только глотку драть и умеете... За таку войну Чубыкин головы з нас посымаеть. А детям и внукам своим як про такое рассказывать будешь, га?
– Ты думаешь, мне не больно? Или комиссару? Он ведь сам с ними под пули пошел... Надо. А раз надо – поймут нас и дети, и внуки наши...
– Та ты сам ще дитё. Сколько тебе?
– Девятнадцать.
– Во! Ще маткино молоко на губах не обсохло, а туда же – учить.