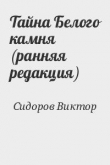Текст книги "Сказание о Майке Парусе"
Автор книги: Петр Дедов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
– Строгий уж больно...
– Такой хуже, чем при старом режиме, в бараний рог загнет...
– А с нашим братом, мабуть, по-другому и нельзя, – раздумчиво сказал Фома Золоторенко. – Подраспустились мы трошки тут, а конь без узды шляху не имеет.
– И то верно!
– Был ба свой человек, да чтоб с понятием...
Кузьма шагнул вперед, выпрямился.
– Спасибо, товарищи, за доверие, – сказал он тихо, прежний металл приглушился в его голосе. – А теперь надо выбрать нам командира отряда.
– Дак есть же? Иван Чубыкин?..
– А может, Фому Золоторенко? Все ж таки ахвицер, в военном деле кумекает поболе, чем Иван...
– Ни-ни! – Золоторенко замахал руками. – Куда мени супроть Ивана?! Он – голова! А у моей башке ище ветер гуляе...
Командиром отряда уже официально избрали Чубыкина, его помощником и временным начальником штаба – Фому Золоторенко, а Маркела Рухтина выбрали агитатором и связным, или «летучей почтой», как позже окрестили его партизаны...
* * *
– Добре, хлопцы, добре! – Фома Золоторенко в офицерской форме, при всех регалиях красуется перед строем, – ловкий, подтянутый – одно заглядение. Такому начальнику невольно станешь подчиняться и подражать, будь у тебя в руках даже деревяшка вместо винтовки, а на ногах – разбитые лапти. Желторотые парни-новобранцы, бежавшие от колчаковской рекрутчины, «едят» его глазами, мужики постарше тянутся изо всех сил, взмылившись, как лошади под неутомимым седоком.
– Кру-гом! – зычно орет Золоторенко. – Ложись! А ну, давай ще по-пластунски, вон до той сосенки. Быстрее! А ты шо зад отпятил, Русаков? Думаешь, голову спрятав, так противник тебя не побачит?!
Люди ползут в клубах пыли, поднимаются, снова падают, измотанные, грязные, как черти, а Фома неутомим.
– Шо казав Суворов про солдатское учение, га? – наскакивает он на хилого деда Силу, который в строю норовит притулиться к рядом стоящему или присесть на корточки. – А то и казав гениальный полководец: коли трудно в учении, зато легко в бою!
– Дак ты ж не Суворов, – кряхтит старик, размазывая грязь на лице подолом рубахи.
– А ты про то забудь! Для тебя я – Суворов, и Кутузов, и Барклай... этот... Тьфу, нечиста сила, позабыл... Бего-ом, аррш!!
Золоторенко, наконец, при своем деле, которое, может, на роду ему было написано, – даром что в целях конспирации и по прежней профессии Кузнецом его нарекли.
Майк Парус тоже при деле, и трудится с неменьшим вдохновением. Он сочиняет воззвания к сельским жителям. В помощники ему выискалось два грамотея: бывший ссыльный Карнаухов, толстый угрюмый мужик, да Спирька Курдюков, которого кержаки с детства готовили на своего проповедника и потому обучили грамоте. Помощники переписывают готовое, сочиненное Маркелом: Карнаухов молча, с тяжкими вздохами и сопением елозя длинным носом по бумаге, а Спирька то и дело вскакивает со стула, носится по избе, орет и машет кулаками:
– Чо ты, Маркелка, про лиригию ни словом не обмолвился в листовке?! Што она опивум народа, и так прочее?
– Нельзя пока об этом. Верующие за нами не пойдут...
– Ну и хрен с ними! Я сам верующим был, а счас могу любого попа али проповедника Христова на гнилой осине кверх ногами повешать! Зна-аю ихние проповеди! «Возлюби ближнего, ако самого себя...» А сам, паразитина, одной рукой кадилом машет, а другой – в карман к тебе лезет али за глотку цапает...
Маркел отмахивается, подходит к окну. Мимо избы, топоча, как загнанное стадо, бегут «хлопцы» Золоторенко. Дед Сила мелко трусит позади всех, придерживая портки. Свою огромную шомполку он тащит на плече, наподобие коромысла. Но и этак ему тяжело, он опускает «орудию» на землю, волочет за конец дула.
Никто, конечно, не заставляет старика становиться в строй, маршировать вместе с другими. Он сам напросился в роту Золоторенко и теперь вот лезет из кожи, чтобы не ударить в грязь лицом.
Вечереет. На столе – груда исписанной бумаги.
– На сегодня хватит, – говорит Маркел своим помощникам и выходит на улицу.
Тишина. Ласковая, недокучливая теплынь. На фоне светлого неба серыми столбами толчется мошкара.
Маркел направляется к реке. На берегу, в кустах тальника, встречает Золоторенко. Он затаился и кого-то выжидает.
– А-а, Майк Парус! – тихо приветствует Фома, протягивая руку. – Сидай туточки и трошки помолчи.
– Ты что, свидание здесь назначил?
– Ага. Помолчи трошки.
– А где же она?
– Сейчас мои хлопцы приволокут... Помолчи.
Маркел удивленно лупает глазами, и Золоторенко сам не выдерживает, начинает шепотом объяснять:
– Понимаешь, разведчиков обучаю. Добрых три хлопца подобрал. Зараз послал «языка» словить.
– Где же они его возьмут?
– Есть туточки один... любитель природы.
Через несколько минут внизу, под обрывом, раздается шорох. Фома вскакивает, молча подает руками какие-то знаки. Трое дюжих парней втаскивают по косогору огромный мешок и кладут его у ног Золоторенко. Мешок ходит ходуном: в нем кто-то брыкается и сдавленно мычит.
– Добре, хлопцы! – шепчет Фома. – Вытряхайте!
Из мешка вываливается человек со связанными руками и с кляпом во рту. Маркел отпрянул в испуге: Кузьма Сыромятников!
– Развязать! – хладнокровно командует Фома. Хлопцы развязывают Кузьме руки, вынимают изо рта кляп. Один из них подает Фоме аккуратно смотанную удочку и кукан с рыбой:
– Так што, обнаружено при «языке», товарищ командир.
– Добре!
Кузьма некоторое время очумело озирается по сторонам, хватая ртом воздух. Потом его начинает трясти, он со сжатыми кулаками наступает на Золоторенко:
– Ты что... Белены объелся?
– Боевые учения, товарищ комиссар, – оправдывается Золоторенко. – Тренирую разведчиков. Приказав хлопцам: взять заместо «языка» любого, кто прохлаждается на берегу, лодыря гоняет... Не думав, не гадав, шо ты попадешься, – Фома прячет в черные усы чуть приметную ухмылку.
– Сук-кин ты сын! – Сыромятников отходит к обрыву, приседает на корточки, ломая спички, пытается прикурить. Фома садится рядом, услужливо подносит комиссару огонек.
– Звыняй, коли шо не так, – миролюбиво говорит он. – Мабуть, яки замечания к моим разведчикам е?
Кузьма поперхнулся дымом, закашлялся.
– Какие там замечания?! – выдавил он, вытирая слезы. – Подкрались, сграбастали – и пикнуть не успел...
– Добрые хлопцы?
– Угу.
* * *
Связанный из четырех бревнышек плот скоро несло течением. Управления он почти не требовал: полая вода еще не сошла, отмели и перекаты были не опасны.
Маркел Рухтин глядел на проплывающие мимо берега, покрытые темной зеленью сосен, ельника да кедрача. Когда плот подносило близко к берегу, сквозь заросли проглядывали тихие заводи, над которыми пуржил белый черемуховый цвет. И вода была покрыта осыпавшимися лепестками, словно хлопьями снега. Непуганые дикие утки спокойно плавали среди этой ослепительной белизны, часто ныряли, торчком ставя хвосты, и при приближении плота даже не поднимались над водой, а улепетывали, быстро лопоча крыльями и оставляя на белой глади темные полоски чистины...
«Жизнь – она как река, – размышлял Маркел, настроенный на благодушно-философский лад. – Есть в ней свои глубины и отмели, бурные перекаты и крутые излуки, свои тихие заводи и заросшие, воняющие болотом, плесы... И есть стремнина – стремительный и могучий поток глубинных вод, который покорен лишь тем, кто сильный духом и телом...»
Он вытащил из нагрудного кармана пиджака тетрадку в черном клеенчатом переплете. Плот покачивало, строчки ложились торопливыми зигзагами, наскакивали одна на другую:
Утро весеннее, чуткое, нежное
Звезды сбирает с небес.
Смотрится в реку сквозь лозы прибрежные
Темный и дремлющий лес.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Искрится речка, туман поднимается
В ясную неба лазурь.
Плот на воде в тишине колыхается
Тенью промчавшихся бурь...
Чистой синевою смеется река, порошит в глаза черемуховым цветом, а что там впереди, за дальним окоемом? Какая ждет радость, какая печаль?
Маркел задержался в Косманке, не поплыл вместе с теми, кто отправился по низовым селам агитировать мужиков в партизаны. Отговорился срочной работой: воззвания, мол, писать не закончил, и лишь теперь признался самому себе, что схитрил, – хотелось ему поплыть одному на своем крохотном плотике, полюбоваться буйным цветением природы и хотя на часок, на минутку причалить у крутого мыса, напротив деревни Зыряновской, чтобы одним глазком, пускай даже издали, увидеть Маряну, которая снилась ему долгими ночами, томила сердце светлой печалью.
До заветного мыса добрался он к вечеру. Спрыгнул на берег, привязал плот за коряжину. Взобрался наверх по крутому сыпучему яру. Отсюда до деревни было версты четыре, не больше.
Сначала пошел, потом побежал. Вот и сосновый бор, на краю которого стоит аккуратный бревенчатый домик, приютивший Маркела той памятной лютой зимою. Добрые люди спасли его здесь от верной гибели, а судьба подарила синие, ставшие родными теперь, глаза Маряны. Сейчас он уже глядел в эти глаза, диковато-пугливые и зовущие, уже ощущал на своей щеке ее легкое дыхание, – взявшись за руки, они шли зеленым лугом, поднимая с цветов желтые облачка пыльцы, и Маряна разговаривала с этими цветами, с птицами и порхающими мотыльками на понятном только ей одной безмолвном языке...
Маркел не решился сразу заходить в избу: не известно, как встретит хозяин, кажется, заподозривший его тогда в чем-то нехорошем по отношению к Маряне. Он спрятался в кустах и стал ждать, не появится ли девушка во дворе. Тихо было, только куры шебуршали в лопухах да из глубины бора еле доносился стук топора. Над головою вдруг гаркнула ворона могильным, раздирающим душу голосом, от которого Маркел невольно вздрогнул.
Из избы вышла маленькая старушка в черном, перекрестилась и стала шугать прутом крутившуюся над подворьем ворону. Маркел не сразу узнал в этой старушке хозяйку дома, не так чтобы старую в то время женщину. А когда все-таки узнал и окликнул и хозяйка подошла, – поразился, как изменилась она, постарела за эти несколько месяцев!
Она близоруко пригляделась и тоже признала Маркела, зарыдала, бросилась ему на грудь:
– Марке-елушка, сыно-очек... Марянушку-то нашу... И-изверги!..
У Маркела оборвалось все в груди, он пошатнулся, привалился к пряслу.
– Нету нашей Марянушки, нету цветочка лазорева! – причитала хозяйка, обеими руками, как слепая, ощупывая Маркеловы волосы, лицо, плечи.
– Скрутили ей белы рученьки, испоганили, изнасильничали!..
Свет померк в глазах Маркела. Стало пусто и темно кругом. Он опустился на землю. Хозяйка присела рядом с ним. Долго стонала, сцепив руками голову и раскачиваясь всем телом. Потом до Маркела откуда-то из пустоты стали долетать слова, обрывки фраз:
– Больно уж любила гулять одна по лесу... Аха... Белки и бурундучки ее знали, с ладони орешки щелкали... Цветочки первые пошли, а уж радости-то... Прямо светится вся, как ясна зорюшка... Тут и вороги эти нагрянули... За рекрутами... Встретили в лесу... Семь солдатов... Не вынесла позора... На речку убегла... Так и не нашли... Тебя все ждала, выглядывала, аха...
Маркел не помнил, как добрался до берега. Все было как во сне, как в красном зыбучем тумане. Он прыгнул на плот, резанул ножом по веревке. Плот понесло, закружило. Сперва был этот красный закатный туман, потом стало темно.
Маркел упал ничком на мокрые бревна. Плот несло куда-то в темноту, а казалось, что он стремительно летит в черную бездну...
* * *
Версты три оставалось до Шипицина, когда Маркел причалил к берегу. Загнал плот в тихий заливчик, привязал, забросал его намытым водою валежником, травою, корьем. Все делал механически, как в полусонном забытьи.
Наклонился, плеснул на голову пригоршню студеной воды. А когда рябь улеглась, то почудилось: со дна залива, из темных его глубин, медленно всплыло чье-то лицо, чужое и страшное. Он пригляделся – лицо было бледное до синевы, как у утопленника. Маркел зябко поежился, с трудом узнавая свое отражение...
Он шел берегом, выдавливая на сером мокром песке белые следы. Было раннее утро, заря только разгоралась, в прибрежных темных кустах рассыпали звонкие трели невидимые зарянки. Где-то совсем близко закуковала кукушка, и Маркел бессознательно крикнул, как бывало в детстве:
– Кукушка, кукушка, сколько мне лет осталось жить?
Птица поперхнулась, видно, с перепугу и замолкла, словно захлебнувшись криком. Он с минуту подождал – кукушка молчала.
– Значит, ни единого годика? – тревожно спросил Маркел, и еще больше побледнел, и до боли сжал кулаки, и ярость вдруг охватила его, и он захрипел в припадке бешенства: – Врешь ты... поганая тварь! Я еще поживу! Мне отомстить еще надо!.. За Маряну! За деда Василька! Я еще поживу! Накличь лучше смерть на голову Колчака, проклятая птица!..
Он бежал вверх по крутояру, осыпистая глина текла из-под ног, он падал, полз на четвереньках... Взобравшись наверх, он, как подкошенный, свалился под кустом черемухи, на молодую, осыпанную цветочными лепестками, седую траву. Ни о чем не думалось, только со страшной силою захотелось домой: увидеть мать, сестру, маленького Игнашку – единственных родных людей, оставшихся на всей земле. Рассказать им о чудесной девушке Маряне... А изба родная – вот она, рукой подать, но заказана для него туда дорожка... Как они там, бедные?..
К вечеру только Маркел поднялся, проклиная себя за слабость. Снова холодное ожесточение пробудилось в нем, и он готов был теперь на все. Да, что-то сломалось, яростно перекипело в нем и навсегда закаменело, как каменеет защитная смола-живица у раненой сосны.
Он знал теперь, что надо делать. И прямиком направился к Еланским заимкам, что были верстах в семи от деревни. Там, на отвоеванных когда-то у тайги участках, находились пашни бедных, маломощных хозяев. Почва никудышная, подзолистая, редко в какой год давала она мало-мальские урожаи жита. Мужички побогаче и шипицинские кулаки занимали пашни ближе к пойме Тартаса, где земля была жирная, плодородная. Держались богатые родственной семейщиной, чужаков в свои угодья не пускали.
Маркел пришел к Еланским заимкам на закате солнца. Пахари закончили как раз работу, выпрягали из борон и сох лошадей и быков. Кое-где у крохотных избушек-заимок дымились уже костерки, до спазм в горле пахло полевым кулешом с поджаренным салом. Все было знакомо и привычно, но впервые Маркелу бросилось в глаза, что бедные мужики держатся наособицу, друг друга как бы чураются, – не то, что богатые, у которых, бывает, и стол общий, и работа артельная. Бедняк же вечно боится, чтобы его не объели, а для совместной работы объединяться тоже расчету нет: вдруг у соседей окажутся лошади или быки послабее – он ведь, скот-то, и так к концу пахоты готов на борозде ноги вытянуть... Так было спокон веков – все боязни да оглядки, потому-то и давили кланом своим богачи, хотя числом их было много меньше.
Против всяких ожиданий, земляки встретили Маркела с радостью и любопытством. Знали, откуда он пришел, догадывались – зачем. Видать, успели хлебнуть лиха по ноздри и не раз, наверное, говорили меж собой, как вырваться из кабалы этой каторжной, и каждый в отдельности задумывался не раз о злосчастной жизни своей. На парня налетели с расспросами, тормошили, торопили, не замечая его усталости.
– Нет, мужики, так дело не пойдет, – решительно выпрямился Маркел. – Забыли вы тут, под Колчаком, и обычаи наши русские. Гостя ведь накормить сперва надо, а потом и беседу с ним вести... Хорошо бы всех в кучу собрать, да вместе и поужинать, как вон кулачки-богатеи делают.
– А ведь и правда, мужики, язви вас в душу-то! – закричал Степша Буренков, хромоногий, но разбитной, веселый и горячий норовом парень. – Чем мы хуже других? Тока и знаем, што с утра до ночи хребтину гнем да как волки друг на друга косимся...
– Не шибко оно баско, вместе-то, – рассудительно прогудел старик Нечаев, дальний родственник Маркела. – Застукать могут за разговорами... За нами ить следят. То милиционеры, то дружинники частенько наезжают.
– Спужался, едрена корень! – кипятился Степша. – Да чо же это такое?! Скоро от самих себя прятаться зачнем!..
Его поддержали. Вскоре вездесущие ребятишки обежали все Еланские заимки, скликая пахарей в одно место. Мужики явились со своими тряпичными узелками, кто и горячую кашу, и кулеш в котелках притащил, – всего набралось человек с полсотни.
И вот запылал посреди поляны большой артельный костер, люди оживленно переговаривались, угощали друг друга кто чем мог.
– Вот так бы и жить сообща, в мире да радости! – не унимался Степша Буренков. – Скажи-ка теперь свое слово, Маркелка, не томи душу.
Маркел поднялся у костра и сразу выпалил:
– Пришел я за вами, мужики! Небось, слышали о партизанском командире Иване Чубыкине? Он зовет вас к себе... с оружием в руках за Советскую власть бороться.
– О-го!
– Круто берешь быка за рога, парень!
– А пахать и сеять кто же за меня будет? Можа, абмирал Колчак?
– Бабы с ребятишками работу закончить смогут, – насупился Маркел. – Прямо скажем, немного уж у вас тут осталось.
– Молоде-ец, – протянул старик Нечаев. – Не таких мы речей от тебя ждали...
– Каких же? Думали, я пришел Советскую власть вам объявить, которую кто-то уже завоевал, пока вы здесь пашете?
– Да каких деду еще речей надо? – поддержал Маркела Буренков. – У него все речи на спине прописаны. Заголи-ка, дед Нечай, рубаху, покажь те письмена, какие колчаки шомполами на спине твоей прописали! Еще тебе мало? Еще каких-то речей ждешь?
– А ты дак чо? Так счас прямо сорвешься и побежишь к Чубыкину? – окрысился старик Нечаев.
– Ну, можа, и не сейчас, – поумерил свой пыл Степша. – А итить все одно надо... Знать бы тока, верное ли дело затеял Чубыкин? В прошлом-то годе он тожеть вроде начинал, пугнул колчаков здорово, а потом опять все по-старому пошло...
– Потому и получилось так, что рассуждали многие, как вы вот сейчас – кто в лес, кто по дрова, – перебил Маркел. – Давайте, отсиживайтесь, ждите, когда свободу вам на блюдечке поднесут. Пусть другие воюют, кровь проливают, а вы – ждите с моря погоды... Хватитесь потом, да поздно будет. А ведь сейчас самое время выступать – весь урман поднимается. У соседей наших, в Тарском уезде, партизаны Избышева уже начали шерстить колчаков. Слышали, небось?
– Слышать-то слышали...
– С посевом вот как, язви его... Погодить бы трошки...
– А для кого сеете-то? – напористо гнул Маркел. – Опять осенью колчаки придут – и плакал ваш хлебушко. Забыли уже, как в прошлом году было?
– Так-то оно так...
– Выступать надо, мужики.
– Надо бы...
В яркий круг костра из темноты вдруг вышагнул человек, высокий, статный, накрест ремнями опоясанный и с наганом на боку. Все притихли, узнав шипицинского милиционера Леху Маклашевского.
– Говорил же тебе, – испуганно шепнул Маркелу старик Нечаев.
Леха оглядел всех внимательно, помолчал. Достал кисет, свернул цигарку. Сказал спокойно и тихо:
– А я ить весь разговор ваш слышал... Тутока, за кустами стоял. Дак кто это выступать собрался, к Чубыкину бечь? У кого шкура выделки просит? У тебя, дед Нечай, спина по шомполам затосковала?
– А я чо? Я ничо... – попятился старик Нечаев.
Остальные молчали. Молод Маклашевский, но хитер – на мякине не проведешь. Ровесник Маркелу – в детстве коней в ночное вместе гоняли. Да вот разошлись стежки-дорожки: Леха по тятькиному кулацкому следу пошел, в начальники выбился. Сейчас он будто впервые заметил старого дружка, подошел к нему, по плечу хлопнул:
– Маркелка? Ты откуда здесь? А сказывали, што тебя давно уже повесили.
– Шутят, Леха, не слушай людей, – отступая и весь напрягшись, улыбнулся Маркел. – Я вот тоже слышал, что тебя мужики наши кокнули.
– А меня-то за што? Я худого пока не делал. Небось, позабыл, как тебя от смерти спас, когда в сене ты спрятался, а я саблей мимо шуровал?
– Как забыть? Помню, – Маркел глядел Маклашевскому прямо в глаза, продолжал улыбаться.
– Выходит, здря я старался... Думал, ума-разума наберешься.
– Выходит, зря.
– Ну, это!.. – вскипел вдруг Леха, кончая игру. – С мужичками мы завтра разберемся, выясним, по ком из них петля плачет. А ты – идем со мной! Теперь-то уж не жди от меня пощады!
– А ты – от меня, – улыбнулся Маркел.
– Што-о?! – Леха отскочил назад, рванул кобуру, выхватил наган. – Идем, а то пристрелю на месте!
Пытаясь выбить наган, кто-то сзади ударил его под локоть. Грохнул выстрел. Стоявший рядом с Маркелом старик Нечаев схватился за живот, упал, забился в судорогах. На Леху кинулись со всех сторон. Кто-то вгорячах ударил его поленом по голове. И сразу все затихли, расступились.
– Кажется, готов...
– Царство ему небесное!
Старик Нечаев тоже вскоре скончался...
Костер потух. В темноте мужики сидели и лежали на земле, молчали. Только красные огоньки самокруток вспыхивали и гасли. Ночь уходила к рассвету.
– Што вот теперь делать? – не выдержал один.
– Наломали дровишек...
– Может, простят?
– Может – надвое ворожит.
– Не простят, мужики, – вздохнул кто-то. – Ежели за долги порят нещадно, то за такое – точно повесят...
– Уходить надо, пока не поздно, – поднялся Маркел. – Сколько вам об этом толковать?
– Уходить?! – раздался злой голос. – Куда уходить от семьи, от детишек? Это ты заварил кашу, а нам теперяча всем расхлебывать!
– Он нарочно так сделал, мужики! Штобы домой нам возврата не было!
– Тебя первого и хлопнуть надо было, сволочь большевистская!
– Ну, вы потише! Расходились тут! – крикнул Степша Буренков. – Привыкли с больной головы на здоровую валить! Поленом-то кто ударил, Маркел, што ли?
– А может, сделать этак, – рассудил тот, кто надеялся на прощение. – Может, уйти Маркелу одному, мы скажем, што он убил Леху... Ему-то терять неча.
– И правда, сматывайся, Маркелка! Нас тада могут простить.
– Никуда я отсюда не уйду!
– Как не уйдешь? Тебя же первого на первом суку и повесят.
– Всех повесят! Всем надо уходить! – выкрикнул Маркел, потеряв терпение.
– Вот если тебя счас прибить, нам ничо не будет, – сказал кто-то тихо, но так, что слышали все. И все промолчали.
– Убей, если я в чем-то перед тобой виноват, – так же тихо отозвался Маркел. – Но только жизнь я задаром отдавать не намерен. Давай один на один?
– Дак а в чем твоя вина, парень? Понимаем – не за собственную шкуру печешься.
– Семь бед – один ответ, – вздохнул кто-то.
А между тем развиднялось. Серые тени наползали из леса, небо клубилось белой мутью. Тревожное было небо... И тут один хватился – кум исчез!
– Филька-то Казаков иде же? Кум-то мой?
– В деревню, поди, побег, доносить. Штоб себя выгородить... Известный подкулачник.
– Пойдемте, мужики! Поздно будет! – снова заволновался Маркел.
– Легко сказать – пойдемте... А лошадей, а быков куда? С собой забрать – полный разор хозяйству будет. На ребятишек кинуть?..
– А еслиф каратели нагрянут да отнимут?
– Оружие-то есть при вас какое? Приготовить бы надо на всякий случай, – сказал Маркел.
Мужики разбежались по своим заимкам, из заветных тайников доставали ружьишки, у кого и винтовки боевые нашлись. Время тревожное – всяк держал оружие при себе.
Только в лесочке успели собраться – вот они кулацкие дружинники, еще пять милиционеров с ними, а во главе – сам шипицинский урядник Платон Ильин.
– Иде вы тут, сукины дети? – загремел на всю округу урядник.
Дружинники двигались к лесу, держа оружие наизготовку. Степша Буренков вышел из кустов им навстречу, крикнул:
– Не подходи! Нас поболе, чем вас, и у нас тоже ружьишки имеются! Договориться сперва надо, чо к чему... Не подходи, стрелять будем!
Дружинники остановились, толстый урядник Ильин спрятался за их спинами. Тогда вышел вперед поп Григорий Духонин, медленно направился к лесу, выкрикивая на ходу:
– Остановитесь, православные! Не допущайте кровопролития! Себя не жалеете – пощадите детей своих! За смирение бог простит все грехи ваши, а власти даруют вам свободу!..
– Можа, и правду говорит отец Григорий? – сказал тщедушный мужичонка, стоявший рядом с Маркелом. – Не обманет, поди, коли клянется божьим именем? А, мужики?..
– Дак зря турусить не будет, договоренность, должно, у их есть...
Тогда Маркел вырвал у мужичонки ружье, выстрелил вверх. Поп с перепугу взбрыкнул козленком и ткнулся бородой в землю. Остальные тоже залегли, открыли беспорядочную пальбу.
– Отходи! – приказал Маркел.
Мужики, пригнувшись, побежали в глубь леса, отстреливаясь на ходу. Видя такой оборот дела, дружинники побоялись, наверное, преследовать, вскоре позади выстрелы затихли.
Когда вышли на берег Тартаса, все заметно оживились и повеселели.
– Вот так, растуды их в копалку! – возбужденно кричал Степша Буренков. – Спужались? А нас ведь – всего-то горстка! А ежели бы всем миром навалиться?!
– Свобода, братцы, ура!
– Нашего брата, мужика, раскочегарить трудно, а уж зачнем – самому черту рога обломаем, не тока Колчаку!
Маркел молчал, улыбался. И не улыбка это даже была, а жесткая складка на его мальчишески припухлых губах...