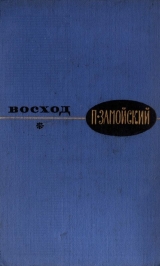
Текст книги "Восход"
Автор книги: Петр Замойский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
– Все? – спросил Федя.
– Все, Федя. Да, все.
– Вот и хорошо.
– Куда лучше, – ответил я и, напустив на себя горькую веселость, сказал: – Теперь бы первач пошел в самый раз!
– Найдем, – сказал Федя.
Обернувшись к Ваньке, я весело обещал:
– Мы, надеюсь, еще встретимся?
– Не к чему, – буркнул он.
Следом за нами вышла Санька.
Отойдя от крыльца, она, схватив за руку, остановила меня. Федя заметил это и тихо побрел один.
Санька молчала, тяжело дыша. Я тоже ничего не мог говорить. Только видел, как удалялся тихо Федя, затем скрылся за кооперативом. Видела это и Санька.
– Я все слышала, – наконец прошептала она. – Зачем ты ей это?
– Что зачем?
– Говорил-то все! Эх, Петя, Петя! Хотела я тебя толкнуть под бок, чтоб замолчал, да постеснялась.
– И хорошо сделала, Саня, что не толкнула.
– Да разь она поймет? Тебе же говорила Анна. Куплена Елька и перекуплена. И к чему ты все это завел? Горько, что ль, было? А теперь-то сладко? Так тебе и надо.
– Да что ты, Саня! Ты тоже против меня?
– За тебя я, за тебя.
Она крепко схватила меня за руку, приблизила ко мне свое лицо.
– Мне бы ты хоть чуток так сказал.
– Зачем?
– А вот зачем.
И, обхватив меня за шею, крепко-крепко начала целовать.
– Что ты, Саня, что ты? – испугался я не на шутку. – Как тебя понять?
– Как хошь, так и понимай.
Отстранив меня, она погрозила мне пальцем и строго приказала:
– К нам заезжай. Обязательно.
– Зачем, Саня? – спросил ее.
– Увидишь зачем. Вглядись и вдумайся. Когда Лена еще не пришла, ты говорил о любви. Говорил – полюбишь самостоятельную, а не теленка. Толкнула тебя, а ты меня? Толкнула ведь?
– Да, толкнула.
– И все… А может, и не все. Ну? – она приблизилась ко мне и схватила за плечи. – Я не Лена. Я больше ее понимаю. А она, правда, что теленок. Уж я – то никого не послушаюсь. И… грамотнее, чем она.
– Подожди, подожди. – Хотел ее отстранить, но она теснее прижалась ко мне.
– Поцелуй меня. Сам поцелуй.
– Как же так?
– А очень просто. Я ведь ни с кем еще сроду не целовалась.
– Да что ты…
– Эх, ты!
Она оттолкнула меня, помахала рукой, крикнула:
– Заезжай обязательно! – и побежала к избе, где в сенях еще виднелся огонек.
Глава 13
Поговорив, мы с Федей решили еще прогуляться по селу. Спать нам не хотелось.
Светил узкий серп луны, ярко блестели звезды, высоко стояла тесная куча Стожар. Блестела Венера, уходя на запад. А на востоке уже белела полоска сине-молочного разлива. Близилось утро. Кое-где пели ранние петухи. Булькающими голосами гортанно квакали в тростниках на реке лягушки, и давали знать о себе сонные собаки.
Проходим мимо темных и сумрачных строений – изб, мазанок, крытых погребиц, освещенных мерцающими звездами. Липы, тополя, ветлы, запахи акаций от палисадников, лугового сена и непросохшей травы на телегах!
Влево кем-то брошенная недостроенная изба с присевшими от времени стропилами, пустые оконные пролеты, а вокруг высокая трава и навозная куча, тоже поросшая травой.
Громадная, о пяти главах церковь – как клуха уселась на цыплят. На отшибе от нее, словно забытая всеми, стояла дырявая колокольня.
Недалеко от церкви протекает тихая безыменная речушка, заросшая тростником, осокой, а поверх покрытая большими лопухами водяных лилий и блестками рыжей плесени.
Мост, уходящий вниз, как в пропасть, за ним взмет крутого подъема на другую сторону, откуда мы сегодня спускались. Там, на той стороне, еще улица, и с такими же избами, и присевшими старыми мазанками. Улица уходит в туманную даль, где стоят крупные березы в два ряда вдоль дороги, ведущей в дом помещика Тарасова.
А вон едва освещенная полоской занимающейся зари мельница с крестообразными, зловещими крыльями. Одно крыло уперлось в землю, второе взметнулось к звездам. Это мельница Полосухиных, Федоры и Егора. Я не чувствую сейчас той ненависти к Федоре, какую чувствовал раньше. Уже нет во мне ни обиды, ни горечи. Все получилось ясно, стало на свои места. Боль прошла, ее словно отрезало, и безразличное чувство поселилось во мне.
Да, была любовь, первая, нежная, но она пришла не вовремя и неизвестно, к чему бы повела. Я рад, что все так кончилось. Теперь я перестану думать о Лене, свободен от этих бесплодных и ненужных мечтаний. Личное мое придет когда-нибудь, но загадывать вперед нечего. Пусть другие мои товарищи по работе, сверстники, влюбляются, женятся, пусть ищут квартиры, обедают дома, а не в столовой, пусть после женитьбы неохотно едут в командировки, – там же опасно, трудно и жена может не пустить. На примере таких товарищей я убедился, что семья для нас, молодых работников уезда, просто обуза. Если ты один, так уж один надейся на себя и своих товарищей, а они – на тебя.
Несладко и беспокойно живется тем работникам – старше нас годами, – которые приехали в город, а в деревнях оставили своих жен с детьми и то и дело ездят домой проведать их. А еще хуже тем, которые недавно поженились, завели уют; их жены – мещаночки, щебеча, примеряют им галстуки, заставляют носить их – это нам противно до тошноты – и настойчиво приказывают приходить с заседаний пораньше, к ужину.
А заседания в уисполкоме или упродкоме часто происходили с вечера и до позднего утра. Говорили, и курили, и ожесточенно спорили.
…Где-то тихо, словно засыпая, вздыхала гармонь и слышался тихий припев девушек.
Очень осторожно, на всякий случай прячась в подворотню, кратко и лениво лаяли собаки.
– Звезды-то, звезды какие лупоглазые! – проговорил Федя, когда мы с ним дошли до самого конца улицы; дальше уже лежали поля.
Мы остановились и смотрели вверх, будто никогда не видели звезд.
– А что, скажи, Петр, есть, говорят, такая звезда, вроде Марсы…
– Есть такая планета.
– Планета, – повторил Федя. – И, говорят, она по климату схожа с нашей Землей. Книжку я читал чьего-то ученого, не нашей фамилии.
– Фламмариона? – подсказал я.
– Его, его. Он небось немец?
– Француз, Федя. Астроном.
– Как он все знает? И разрисованы в ней на этой Марсе вроде канавы.
– Каналы, Федя.
– В подзорную трубу отражает?
– Телескопы такие есть. Увеличивают в тысячу раз.
– Давай посидим, – указал Федя на бревна у чьей-то мазанки. – Меня всегда, как только погляжу вверх, раздумье берет.
– О чем же раздумье, Федя?
Он вздохнул. Мы закурили. Сидеть под крышей мазанки было хорошо, тихо, уютно. Над рекой и над низиной лугов, уходящих во тьму, висел густой туман. Он казался морем, которому края нет, или мохнатой тучей, неведомо когда спустившейся на землю. Сквозь туман издали пробивались какие-то неясные звуки, таинственные и непонятные. Преломляясь в пространстве, они походили то на тихое рыдание, то на взлет высокой ноты неразборчивой музыки, то на жалобную песнь. Иногда слышался вой. Собаки или волка?
За туманами, за рекой и не так уж далеко отсюда расположилось огромное село с тремя церквами.
– Раздумье мое вот о чем, – начал Федя. – Если там, – он указал на яркую Венеру, приняв ее за Марс, – такой климат, почти как у нас, почему бы и людям на ней не быть? Как ты думаешь, Петр, есть там люди?
– Судя по климату, надо надеяться, что есть, – успокоил я Федю. – А тебе обязательно хочется, чтобы там люди были?
– Это же интересно. Это… – и он осекся.
– Ну что, что? – спросил я.
– Обязательно там люди есть! – утвердил Федя. – Только вопрос – какие они? Вроде нас? С руками, с ногами?
– И даже с головой, – добавил я. – Не хочешь ли ты, Федя, при случае на Марс перемахнуть?
– Неплохо бы прокатиться. Только ведь он далеко-далеко.
– И, кстати, высоко.
Какой он славный – Федя! На вид неказистый, будто весь врос в землю, а смотри, о чем мечтает! Мало ему Земли, подай Марс.
– Да, высоко, – вздохнул он.
– Куда выше, чем «семь верст до небес – и все лес».
– А как ты думаешь, к чему бы там канавы?
– Каналы, а не канавы, Федя. Запомни. Но к чему они, сам не знаю.
– Ты не знаешь? – удивился он и круто повернулся ко мне. – Нет, ты знаешь. Говорить только не хочешь. Не бойся, не поеду я на Марс.
От мостика, со стороны речушки, показалась какая-то фигура. Скоро мы рассмотрели, что это женщина, укутанная платком. Шла она осторожно, то и дело оглядываясь по сторонам. Видимо, она искала кого-то и искала с опаской.
– Э-э, да это сторожиха Василиса. При имении Тарасова от волсовета она приставлена, – прошептал Федя и тихо окликнул: – Василиса!
Женщина остановилась, видимо не зная, кто ее окликнул, и хрипло спросила:
– Это кто?
– Ну, совсем зазналась. Да я, Федя Хохлов.
– О-ох! – облегченно вздохнула Василиса и скорым шагом, теперь уже не оглядываясь, направилась к нам.
– Ведь я тебя, черта, давно ищу. У Катерины была. Сказала – ушли гулять. Где вы пропадали?
– На Марс ездили, – ответил Федя.
– Вон куда вас бес носил! – укорила Василиса.
– А ты садись, рассказывай, как твой барин живет. Совет постановил выдать тебя осенью за него замуж.
– О-ох, Федя, – не обратила она внимания на шутку, – что делается-то! Руки-ноги дрожат.
– Что с тобой, Василиса? – тревожно спросил Федя и положил ей руку на плечо. – Ты заболела?
– А это чей? – наконец-то заметила она меня.
– Свой. Из города прибыл.
Она посмотрела на меня и узнала.
– Тот, что говорил возле волости?
– Он. Поздоровайся с ним. Он бедных и старых не кусает.
Василиса протянула руку, пытливо уставившись на меня. Затем с упреком спросила:
– Это вы что же не дрыхнете?
– Скучно, вот и не дрыхнем. Девок искали, всех парни расхватали. Спасибо, хоть ты пришла… Скажи – сама что не спишь, а, как серая кошка, по ночам бегаешь?
– Забегаешь. Небось я сторожу этого черта… Говорить, что ль? При нем-то, – указала на меня, – можно? О ох, дела, ребятки! – снова вздохнула Василиса.
– Говори, не бойся. Что случилось-приключилось с тобой?
– Ну, слушайте…
Оглянувшись, полушепотом, тяжело дыша и волнуясь, Василиса поведала нам такое, от чего нас проняла дрожь.
Глава 14
– Станция? Кто дежурит? Вы, Маруся? Доброе утро, Маруся. Что так рано звоню? Сразу меня узнала? Нет, мне никак не спится. Дела, Маруся, дела… Спасибо за пожелание. Что без меня в театре ставили? «Дни нашей жизни»? Ого! А кого тебе играть пришлось? Олель? Здόрово. Ну, желаю успеха. Еще поиграем на сцене. Теперь, Маруся, очень-очень прошу – позвони Ивану Павловичу, а он пусть позвонит мне в Горсткино. Спит? Ничего, не рассердится. А во время нашего разговора не включай никого. Ну, ты знаешь, как ответить. Да нет, все добрые люди еще в постели. Звони ему, Маруся.
Я повесил трубку. В волсовете, кроме меня, Феди и Василисы, не было ни души.
Сторожа отпустили домой.
После того как нам обо всем доложила Василиса, мы попросили ее, чтобы она продолжала следить за всем, что будет происходить в доме Тарасова.
– Только зорче смотри, не перепрячут ли они в другое место.
– Нет, перепрятывать они не будут. Схоронили больно ловко. Кто смекнет заглянуть в пустую роялю? Лежит в углу, струны вырваны.
– Сколько же ты насчитала, Василиса?
– Битком набили. Уж не меньше десятка.
– И штыки были?
– Вроде нет. В подпол какие-то жестяные ящики совали. Доску самую крайнюю в полу в углу отодрали. А чего в ящиках – не знаю.
Вдруг зазвонил телефон, и так пронзительно, что мы невольно вздрогнули. Я снял трубку. Сипловатый, знакомый голос. Поздоровались. Надо говорить по телефону так, чтобы было понятно только ему. Намеками я стал объяснять Ивану Павловичу, в чем дело.
– Приезжай, прихвати людей и, конечно, Брынду. Дело серьезное. Нет, мы не пошли туда. Они ни о чем не догадаются. Конечно, спать не будем. Видимо, придется и нам посматривать издали. Никто больше об этом не знает. Где я вас встречу? На гумнах. Недалеко от мельницы. Нет, не догадаются. Слышь, самогонки много хлебнули. Может, теперь спят, как праведники.
Пока разговаривал с Иваном Павловичем, меня трясло не меньше, чем Василису. И усталость от бессонной ночи и от всех этих событий брала свое. Прислонившись к стене возле телефона, я что-то пробормотал и задремал.
– Прилег бы, Петя, на диван, – предложил Федя, – чуток до приезда поспишь. А я подежурю.
– Могут позвонить.
Взглянул в окно. На улице чуть заметно белело. Едва вздремнул, как вновь раздался звонок. Звонил Шугаев, председатель уездного совдепа. Стало быть, Иван Павлович сообщил ему.
– Что делаешь?
– Сидим, Степан Иванович. Ждем Ваню в гости.
– Через час повидаетесь.
– Спать очень хочется, Степан Иванович.
– Спать? – звонко расхохотался он. – Верю, верю. Возражений нет. Я-то, пожалуй, выспался. Сегодня, представь, мы заседали только до двух часов. А сейчас пять. Что там нового в Горсткине?
– Комбед организовали.
– А еще?
– Больше особенно будто ничего.
– Ну, ну, знаю. Иван мне звонил, рассказал. Там кто-нибудь стережет?
– Не без этого. Сейчас и мы с председателем комбеда пойдем туда, вроде в гости.
– Да, эти гости серьезные. Даже больше, чем на первый раз кажется. Когда в город прибудешь?

– Если отгостим, завтра.
– А послезавтра заседание в упродкоме. Отчет комиссара. Приготовься рассказать, как шли дела. Жаркие будут прения. Ну, жму руку!
Он повесил трубку. Значит, снова предстоят споры по продовольствию, по работе комбедов и продотрядчиков. Снова придется выслушивать упреки левых эсеров и визгливые выкрики яростного противника изъятия хлеба у кулаков – начальника милиции Жильцева.
– Федя, пойдем в имение. Сам Шугаев звонил. Намекает, что дела у нас тут серьезные. А он-то знает лучше нас. Как бы нам не промахнуться, не упустить их. Выследить, по крайней мере, надо.
– И я так думаю, – согласился Федя. – Василисе одной там страшно.
– Только осторожнее, – предупредил я, – незаметно надо пробраться и наблюдать.
– Я там знаю каждый закоулок.
Закрыв изнутри сени волсовета, мы через заднюю дверь выбрались на огороды. Идти улицей было бы неосторожно. Уже скоро рассвет. Если встретишь кого, заведут разговор, куда и зачем идем.
Мы шли вдоль речушки, по краю огородов. Шли, тихо перешептываясь и, как воры, низко пригибаясь. Наконец добрались до мостика, что напротив сарая, где мы с Федей сидели.
Перейдя мостик, мы вошли в большой сад, спускавшийся от дома помещика к речушке. Могучие яблони заброшенного сада обросли высокой, до пояса, густой травой. На траве обильная роса. Брюки у меня намокли, вода в ботинках неприятно хлюпала.
Вот и тропа. Мы пошли по ней. Слева показался дом.
Окна и небольшое крылечко черного хода выходили прямо в сад. Ни в одном окне с этой, задней, стороны света не видно.
– Где Василиса помещается? – спросил я.
– Вон в той избенке – прежней сторожке.
– Найдем мы ее там?
– Кто знает, – ответил Федя.
В сторожке тоже нет огня. Мы пробрались к ней, и Федя осторожно постучал в окно. Никакого ответа, Федя постучал сильнее. У меня замерло сердце. Казалось, что он забарабанил толстой палкой по звонким доскам. И тут случилось совсем непредвиденное. Из конуры, что была почти рядом с нами, выскочил огромный лохматый кобелище. Это чудовище помолчало, понюхало воздух и, почуяв своим собачьим носом, что перед ним чужие люди, так истошно взвыло, будто ему хвост отрубили. Пес ринулся на нас. Мы быстро отскочили за угол. Я спешно вынул наган, но сообразил, что выстрелом испорчу все дело. Кобель, к нашему счастью, оказался на цепи. Он метался между сторожкой и своей треклятой будкой, то прыгая на нее, то порываясь к нам.
– Эх, пропали! – шепнул Федя. – Пойдем от черта подальше.
– Хорошо хоть на цепи он, – вздохнул я.
– Его нельзя выпускать на волю. Это самая страшная собака в округе. Волкодав. Она два раза срывалась с цепи. Все прятались от нее куда попало. Насилу поймал ее сам хозяин Тарасов. Одичала совсем.
А собака – будь проклята! – все выла и выла, надсадно, страшно, как к пожару.
– Хоть бы знать, как ее зовут. Ты небось, Федя, знаешь?
– Как-то чудно помещик ее прозвал. Кажись, Архимед. А что это обозначает – никому не отгадать. Но это делу не поможет. Хоть ангелом ее назови, все равно близко к ней не держись. Отойдем подальше. Вот туда… А это что? – вдруг остановился Федя и указал на дом.
В одном из окон сквозь еле уловимую глазу щель в шторе прорезалась желтая полоска света. Мы замерли. Невольно схватили друг друга за руки.
Свет то мелькал, то скрывался, будто кто-то, проходя, загораживал его тенью. И что-то зловещее было в его мелькании.
– Может быть, Василиса? – шепнул Федя.
– Возможно, – согласился я. – Но… что же мы стоим?
Не сговариваясь, мы легли в мокрую траву и поползли к окну, не спуская с него глаз. Окно – рядом с парадным крыльцом. На высокое крыльцо вело несколько ступенек.
Мы ползли, а кобель Архимед все выл.
От напряжения мне резало глаза. Френч на животе был пропитан росою и тянул книзу. Наган во внутреннем кармане болтался, бил в грудь. Бинт на руке намок, развязался и мешал ползти, я наступал на него коленкой. Наконец сбросил его. На какой-то момент щель в шторе расширилась, видимо, кто-то подошел к окну. Мы плотно прижались к траве, затаили дыхание. Меня тряс озноб.
Тень мелькнула, скрылась.
Собака перестала выть, и стало тихо-тихо, только из села доносилось пение петухов. И в этой наступившей тишине мы вдруг явственно услышали свой собственный шорох. Нет, пусть бы Архимед выл, рычал. Это было бы нам кстати. Иначе нас могут услышать.
К счастью, лохматый Архимед вновь взвыл. Наверное, он отдохнул. И снова нам не слышно собственного шороха. Только сердце стучит.
«Ну, вой же, вой во все свое собачье горло», – пожелал я. Архимед, взвизгнув на самой высокой ноте, лениво начал брехать. Вот и окно. Но как встать и заглянуть? Под ногами щебень, куски дерева. Я поцарапал раненую кисть руки, видимо, о гвоздь или о сучок. Чувствую, что поцарапал здорово. От росы рану защипало.
Возле самого окна мы остановились, чтобы передохнуть и угомонить биение сердца. Мы не шептались, мы и так понимали друг друга.
Я кивнул Феде на крыльцо, и он догадался: если кто выйдет на него, нам несдобровать, подстрелят. Потом я кивнул на окно и показал на себя, давая понять, что встану и загляну в щель.
Неслышно, как тень, опираясь больной рукой о выступ фундамента и стараясь, чтобы не хрустнула доска, я медленно начал вставать.
Сначала встал на одно колено, затем на другое и дотронулся до курчавой резьбы наличника. Потом тихо и тяжело начал подниматься. Вдруг хрустнуло в коленке, и мне показалось, что поломалась доска, и я чуть не вскрикнул с испуга.
Вот и щель. Глянул в нее и отшатнулся, замерев.
Осторожно, не прислоняясь к стеклу окна, вновь поглядел.
Первым увидел сухощавого с седой окладистой бородкой и пышными усами старика. Я решил, что это и есть добродетельный помещик Тарасов. Он сидел за столом у дальней, глухой стены. Справа и слева сидели еще двое. Один в расстегнутом френче, низко нагнувшись. Видимо, охмелев, он дремал. Второй, в очках, одутловатый, что-то говорил, размахивая рукой, в которой держал ременный стек. Этого я признал сразу. Васильев, бывший воинский начальник при земской управе. Еще зимой мы схватили его на восстании в Маче и отправили в губернский город. Как он очутился здесь? Кто его отпустил? Может быть, бежал?
На столе бутылки. Помещик, слушая, лишь головой кивал. Наконец задремавший гость поднял голову. У меня подкосились ноги – то был Жильцев. Он был пьян, но не слишком. Они о чем-то заспорили. Васильев принялся хлестать стеком по столу. Тарасов умоляюще замахал на него руками и показал в угол. Значит, еще кто-то есть. Скоро к окну двинулась тень, и почти нос с носом я встретился через стекло с Егором Полосухиным. Отодвинув штору, он посмотрел в окно, затем отошел и сел на кресло возле шкафа.
«Хоть бы слово услышать!»
В комнату совершенно спокойно с подносом в руках вошла Василиса. Расставила на столе тарелки, затем, скрывшись, вновь появилась и внесла огурцы, дымящееся мясо, лук, хлеб.
Когда она входила, разговоры прекращались.
Тарасов что-то крикнул ей вслед. Затем к столу из того же угла, где сидел до этого Полосухин, хромая, прошел молодой человек. Уж этот-то знаком мне. Значит, Ванька Жуков или успел выспаться, или совсем не ложился, а прямо от своих будущих родных прохромал сюда.
«Так вот ты еще каков, дружок!»
Снова вошла Василиса, и на столе прибавились две бутылки, большие квадратные, будто из-под керосина. Это были старинные штофы.
Мне стало ясно. Хотел было отойти – ведь пора встречать Ивана Павловича, – но услышал откуда-то снаружи тихий стук. Тарасов быстро встал и качающейся походкой направился в ту дверь, откуда выходила Василиса. Там дверь на кухню. Опять стук издали. И, кажется, скрип колес, фырканье лошади. Услышал это и Федя. Он поднял голову. Я ему кивнул, он пополз по канаве.
А в это время я глаз не спускал с сидящих за столом. Они настороженно ждали хозяина.
Скоро он вошел, а с ним вместе – этого я никак не ожидал, – вместе с ним тучный старик Климов и председатель Бодровского сельсовета. Председатель нес два жбана, точь-в-точь такие же, какие Андрей захватил тогда у них в салотопне. Все весело поздоровались и сели к столу. Стало быть, вот для кого фабриковали самогон в салотопне.
Председатель был выпивши и сразу начал что-то рассказывать, но Васильев погрозил ему стеком. Председатель, все так же улыбаясь, полез в карман, вынул две бумажки, одну подал Васильеву, вторую – Жильцеву. Как ни было это далеко от меня, но я заметил, что на бумажках были штампы и печати.
«Подложные документы!»
Снова кто-то подошел к окну и, полуоткрыв штору, взглянул наружу. Я прижался к стене. Свет из щели брызнул на улицу. Через некоторое время он исчез.
Из-за угла показался Федя и принялся махать мне, чтобы я шел к нему. Пришлось лечь и ползти по канаве. Опять взвыл Архимед.
Федя взял меня за руку, и мы, полусогнувшись, пошли вдоль стены к углу дома.
– Вон, – шепнул Федя и указал по направлению к какому-то сараю или омшанику.
Там стояла лошадь, впряженная в телегу, на телеге лежала куча травы. Лошадь была привязана вожжой за столб, под морду брошен корм.
– Есть кто там? – спросил Федя, указывая на дом.
Я рассказал, что видел. Федя, посиневший от холода, дрожал.
– А чья это телега? – спросил я.
– Не знаю… Пойдем… вон туда.
Мы тихо добрались до сарая. Дверь была полуоткрыта.
В сарае валялись поломанная мебель, щепки, дрова и три улья. Один улей лежал возле окна.
От дома послышались шаги и звук, похожий на тот, когда несут колотые сухие поленья дров.
Федя встал на улей. Слышно было, как кто-то, тихо говоря, подошел к телеге. Послышался шорох раздвигаемой травы. Затем в телегу что-то начали складывать.
– Винтовки. Считай, – шепнул Федя.
Винтовки укладывали бодровский председатель, Жуков, Тарасов и Жильцев.
Уложили быстро, сверху еще накрыли травой. Вышли Полосухин с Васильевым.
Полосухин нес два оцинкованных ящика. И это уложили на телегу.
– Езжай гумнами, – посоветовал Жильцев, – а там вдоль реки.
– Стало быть, седьмого? – хрипло спросил председатель.
– К пяти утра. У моста вас встретят.
Потом Жильцев, поправив очки, строго спросил:
– Надежные?
– Все равно им деваться некуда. Дезертир – он и есть дезертир.
– Пока в руки им это не давай, – указал на телегу.
Подвода, скрипя колесом, тронулась… В саду снова взвыл Архимед.
– Пошли! – приказал Жильцев.
И все направились обратно в дом. Сзади тяжело плелся Климов.
«Жаль, – подумал я, – не расстреляли тебя в прошлом году вместе с сыном».
– Что теперь делать? – спросил Федя.
– Василису повидать.
– Как?
– Не знаю как, а надо. Ты вот что, Федя, оставайся, а я пойду встречать наших из города. Сам повидай Василису и спрячься, подглядывай.
– Выпить бы! – пожелал Федя.
– Попроси у Василисы. А то простынешь.
Садом, а затем гумнами вышел я в обход на ведущую в город большую дорогу.
Как спать хочется! Все тело ноет, а мокрые ноги горят, во рту пересохло. Вот чья-то копешка сена стоит на гумне. Эх, зарыться бы в нее! Или хоть посидеть. Но я знал, что едва сяду, как сразу усну. И все же сами ноги потянули к ней. Ну, если не посидеть, так постоять прислонясь.
И, когда добрался до копны, разулся, вытер о сухое сено ноги, постелил в ботинки, потом закурил, чтобы не дремать, как вдруг заныла рука. А я совсем забыл про нее. Посмотрел на кисть – она в грязи, ссадинах и застывшей крови.
«Заражусь, – мелькнуло в голове. – Чем бы промыть?»
Не раздумывая, подошел к густому придорожнику и росой принялся мыть и оттирать кисть. Она совсем окоченела, решил погреть ее под мышкой. Стало теплее.
Снова забрался в сено. Нет, не усну. Да они же поедут мимо меня. Неужели не услышу? Нет, не усну, не усну.
…Проснулся я, сам не зная почему. А может быть, и не спал, а только дремал и этот грохот телег донесся до меня.
Они гнали рысью. Не показываясь им, я прижался к сену.
Ехали на трех подводах. На передней правил Василий Брындин, по прозвищу Брында. Богатырь, когда-то первый кулачный боец в уезде. С ним два красноармейца. На второй – Иван Павлович Боркин, предчека. И у него на телеге люди.
На третьей… на третьей, ба, мой друг, одноглазый Филя, мой односельчанин. Начальник увоенкома из ефрейторов.
Первая подвода поравнялась со мной. Я поднял руку. Брындин натянул вожжи, лошади перешли на шаг, затем остановились. И остальные тоже.
– Честь имеем явиться! – Иван Павлович подошел ко мне и приложился к козырьку кожаной кепки.
– Явились в полное ваше распоряжение, товарищ генерал. – Это уже мой друг Филя. И тоже отдал честь.
«Ах вы, черти! Шуточки вам!»
– Вольно, – сказал я.
Последним подошел Брындин, заместитель Ивана Павловича. Он молча подал мне два пальца, так как всю его гигантскую ладонь я бы не охватил своей.
– Здорόво, друг!
– Здравствуй, Василий!
Если Филя был выше меня на голову, то Брындин был выше Фили на полторы головы. И, невзирая на такой гигантский рост, на широченные плечи, на огромное скуластое рябоватое лицо, на котором и рябинки-то были каждая с копейку, Брындин обладал удивительно тонким, почти детским голоском. Казалось, ему бы реветь быком, а у него голос нежный, словно у младенца. А когда он обозлится и возвысит голос, то уже получается пронзительный звенящий писк, который режет уши. Серые узкие глаза его уходят под крутые надбровья, лицо становится бордовым, рябинки белеют, и чуть приплюснутый широкий нос, больше в ширину, нежели в длину, совсем сливается с лицом.
Страшен бывает Брындин в такие моменты. Все крупные дела по усмирению восстаний Иван Павлович поручает ему, на все опасные операции по арестам едет Брындин.
Что там ему подковы гнуть? Он их просто ломает, как баранки. Он лом гнет через колено и вновь разгибает его.
Вот какой Брындин, заместитель предчека!
Закуривая, я наскоро рассказал им обо всем, что здесь произошло. У них глаза загорелись. Брындин, слушая, грузно переваливался с ноги на ногу, и казалось, ноги его уходит в землю.
– Вот что, – начал я. – Будем осторожны. Может быть, они и спят, а может, кто-нибудь караулит. Всем вместе идти не надо. У них оружие. Теперь дальше…
И я им рассказал о председателе Бодровского сельсовета, который с полчаса тому назад повез в свое село винтовки с патронами.
– Он не может уехать далеко, – добавил я, – но надо догнать. Поехал не прямой дорогой, а гумнами, потом вдоль реки. Слышишь, Филя?
– Молчи, Петя. Поеду сам.
– Возьми одного красноармейца, – посоветовал Иван Павлович.
– Друг, – обратился я к Филе, – дороги ты знаешь тут не хуже меня. Тебе надо не по его следу ехать, а перехватить. Выехать как бы навстречу. Завидишь, не гони сильно. Может побросать винтовки в хлеба. Там яровое поле. Встретишься – не доезжая, остановись и поправляй что-нибудь в сбруе, в телеге. Может, чекушку потерял Остановится он – подойди, попроси, нет ли запасной у него. Закурить у него попроси или сам предложи. А еще…
– Да что ты ученого учишь! Время только зря проводишь, – рассердился мой друг на такие наставления и побежал к подводе.
– Эх, зря он в шинели! – посмотрел я вслед Филе, на котором была длинная кавалерийская шинель, которую он почему-то любил.
– Ничего, – сказал Иван Павлович. – Веди нас в гости.







