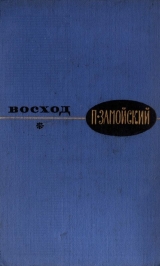
Текст книги "Восход"
Автор книги: Петр Замойский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
– Парня твоего женить собираемся!
– А где невеста? – Андрей блеснул глазами и разгладил бороду.
– Невеста без места, жених…
– Ну-ну, – перебил Андрей. – Такого жениха нигде не сыскать. И Петру Иванычу не в деревне невеста, а в губернском городу, а то в самой Москве.
– Дядя Андрей! – крикнул я на него. – Молчи!
Но молчать он не привык. Подняв лицо вверх, словно в небо прогремел:
– Он зарок себе дал: не жениться до полной революции по всей земле.
– И на Марсе, – добавил я.
– Вот какой парень. Ему ужо двадцать два года вчера сравнялось. Верно?
– Ты же оракул, борода. Ну-ка, давай поедем.
Мы попрощались и пошли к подводе. Женщины, о чем-то споря, отправились полоть просо.
Пока мы ехали до Горсткина, Андрей все время что-то рассказывал, а я ничего не понимал и даже не слышал его совсем, лишь изредка поддакивал.
– …Из Сибири он, лось-то, бежал. Из тайги. Пожары там были. Весь день гоняли за ним верховые. А какой прыткий! Из леса да обратно в лес. Все в ле-ес…
«Зачем же, зачем я затеял этот разговор с полольщицами? – твердил я себе, не слушая Андрея. – Нет, не будем заезжать в Горсткино, не надо встречаться с Леной. Для чего бередить почти зажившую рану? Для чего омрачать свою молодость, когда вместе с товарищами, как говорит Шугаев, „мы двигаем революцию на века вперед“?»
Хороший человек Шугаев. Строгий, справедливый, умный и, когда надо, беспощадный. Даже к нам, уездным работникам.
Он работал в Питере на Путиловском, где Никита, продотрядчик. Вместе с путиловцами и матросами брал Зимний дворец. В Смольном видел Ленина.
Пусть Степан Шугаев кое-кому не нравится, особенно левым эсерам, которые дали слово работать с нами вместе и вошли в совдеп. Тем более не нравится Шугаев, да и мы все, большевики, желтоглазому, очкастому учителю, вожаку левых эсеров в уезде – Жильцеву. Он – начальник милиции. И доморощенному анархисту, местному жителю, грубому, бесцеремонному Васькину. Он – заведующий типографией. И чернобровому красавцу с поджатыми тонкими губами, сыну городского торговца-мясника Аристову. Он – заведующий здравоохранением…
С первых же дней после первого уездного съезда Советов они почуяли друг друга и незаметно объединились. На заседаниях, на собраниях, на митингах они никогда не сидели рядом, зато не было вопроса, по которому не выступали бы против нас, особенно против председателя совдепа Степана Шугаева.
Не раз говорил нам Шугаев: «У нас, товарищи, пока коалиция. Хотя мы и большинство, но надо быть начеку. Со временем вышвырнем их, левоэсеровских лягушек, и подберем крепких, надежных руководителей».
Так думалось мне, когда мы под тихий скрип колес ехали в Горсткино. Скоро и оно показалось нам с крутого взгорья. Видна пятиглавая церковь с отдельно стоящей колокольней. На лугу лениво машет латаными крыльями одинокая ветрянка, принадлежащая Федоре и ее мужу Егору. Влево от моста – волостной исполком под зеленой жестью, напротив него – высокое здание лавки потребительского общества. Здесь же, на площади, пожарный сарай.
Как все это мне знакомо! Но я не ищу уже той крыши, где на трубе, продолжая ее, был черепичный молочный горшок. Не ищу, а сердце замирает. Томительно и горько.
Раньше, бывало, подъезжая к селу, я готов был, если бы у меня были крылья, перелететь с бугра через речку, чтобы только встретить ее, заглянуть в голубые глаза. Теперь – нет. Чувство обиды и необъяснимого стыда перед чем-то охватывает меня.
Начался резко крутой, как по стене глубокого оврага, спуск на мост. Андрей взял «холеру» свою под уздцы. Телега, хотя и не тяжелая, напирала сзади, передком ударяя лошадь по ногам.
Лошадь шла тихо. Виден только ее круп. Голова где-то внизу. Хомут совсем съехал, шлея под хвостом натянулась до отказа и готова лопнуть. А вот уже и знакомый ветхий мост.
Я услышал громкие голоса поблизости. Кричали все сразу, огулом.
Услышав этот гвалт, Андрей остановил лошадь на мосту. Поправляя хомут и шлею, он указал холудиной по направлению к волисполкому.
– Слышишь, Петр Иваныч?
– А как же, слышу, дядя Андрей.
– И тут базар.
– Это не базар, борода.
– Что же?
– Настоящая революция пришла в деревню. Видать, комбед организуют или что.
Глава 10
Мы поднялись от моста, въехали в улицу. Я спрыгнул с телеги, пошел сзади. Андрей оглядывался на меня с непонятной мне опаской. Он шел обок с лошадью и изредка молча взмахивал на нее холудиной.
Никто на нас не обратил внимания. Мало ли ездит по этой дороге разных людей. Да и не до того было людям, собравшимся здесь перед волсоветом. Они кричали по-прежнему, а о чем – трудно разобрать.
Все луга, лесные и заливные луга вдоль реки перешли крестьянам от помещика Тарасова.
Сам Тарасов жил в своем имении, и его, как и Климова, никто не трогал. Больше того, Тарасов вызвался работать садоводом.
По словам Тераскина, заведующего земотделом уисполкома, жителя этого села, помещик у них добрый, людей не обижал, и не так богат, как другие. Тем более – он уже старик, вдовец.
Говорили, что у него до революции были даже обыски и находили тонкие книжки в красных обложках. И еще был слух, что Тарасов в молодости состоял в какой-то революционной организации.
Все это пришло мне на память сейчас, пока я стоял возле пожарного сарая, вслушиваясь в гвалт, и старался понять, о чем кричат.
Но узнать ничего не удалось. Кричали десятки людей. Казалось, никто никого не слушает и друг друга не понимает.
Толпа народа разделилась на отдельные группы. Некоторые сидели на ступеньках волсовета, на бревнах, возле палисадника, другие – под навесом кооператива. Часть забралась в пожарный сарай, где уселись кто на дроги с баграми, кто на бочки, кто на дрожины рядом с насосом.
Я тронулся вслед за Андреем. Пора где-нибудь остановиться.
Лучше бы вообще проехать мимо этого села и приютиться в следующем, где при дороге есть чайная, в которой всегда проезжие узнают все новости.
Андрей нашел подходящую избу, отпряг лошадь и ввел ее под навес.
– Что там за крик? – осведомился он, прищурившись.
– Не разобрал.
– Эх ты, начальник! А я разузнал.
– Ты, борода, хитрый. Что же разузнал?
– Вот закусим и сходим вместе.
Он бросил лошади травы, убрал сбрую и, подмигнув мне, отправился в сени.
Вскоре он вышел и позвал меня.
В сенях женщина накрывала стол. Что-то очень охотно начала она ухаживать за нами. А Андрей перебрасывался с нею какими-то загадочными словами. Женщина так же загадочно отвечала ему.
«Ишь старый, – подумал я, – не любовь ли ты закрутил здесь? Молодость, что ль, свою вспомнил? Недаром про твои прежние похождения разные слухи до сих пор ходят по селу. Да ведь ты, черт, и сейчас красив».
Женщина между тем вышла во двор. Андрей тоже вышел, но не во двор, а на улицу.
Я остался один и начал осматривать сени и все, что в них было. Сени небольшие. В углу – деревянная кровать. На ней вместо матраца лежала солома, укрытая самотканой холстиной, сверху самотканое же одеяло, две подушки в ситцевых наволочках.
Здесь же в сенях чулан с дверью, к двери придвинута ступа; в углу грабли, на крючьях висят косы.
Небольшая куча кизяков, а над ними соломенные гнезда. В одном из них сидит желтая курица.
Все обычное и привычное.
Вернулся Андрей. Он нес початый им зеленый бидон. С самым серьезным лицом опустил его на пол, а затем, будто не доверяя кому-то, сунул под кровать. Взглянув на меня, погрозил пальцем.
– Грешно, дядя Андрей, Покарает бог.
– За что?
– Через тебя люди под суд пойдут.
– Вон-на! Спасибо скажут. Эдака улика была против них.
– Какая улика? Кто их уличит, если сам председатель с ними заодно?
– А-а ну их! – безнадежно махнул Андрей рукой. – Всех самогонщиков не переловишь.
– Ты что же, против борьбы с ними?
– Зачем против! За борьбу. Их, идолов, стрелять бы надо. Вот я какой! Ну-ка, где у них кружка?
– Начинаешь борьбу?
– Я хозяйке обещал. Ты гляди, чего она принесет нам.
Хозяйка принесла в фартуке огурцы. Да какие огурцы!
– Ешьте, свои.
– Спасибо, – ответил я и кивнул Андрею, чтобы он ее угостил.
– Н-ну, не знаю, что ль, порядка?
Она выпила и закусила. Присев на кровать, внимательно посмотрела на меня. И, так же как полольщицы в поле, заявила:
– А ведь я тебя знаю.
Андрей поперхнулся и закашлялся. Я уставился на женщину.
– Не признал меня?
– Нет.
– Эка память-то у тебя. Да ведь я Катерина.
Она говорит, а я смутно начинаю вспоминать. Но она ли? Та была убитая какая-то, с бледным лицом, плохо одетая, а эта веселая, и глаза…
– Так ты… сестра Лены?! – воскликнул я. – Да я тебя по глазам-то и узнал. Ведь у вас с Леной одинаковые они. Андрей, – обратился я к ошарашенному Андрею, который как раскрыл рот, так и не мог его закрыть. – Налей-ка нам, Андрей, за свиданье.
– А на собранье не пойдешь? – опасливо спросил он.
– Обязательно пойду.
Хотя голова закружилась у меня, но мысли стали острее и яснее. Вспомнив разговор на поле, я чуть не спросил, правда ли, что говорят люди про Лену, но воздержался. Пусть сама, если хочет, рассказывает. Но она молчит о Лене. Вновь принялась ругать свою сестру Федору за ее зазнайство, за гордость, за черствый характер.
– И в кого она такая уродилась? – спросила Екатерина. – Мать у нас добрая, отец тоже был хороший, а она выродок. Видать, у мужа научилась. Вот вы ехали. Слыхали шум?
– Что там за собрание? – спросил я.
– Третий день кричат. Комитет какой-то хотят выбрать, а не выходит.
– Бедноты?
– Вот-вот.
– Что же, народ против?
– Зачем против. Кто уж больно против, это муженек Федорин – Егор. А мой Алексей за комитет. Вот и сцепились два зятя людям на смех. Ведь, коль будет комитет, мельницу-то отберут! И хлеб, который он рассовал вроде на храненье да сам припрятал, и это отберут. Только председатель в волости у нас слабоват. На эту вот, – указала она на кружку с самогоном, – падок. И все за чужой счет. А зятюшка с Федорой не жалеют, подпаивают его. Да еще какого-то дурака из уезда прислали. И он глохтит. Ему и пить охота – и дело поручено. А как дело делать, если зенки налил? Вот что у нас идет. В других селах давно хлеб у богатеньких выгребли да увезли на станцию и свою бедноту не забыли. А у нас…
И начала рассказывать обо всем, что она знала и о чем не сразу узнаешь в селе, если нет верного человека.
– Ну, а вы-то как числитесь, – спросил я, – середняки или бедняки?
– Середняки теперь. Лучше стало. А мужик мой на фронте был, раненый пришел. Он теперь в волости по земельному делу. Нет, ты сходи на собранье.
– Ну, а как… Лена? – все же решился я спросить.
– А что ей! – вдруг махнула рукой. – Ну ее!
– Свадьбу-то отложили? – задал я наугад еще вопрос.
– Двое к ней пристают.
– А она?
– У нее своей воли нет. Что скажут, то и делает. Бесхарактерная.
Наступило молчание. Андрей слушал, был серьезен.
– Это плохо, – сказал я, – если такая она. Я-то думал – она совсем другая.
– Только что красива. Да я не осуждаю Ельку. Я люблю ее. Она не чета Федоре. Но уж что правда, то правда: и тихоня она какая-то, и, не надо таить, неохотлива к работе. Ей бы барыней быть. Избаловала ее мамка. Как чуть: «Елька, я сама… Елька, не надо…» Говоришь матери, а она одно: «Погоди, вот выйдет замуж – наработается».
«Да, здесь-то говорят правду, – подумал я. – И говорит сестра».
– Так что же? Значит, я не знаю Лены? Пленился ее красотой? И все же – нет! Даже сестре не хочется верить. Чтобы не терзать свое сердце, я не стал больше говорить о Лене. Спросил о Саньке.
– Эта боевая. Совсем не похожа на Лену.
– И тоже… ленивая?
– Что ты! Все в руках кипит. И уж на ком бы тебе жениться, как сестра, прямо скажу – на Саньке. Не пропадешь.
Невольно покраснел я. Вот чего и в голову не приходило. Да, я помню ее, шуструю, лицом схожую с Леной, ее быстрые ответы, живые движения. И помню, как однажды, год тому назад, мать их, когда девчат не было дома, со вздохом сказала мне: «Петя, женись ты лучше на Саньке. Года ей тоже вышли». – «Что ты, тетя Арина! Ведь я Лену люблю». – «Понимаю я, а мой совет такой. Она немножко озорна. Ну, образумится. Зато ни тебя, ни себя в обиду не даст».
Тогда я пропустил мимо ушей такое странное предложение матери, а теперь, ровно через год, слышу то же самое.
– Нет, Екатерина, я и так жениться скоро не буду. Что было, то прошло. Лену я любил. Время сейчас какое! Пожалуй, и любить-то некогда.
Тут вступил в разговор Андрей, как бы просыпаясь.
– Он обет пророку Илье дал, – начал Андрей, – до всемирной революции не обзаводиться семьей.
– Аминь, борода! – подтвердил я своему старому другу.
Он захохотал.
– В Баку собирается ехать Лена. С Ванькой-сапожником. Это Федора все подделывает. Ванька-то, сосед ее, задарма шьет им башмаки. И Федоре шьет. Старается.
– Что ж, счастливый путь! – произнес я.
– Брат у Ваньки в Баку на промыслах. Вот и его туда зовет. На войну-то все равно хромого не возьмут.
– А второй, который сватает, кто?
– Гармонист Ефимка.
– Который из них лучше?
– По лицу-то ей больше, видать, Ефимка нравится. Он и на гармони хорошо играет, и умный вроде, да хулиган. Ваньке здорово всыпает за Ельку. То дерутся они, то вместе ходят, а Елька в середине.
Замолчали, Издали все еще доносился крик с собрания и откуда-то песни. Сквозь дверь, в щели, пробивались солнечные лучи и длинными полосами падали на земляной пол и на стол, освещая вьющуюся, невидимую простым глазом, мельчайшую пыль.
Андрей задремал и склонил голову. Екатерина, кивнув на него, засмеялась.
– Уморился старик.
– Мы ведь с ним как-то заезжали к вашим.
– Я знаю. Я каждый раз приходила, когда ты заезжал. И все село знало про тебя. Разве тут скроешься. Тебя так и считали: «Елькин жених – Петька из Леонидовки».
Помолчав, я спросил:
– Ну, а Лена-то никогда обо мне не вспоминала?
– В первое время говорила с матерью, даже ругалась. Потом письмо они тебе со снохой Анной составляли. В город с дядей Витеней посылали, а он тебя, слышь, не нашел.
– Мне Федора об этом говорила, когда я Егора арестовал.
– Вот Федора-то и натравила всех на тебя. Расписала, какой ты злой. Как будто ударил ее револьвером и чуть не убил Егора. Еще говорила мамке с Елькой: «Только попадись такому, в чахотку вгонит. Он, слышь, самый злой большевик. И я, слышь, с ним родниться не желаю, а вы, если не дорога вам Елька, отдайте ее зверю на растерзание!»
– Разговор ее пустой. Но вот Лена? Не думал я, что она такая, как ты говоришь.
– Плохого я ничего не говорю, Петя, но вижу тебя и знаю ее. Любовь-то она любовь, а только как бы после каяться не пришлось.
Кто-то постучался. От испуга с нашеста сорвалась курица и громко закудахтала. Проснулся Андрей, оглянулся.
Екатерина открыла дверь. Вошел человек. Уставился на меня и воскликнул:
– Петя?! Это ты приехал? Здорόво!
Передо мною стоял Федя, двоюродный брат Лены.
Был он некрасив, с широким скуластым лицом, на котором проступали крупные серые пятна, с большим носом и серыми глазами навыкате. Но, несмотря на все это, лицо его мне нравилось, улыбка казалась хорошей, а главное, нравилась в нем самостоятельность, смелость. Кроме того, он был, если можно так сказать, «осадистый», на крепких, широко расставленных ногах. И говорил увесисто, придавая каждому своему слову ту неоспоримость, которая свойственна только людям большого жизненного опыта, хотя Феде было всего года двадцать три. Он рано осиротел и, будучи самым старшим среди братьев и сестер, взялся править хозяйством.
Федя хорошо владел топором и прочими плотничными инструментами, знал он и печное мастерство. Словом, был из тех, которые при нужде на все руки. У него была смекалка на всякое дело, и в руках его, как говорят в народе, «все яглилось».
Я, слегка охмелевший, радостно усадил Федю и кивнул Андрею. Мы чокнулись и выпили за здоровье друг друга.
– У меня сердце чуяло. Глянул – едете, – говорил Федя отрывисто. Это тоже его отличительная черта.
– Что у вас там? – кивнул я в сторону.
– Э… комитет… Ну, никак… Прислали тоже… Хуже не было… Дурак… Пьет…
Он рассказал то же, о чем мне поведала Екатерина.
Мне было понятно. Пьяный уполномоченный и такой же пьяный предволсовета созвали общее собрание всех крестьян. А уж если на собрание пришли кулаки, то никакого толку не получится. Хуже того. Если докладчик доходчиво не сумеет рассказать, не ответит на каверзные вопросы, его не только высмеют, но и прогонят с собрания. Этим он напортит не только себе, но и тому, кого пришлют позже. Кулаки заранее подготовятся, подговорят еще кое-кого, подкупят, а тем временем хлеб свезут на продажу или спрячут получше.
– Да, Федя, начали вы не с того конца.
– Ты… придешь?
– Конечно. И даже сейчас, пока светло.
– Пойдем… вместе…
– Нет, ты иди пока один, а я после. Незаметно. Мне надо послушать, узнать, кто горлопанит.
– И я с тобой, – вдруг вызвался Андрей.
– Без тебя, борода, не обойтись, – согласился я.
Проводив Федю, мы спустя некоторое время вышли с Андреем.
Возле ветхого приземистого здания, в котором раньше было волостное правление, стоял продолговатый стол, а по обеим сторонам скамейки. Но на скамьях, за исключением секретаря, никто не сидел.
Перед столом стояли председатель Оськин, маленького роста, с хитрыми глазками, с небритым лицом, а с ним рядом, опершись руками о стол, уполномоченный Проскунин, инструктор здравотдела. Большого роста, сутулый, с тощим лицом, прилично одетый, он стоял, опершись на стол длинными руками.
Едва рев голосов начинает стихать, Проскунин выпрямляется, поднимает руку и хриплым голосом что-то выкрикивает. Но не успевает он и фразу закончить, как снова поднимается рев.
С одной стороны, жалко мне его: он храбрый, а вот тут скис. С другой стороны, так ему и надо. Проскунин редко выезжал на места, большого труда стоило «выгнать» его в деревню, он охотно ездил только в больницы, где ему не было отказа в спирте.
Я с ним не дружил. Он был заносчив, и когда приходилось с ним говорить, то отвечал покровительственно, со снисходительной улыбкой, а то и совсем не отвечал.
«Пусть выпутывается, – подумал я. – Не буду выручать».
Вот еще что-то крикнул Проскунин, и, видимо, такое, отчего вдруг все умолкли. Когда он начал говорить, стуча кулаком по столу, меня проняла дрожь.
– Вы кулаки, все ваше село! – кричал он. – Вы саботажники. Вас половину надо из пулемета расстрелять! Вы…
Ему не дали договорить. С ревом, свистом, с матерной руганью двинулась на него толпа. Страшные лица, угрожающие крики, крепко сжатые кулаки, а у иных уже в руках палки.
– Петя, – обратился ко мне Федя, – убьют они его. Я знаю… своих мужиков.
– Бока-то не мешало бы ему помять.
– Кулаки в драку не вступят… Они вон… в сторонке. Отвечать кому?.. Выступи.
– Что ты, Федя! Разве можно сейчас выступать!
– И так нельзя. Ты гляди… гляди…
К Проскунину уже подбежали несколько мужиков, готовых наброситься на него, а он с серым лицом пятился к крыльцу волсовета. Когда он ступил на крыльцо, один из самых оборванных и въявь пьяных мужиков схватил его за полу пиджака. Он, видимо, хотел стащить Проскунина с крыльца, но внезапно получил такой удар сзади, что стукнулся затылком о притолоку, упал и крикнул:
– Убивают! Люди-и!!
Между тем Проскунин скрылся в сенях волсовета.
Все это произошло очень быстро. Мужик поднялся и принялся ругать уже не Проскунина, а того, кто его ударил. А кто его ударил – он не знал.
Председатель волисполкома, с которого соскочил весь хмель, забрался на крыльцо и закричал истошным голосом:
– Да вы что, а? Чего надумали? Да за это вам… а мне первому. Мне, мне! – ударял он в грудь кулаком. – А потом уж вам. Кого вы натравили? Подпоили и выпустили пьяную… растяпу. Лагутин первый ответит. Это его батрак. Ишь расхрабрился за хозяина. Сколько ты спрятал его хлеба у себя, говори! А ты, Григорий, что орешь? Кто тебя трогает? Ты середняк…
Эти слова несколько отрезвили мужиков.
Тем дело и кончилось бы, но председатель, начав хорошо, снова все испортил. Сойдя к столу, где сидел старичок секретарь, он громко произнес:
– А теперь давайте за дело. Намечайте сами, кого изберете в комитет бедноты. После мы составим группу бедняков.
На свежую рану он плеснул раскаленным маслом. Вновь все взбудоражились. Теперь кричали задние, пробираясь вперед. Сзади, как мне шепнул Федя, стояли зажиточные, а вперед они выставили бедноту, чтобы кричала она. Когда передние накричались и устали, кулаки, видя, что дело плохо, взялись за свое, но скрываясь. Они двинулись вперед.
– Иди, – шепнул мне Федя, – а то опять…
– Пожалуй, пора, – согласился я. – А ты?
– Вместе пойдем.
Андрей, который прижался в испуге к ящикам, начал меня отговаривать и даже схватил за рукав.
– Чего тебе-то надо? Это чужое село. Еще убьют ни за что ни про что. Убьют – а что мне твоя мать скажет? «Не укараулил!» Ведь я за тебя ответ должен понесть!
Он говорил чуть не со слезами. И мне стало жалко Андрея, я почувствовал, какой он мне хороший друг. И не сомневался, что, если набросятся на меня, он первый пойдет на выручку.
– Дядя Андрей, ты тоже шагай, не отставай!
– Да не отстану, что ж делать. Говорю, закипело в народе.
Обходя орущих мужиков, мы добрались до крыльца. Первым поднялся на него Федя. Мы с Андреем остались внизу. Федя что-то зашептал Оськину. Тот обернулся, посмотрел испуганными глазами на меня и, махнув на мужиков, пошел ко мне навстречу. Как ни в чем не бывало мы пожали друг другу руки и вместе поднялись на крыльцо. Сзади, тяжело вздыхая, шагал Андрей.
При виде чужих людей собрание немного стихло. Появление незнакомцев вызвало у мужиков интерес.
Послышались вопросы:
– Это кто?.. Чьи?.. Откуда?..
Им кто-то ответил, но что – не было слышно.
В наступившей тишине открылась дверь из сеней, и Проскунин, как заяц из застрехи, выглянул на свет. Завидев его, некоторые весело закричали:
– Выходи, фершал, выходи!
– Не бойся, не убьем!
– Мы попугать любим!
Проскунин, насильно улыбаясь, вышел из сеней на крыльцо.
Но эти усмешки и на первый взгляд ласковые шутки были не так-то добродушны. Стоит сейчас намекнуть о комитете, как крестьяне снова взорвутся.
Проскунин, чего с ним раньше никогда не было, увидев меня, обрадовался и протянул руку. Я руки не подал, что хорошо заметили мужики. Это вызвало одобрение. Значит, я против Проскунина. Андрей подал руку Проскунину, и тот с готовностью пожал ее. Андрей бывал и больнице на приеме у фельдшера, видел его в белом халате. Уж в больнице-то Проскунин никому не подаст руки и даже головой не кивнет. Там он царь и бог.
– Вот что, товарищи, – обратился я, отходя немного в глубь крыльца, к Оськину и Проскунину, – собрание надо немедленно распустить.
– Почему? – удивился Оськин.
– Распустить всех до единого. Я говорю как член упродкома и уисполкома. Если хотите, просто приказываю. К вечеру созовите коммунистов. У вас есть ячейка? Или разбежалась?.. Есть? Хорошо. Говорить же сейчас не только бесполезно, но и вредно. Даже опасно. Не с этого надо начинать. А вечером все объясню. Объявляй, Оськин, а то народ опять начнет волноваться, – строго сказал я.
Мужики, отдохнув, снова начали шуметь. Они готовились дать нам отпор. Тут уж ничем их не возьмешь.
– Считаю собрание закрытым, – объявил Оськин. – Расходитесь по домам.
Это внезапное заявление мужики приняли с недоумением. Некоторые рты раскрыли – что такое? С места не двинулись. Тем более удивительно им, что стоят перед ними какие-то приезжие – один с бородой, второй во френче. Должны же они что-нибудь разъяснить!
– Почему так? – спросил стоявший впереди и оравший, как я заметил, громче всех.
– Вы устали, и мы тоже.
– Приказ, что ль?
– Да, приказ, – кивнул на меня Оськин.
– От кого? – крикнули из толпы.
Взгляды устремились на меня и Андрея.
– Уездна власть, – с непонятным торжеством в голосе заявил Оськин.
– А ежели мы не желаем расходиться? И кто такая уездна власть?
– Упродком, – вновь кивнул на меня Оськин.
– Упро-одко-ом? Теперь понятно. Это, стало быть, он прислал к нам фершала для расстрела?
– Он и раны сам залечит, только поднеси ему.
– Все они там пьяницы. Шпирт лакают.
– И грабители, – добавил тот, который сказал о расстреле. – Не иначе вот эти самые и приехали к нам хлеб грабить. Вон борода тоже. Обрезать бы.
– Ты сам борода! – не утерпел Андрей. – Давай мерить, у кого шире.
– Право, что грабители, – вступился рыжий мужик, вынырнувший из-за спин других.
Голос мне показался знакомым. Я начал всматриваться. Что-то знакомое. А-а, догадался. Так это он, голубчик! Егор, муж Федоры. Он, видимо, не узнал меня, хотя стоял неподалеку.
И громко, чтобы слышали все, задал вопрос:
– Много, дядя, у тебя ограбили?
– Пока нет, – сознался Егор, – а того гляди, охватят.
– Зачем же зря кричишь? Вот когда начнут, как ты говоришь, грабить, тогда ори так, чтобы в соседнем селе Тарханах было слышно.
Мужикам тихий мой, спокойный голос понравился. Они даже заулыбались, подталкивая друг друга.
– Но пока у тебя, уважаемый Егор Петрович, хлебные излишки для голодающих Питера не изъяли, помалкивай в тряпочку. И не теряй времени попусту, а прячь хлеб подальше. Вон закопай его под старый жернов твоей мельницы и никто не найдет, и дождь не промочит.
Не только Егор, но и все, кто стоял рядом с ним, так и выпучили на меня глаза. Мне как раз этого и надо было.
– А если есть желание, – продолжал я, – вступай в бедноту, и тебя, Полосухин, с радостью изберут председателем комитета. Очень будет выгодно для твоего хозяйства. Ни к амбару, ни к мельнице никто не подойдет. А весь хлеб, который ты собираешь со своей земли и с трех десятин арендованной, останется у тебя. Там еще, возле моста, просо поднимается на двух десятинах тоже арендованной земли. Травой оно заросло не так уж сильно. Пять твоих поденщиц дня через два закончат прополку.
Егор, совершенно потрясенный таким колдовством, попятился назад. Чтобы доконать Егора вконец, я перешел к другому:
– Ничему ты, Егор, не научился в тюрьме. Рановато тебя выпустили из Пензы. А может, и убежал? Я наведу справки. Узда, которой ты избивал солдата в Маче на базаре, и сейчас цела. Кровь на ней застыла. Она у меня. Приди возьми, а человеческую кровь смой.
Из толпы женщин, стоявших возле пожарного сарая, отделилась и подбежала мощная баба, рванула Егора за руку и что-то злобно зашептала. Егор так и разинул рот. Задом, задом начал отступать, а потом под смех мужиков бегом пустился наутек. Женщина еле поспевала за ним.
То была его жена, грозная Федора. Уж она-то узнала меня!
…Еще до собрания ячейки Оськин, Проскунин, Алексей – муж Екатерины, Федя, секретарь волсовета Егорычев и я собрались в волисполкоме. Со всей злобой обрушился я на Проскунина, затем на Оськина за их неправильное ведение собрания. Разъяснил, как надо было приступать к организации комбеда.
Составили список бедноты и кандидатов в комитет. Председателем наметили Федю. Все это надо провести на ячейке, а затем собрать одну бедноту.
Проскунин просил, чтобы его отозвали. На это ему резко я ответил, что он сам должен выправить дело и поменьше глотать самогона. Пригрозил, что, если самовольно бросит работу, пойдет под суд.
Сказал, чтобы заранее готовили амбары для ссыпки хлеба. В первую очередь – везти хлеб на станцию. Выдать самым нуждающимся в селе.
– В одиночку опросить бедняков, которые знают, кто где спрятал хлеб!
А на собрании ячейки я приглядывался, из кого она состоит. Шепотом спрашивал Федю. Он вкратце рассказывал о каждом. Это нужно и для укома. В уезде свыше пятидесяти ячеек, в них не меньше тысячи человек. Трудно каждого знать даже в лицо.
До самой полуночи шло собрание коммунистов.
Утром на следующий день мы с Федей осматривали амбары для ссыпки.
Вечером после ужина он внезапно предложил:
– Пойдем, навестишь Лену. Она, знать, дома.







