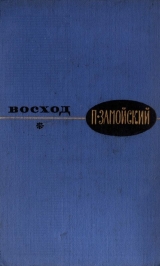
Текст книги "Восход"
Автор книги: Петр Замойский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
Глава 18
Егор с Федей шли впереди. Егор припадал на обе ноги, будто опоенная лошадь. Ясно, что он сильно трусил и у него от страха подкашивались ноги.
Сзади шли я и красноармеец Степан, а за нами Иван Павлович с Ванькой Жуковым. Шли мы вдоль гумен степенно, будто впрямь в гости. Да так Егор и объявил мужику, оправлявшему копну сена, который разинул было рот и хотел о чем-то спросить. То же самое сказал Егор и соседу своему, когда мы подошли к дому. Сосед выбрасывал навоз со двора. Посмотрев на нас, он поклонился для приличия, усмехнулся. Возможно, он узнал меня по моему выступлению с крыльца волсовета на собрании, где я обличал Полосухина.
Я посмотрел в сторону мельницы, стоявшей на лугу. Она вяло махала крыльями. Был тихий ветер. Настороженность хозяина передалась и нам. Глянув в окно из палисадника, Егор увидел, что Федора с какой-то девкой моет полы в горнице, готовясь к престольному празднику.
Занятая этим делом, Федора не слышала, как мы вошли.
Она о чем-то громко говорила с помощницей, кого-то ругала черными словами. Уж не муженька ли, которого она утром искала по всему селу с палкой?
Егор дал нам знак стать к сторонке или сесть на скамью возле печки, – это мы безмолвно выполнили, – затем подошел к двери горницы и, слегка толкнув ее, чуть приоткрыл.
– Кто там? – послышался окрик Федоры.
– Я, Федора, я, – робко отозвался Егор. – Это я пришел.
Крепкая филенчатая дверь с треском захлопнулась. Егор едва успел отскочить. Его чуть не ударило по лбу. Он молча посмотрел на нас и горестно вздохнул.
Прошло несколько минут. Затем из-за двери послышалось:
– Где был, туда, рыжий черт, и иди!
– Я, Федора, в гостях был. Открой, что скажу!
– Не открою. А выйду, грязной тряпкой всю твою харю исхлещу.
– За что же хлестать-то? – деловито осведомился Егор.
Она помолчала, попыхтела и, вздохнув, принялась вопрошать:
– Да что это за дьявольщина! Каждый день, каждую ночь шляется! Да тебя приворожил, что ль, этот Тарасов? Аль у тебя, у беса, своих делов нет?.. Го-ости-и… Вот я тебе сейчас дам «гости»!
– Не ворчи ты, ей-богу, баба. Что ворчишь. Ну, были мы с Ванькой у твоей мамки. Ну, выпили чуток. А потом – на мельницу, ночевал там в притворе на сене, а утром в поле на просо ходил. А ты кричишь.
Егор врал очень складно, правдоподобно и все поглядывал на нас, подмигивал, явно ища у нас сочувствия.
– У мамки был… С Ванькой был… Все ты врешь! – заключила Федора, хорошо зная мужа.
Но Егор не сдавался. Врать, так врать до конца. И он поклялся:
– Вот тебе святая икона, вот клянусь Федорой-великомученицей, что врать мне толку нет. Хошь, кого хошь спроси, какой я верный в слове человек.
Кажется, Федора сдалась. Ведь Егор поклялся именем ее святой, тоже Федорой, ходившей некогда после смерти по страшным мытарствам ада.
– А ежели ты у мамки с Ванькой был, скажи – злыдень-то при тебе был? Видал ты его, злыдня?
– Какого злыдня? – попался Егор.
– Безрукого. «Ка-ако-ова!»
Я толкнул Ивана Павловича. Он понял меня. Мы сидели возле печки, и, если даже дверь внезапно откроется, нас не сразу заметишь.
– Это, это который вчерась… то бишь… – начал Егор гадать, о каком безруком злыдне ведет речь Федора.
– Забыл?.. Опять в острог захотел? Он тебя… ты погодь, он тебя прикокошит. От него не откупишься, как ты откупился… там.
Где «там» – Федора умолчала.
Егор совсем струсил, но трусость придала ему отчаянности.
– Дура ты, дури-ища как есть.
– Ты умен, как шабер Семен. Вчерась, мать баила, сидел он, тот, у них с Федей чуть не до третьих петухов. И, слышь, разливался при всем народе. В какой-то чертовой любови корился. Бе-ессовестный, чтоб у него последняя рука напрочь отсохла.
– Чего ты городишь, дура? Кто кому корился?
– Да Ленке. А она плевала на него! Гоже, что Ваня отчитал. И не будь Федьки, Ваня его бы взашей прогнал. Право слово. Уж не знай, кто он там в городе. Какая-нибудь небось фря… И одни-то веснушки на харе, а рожа косорыла, как у нашего барана… Тьфу!
Мы с Иваном Павловичем едва не расхохотались. Смеялся и Федя, только Ванька со Степкой не смеялись.
А Федора, передвинув что-то тяжелое, разойдясь, продолжала:
– Мать рот разинула, в сени его пустила. Достанется ей от меня, погодь. Дура Санька, слышь, в жмурки с ним на улице играла, а сноха, жирна бочка Анна, глаз, слышь, с его рожи не сводила. Больно уж, говорит, пел он про эту… как ее, любовь, что ль, какую-то, не знаю ее сроду. Чуть сам с пьяных бельм не плакал.
– Да будет тебе молоть, будет, дура. Ты вот открой, что скажу!
Нет, Федора не открывала. Да что ей может сказать Егор?
Помолчав и пошлепав тряпкой по полу, она уже без злобы предложила:
– На мельницу опять иди. Тебе тут делать нечего. Ваньку-то видал, что ль?
– Видал, видал, – радостно ответил Егор, чувствуя перемену в Федоре.
Ванька, услышав про себя, даже привстал, как бы говоря, что и его черед настал.
– Пущай зайдет. Ждать нам нечего. На петров день заодно уж и окрутим их. А то Елька дура, тот-то еще умаслит ее. Он языкастый, а она полоумна, свово разума нет. А я, окромя как за Ваню, ни за кого Ельку не отдам. Я ее обуваю, одеваю, и она… моя. Вот что. И Ваня мне по сердцу. На лицо пригож, сапожное дело знает и куда хошь съездит воднучась. Хошь в Каменку на вокзал, хошь в саму Пензу. Все продать-купить могет, вот что.
– Да погоди ты, – взмолился Егор, – погодь. Ты только открой чуток.
Не тут-то было. На Федору опять бес напал.
– Нечего годить, – шлепнула она тряпку в ведро и выжала ее. – Э-эх, сама я хотела в ту ночь к мамке вместе с Ваней да с Елькой нагрянуть и турнуть его, как тогда турнула. Чтоб и дорогу в наше село навек забыл. Мимо бы ехал, да не оглядывался. Погодь, – грозно пообещала Федора, – доберусь до него… Уехал, что ль, он?
– Да кто, кто?
– Дур-рак!! – отрезала Федора непонятливому супругу.
Егор вздохнул, посмотрел на меня, я ему подмигнул, подбодрил, и он, к моему ужасу, принялся хвалить меня:
– Эх, Федора, Федора! Не знама людей, как это так говорить? За что ты костеришь человека? Что он тебе плохого сделал? Что в тот раз меня арестовал? А мне так и надо. Не лез бы сам! А он, как распознал я, больно душевный человек, прямо сердечный. Совесть имеет, не то что мы с тобой, бессовестные люди. Ты копаешь яму другому, а сама головой в нее и угодишь.
Вот как Егор сказал. Складно и резонно обо мне получилось. Но в ответ послышался язвительный вопрос:
– Ба-атюшки-матушки, да уж не сдружился ли ты с ним?
– Сдружился обоюдно. В гости к нам зазвал.
– Зови, зови. Что ж, угощу… ухватом. Он, ухват-то, на кухне стоит. Обломаю, не пожалею черенка.
Мы с Иваном Павловичем толкнули друг друга.
А Егор развел руками, как бы говоря: «Видите, что идет?» Но продолжал упорно:
– Они с Ванькой скоро вместе к нам нагрянут. Они тоже сдружились, как братья.
Не знаю, какое выражение было на лице Федоры после такого сообщения Егора о моей дружбе с хромым Ванькой. Только после долгого раздумья Федора вынесла решение:
– Ваньку-то я угощу, а того и на порог не пущу, Ваня хоть сейчас приходи, первяка поднесу.
– А мне как? – радостно спросил Егор и опять глянул на нас.
– И тебе, черту, так и быть, безо время поднесу. Только если вместе с ним придете. О свадьбе надо говорить, о венчании.
– А мы уж и пришли. А мы уж вот и тут. Открой, погляди!
Иван Павлович тихо кашлянул, посмотрел на Ваньку и кивком дал ему понять, что пора. Ванька, бледнея и превозмогая свое волнение, решительно поднялся.
Подойдя к двери, он сильным ударом ноги толкнул ее внутрь.
С криком:
– А, батюшки, кто это так? – Федора отскочила в сторону.
– Я. – И Иван Петрович Жуков предстал перед ней во весь свой маленький рост.
– Ванечка! Да ты меня чуть не пришиб. Вот легок на помине. Я сейчас. Ты присядь, милай… Аннушка, – обратилась Федора к помощнице, – ты подотри там и давай на то место сундук сдвигать. Как это ты вошел, а я не слыхала? Уехал, что ль, безрукий храпоидол?
– Нет! – каким-то не своим голосом прокричал Ванька.
Видимо, у него было не совсем обычное лицо. Федора, вглядевшись, через некоторое время спросила:
– Что с тобой, Ваня? Не заболел ли ты? Да войди, вон сядь на стул. Говоришь, он не уехал? А где же, у сестры Катерины ночует?
– Н-нет!.. Он… тут!! – отрезал Ванька.
– А?!
– Тут! И все люди тут. Вот!
И Ванька открыл дверь до отказа. Открыл и посторонился. Федора вышла к нам с грязной, мокрой тряпкой в руке. Вышла и узрела целый взвод «гостей». Впереди я, за мной предчека в кожаной куртке, потом Егор, потом Федя и, наконец, красноармеец Степа. Только Алексея не было. Где-то задержался.
– Здравствуйте, Федора Митрофановна! – весело поздоровался я с ней.
– А?!
– С наступающим праздничком петрова дня! Мы все вас поздравляем! – обвел я широким жестом поздравителей.
– Че-его?!
– Бог помочь вам, Федора Митрофановна!
– Сгинь, сгинь!
– Вы в расстройстве? Это от усталости. Полы могли бы вымыть девки. Зачем самой утруждаться? Да вы сядьте, сядьте! С гостями надо поговорить. Гости – все мои товарищи. Некоторых вы знаете. Например, вот Егора, мужа. Он-то нас и пригласил к себе в гости. Егор сказал, что и вы, Федора Митрофановна, будете рады нас видеть. Что ж, мы с удовольствием. Коль так, надо идти. А то ведь никогда и не попадешь без случая к вам. Правда?
– А?!
– Да вы что, слабоваты на ухо стали? Тогда мы можем и уйти совсем. Видать, не вовремя заявились. Ах, да вы еще пол не домыли в кухне. Подождем.
Федора наконец-то немного пришла в себя. На ее страшном лице красные пятна сменились сине-бордовыми.
– Ваня, – шипящим голосом обратилась она к Жукову, – кто это? Зачем они пришли?
Через плечо Федоры Жуков посмотрел на Ивана Павловича. Тот ему кратко приказал:
– Говори!
Набравшись духу, Ваня, не помня себя, словно ругаясь, выпалил на самой высокой ноте, почти взвизгнув:
– Как уполномоченный Советской власти, вместе с понятыми я должен произвести у вас обыск!!
Наступило молчание. Как мне показалось, оно длилось очень долго. В это время вошел Алексей.
– Обыск? Обы-ы-ыск? – шепотом, отступая в горницу, со свистом повторила Федора и там упала на большой кованый сундук.
– Показывай, где что! – приказал Жуков, входя в горницу.
– Ваня-а? Ты-ы?!
– Я – Ваня. А это Федя, а вон Алексей пришел.
– У нас? Обыск? Да ты… ты что? Ты, Елькин жених?! Ты… – задыхалась Федора.
– Никакой ныне я не жених. Родниться с вами, с кулаками и контриками, откровенно говоря, не желаю.
– Ваня-а?!
– Что «Ваня»! Хватит ломаться. Понятые, войдите. Слушаться меня. Федор, Алексей, обыщите сундук. Там, я знаю, откровенно говоря, уйма керенок. Встань! – крикнул Жуков на омертвевшую Федору. – Добром приказываю, откровенно говоря, от лица нашей Советской власти.
Но Федора таращила на Ваньку свои выпуклые серые глаза. В ее голове все перепуталось. Вид у нее был таков, что вот-вот хватит удар. С сундука она не встала.
Тогда за дело взялся сам Егор. Он уже не был робок. Он даже казался довольным, что и на его жену нашлись усмирители. Подошел к Федоре, взял ее за руку.
– Встань, дура, обыск ведь. Из уезда приехали. А я… арестант. – И Егор вдруг заплакал.
В это-то время Федора, молниеносно вскочив, в бешенстве так ударила кулаком по лицу Егора, что тот, не удержавшись на мокром полу, грохнулся и опрокинул ведро с грязной водой. От неожиданности Егор даже вскрикнуть не успел. Из носа на вымытый пол потекла кровь.
– А-а-а-а! – обрушилась Федора теперь уже на Ваньку. – Это ты, банди-ит? Это ты, предатель Юда?.. Это ты все, ты?
Но Ванька принял боевую позу, выставив хромую ногу вперед для равновесия. Он был готов ответить ударом на удар. Девушка Аннушка молча выбежала из горницы, не забыв прихватить пустое ведро.
Алексей схватил Федору за руки, но она, остервенев, принялась лягать его ногами, кусать руки.
– Вожжи! – крикнул Егор и заметался с окровавленным лицом.
– Не надо, – вступился Иван Павлович, входя в горницу. – С одной бабой не справитесь. – И обратился к Федоре: – Успокойся, гражданка Полосухина. Ты арестована. Степан! – позвал он.
Вошел Степа.
– Карауль арестованную.
Степа вынул из кобуры наган, и Федора, покосившись, села на кровать. Лицо ее стало мертвецки безразличным. Мне противно было смотреть на нее. Да, в сущности, больше и делать мне тут было нечего. Я вышел на кухню покурить.
Там за столом в одиночестве сидела Аннушка. Она как выбежала с тряпкой, так и забыла ее бросить. Пустое ведро стояло возле стола вверх дном. Девка была перепугана и тяжело дышала.
– Здравствуй, Аннушка!
Она даже не взглянула на меня.
– Аннушка, брось тряпку и пойди вымой руки. Ну, живо! – нарочно строго приказал ей.
Только тут она, вздрогнув, взглянула на меня, и тряпка упала ей под босые ноги.
– Вымой руки, а то цыпки будут. Вон рукомойник, – указал я на висевшую посудину с двумя дудочками по бокам.
Аннушка судорожно вздохнула, посмотрела на свои руки и молча пошла мыть их.
«Конечно, это она», – присмотрелся я к ней.
Вымыв и вытерев руки, она молча направилась к выходной двери.
– Аннушка, – сказал я, – тебе уходить пока нельзя.
– Да ведь домой.
– Говорю, «нельзя» – стало быть, надо слушаться. Посиди со мной.
И бедная Аннушка покорно села, испуганно посмотрев на меня. Затем испуг ее начал проходить, и скоро в глазах ее пробежали живые огоньки.
– Узнала, что ль? – спросил я.
– Да, – ответила она.
– Вот какие дела-то. Я тебя сразу узнал. Вы что, уже отпололись?
– Да.
– А ведь нас с тобой чуть в поле бабы не обвенчали вокруг полыни.
– Да.
– Чего же ты испугалась, Аннушка? Ты в батрачках у них?
– Нет.
– Ну слава богу, хоть сказала «нет». А то «да», «да», «да». Тебе тут бояться нечего, а домой уйдешь, когда обыск кончится. Но все равно, когда придешь домой, никому ни слова. Это секрет, государственная тайна. Тут вон сам председатель чека. Если проболтаешься, все дело нам испортишь.
– Меня-то зачем держать? – не поняла она.
– Приказ такой. Ка-те-го-рический. Поняла? Да тебе что, скучно со мной сидеть? Я тебе сказку скажу, как волк у медведя рыбу воровал, или песенку про перепелку спою.
– Ну те!
– А если не так, я, может, сам тебя сосватаю. В поле бабы не сумели, так я тут один сумею. Говори – пойдешь за меня?
– Вон ты какой! – уже улыбнулась она.
– Жених-то есть у тебя, Аннушка, на примете? Нет? Ну и лучше, коль нет. Если за меня не пойдешь, тут есть Степка, красноармеец. Парень что надо. Красивый, курчавый и кругом холостой.
– Ну те! То за себя, то за Степку. Никого мне совсем не надо! – вдруг обиделась Аннушка, и я не мог понять на что.
Между тем в горнице уже шел обыск. Слышались восклицания, какие-то неразборчивые слова.
Еще раз сказав Аннушке, что ей уходить нельзя, я пошел в горницу.
Федора лежала на кровати. Она не то тихо ныла, как от сильной зубной боли, не то стонала. Около нее сидел Егор и вытирал лицо полотенцем.
На полу были расстелены посконные холсты, а на холстах какие-то цветные полосы, похожие на сатиновую материю для сарафанов.
– Подойди сюда, Петр Иванович, полюбуйся, – позвал меня Иван Павлович.
Я приблизился. Цветные полосы оказались керенками: синие квадратики – двадцатирублевые, красные – сороковки. И еще серые, грубые, с водянистыми знаками. Это разной стоимости «боны» – деньги, которые печатала наша Пенза для хождения только внутри губернии. В каждой почти губернии были собственные деньги – «боны» своей местной промышленности. Пенза не хуже других. «Боны» ценой были до ста рублей и размером с открытку. На каждой «боне» устрашительно предупреждалось, что «подделка строго карается по закону». По какому закону? Это никому, даже печатавшим сии полукартонные деньги на старинной архивной бумаге, не было известно. Карается, да и только. Попробуй кто выпустить фальшивые!
На каждой лицевой стороне керенки – двуглавый, довольно неуклюжий, общипанный орел. «Боны» лишены были изображений этой хищной птицы. Надо сказать, что наши земляческие «боны» не только ходили наравне с керенками, но и заслужили предпочтение. Во-первых – они крупнее размером, во-вторых – толще и прочнее, а в-третьих – Временного правительства нет. Керенского тоже нет, а Пензенская губерния существует. Только одно оставалось непонятным – название денег. Что такое «боны»? Этого никто не знал. Царские деньги летом тысяча девятьсот восемнадцатого года уже вышли из употребления. Правда, их все-таки хранили на всякий случай.
– Ловко, Петр? В холсты, а? Зачем это?
– Да чтоб не промокли и плесень не набросилась, – подсказал я.
– Сколько здесь будет?
– Ты, Иван Павлович, математик, квадратные уравнения тебе преподает Зоя. Вот и считай. Множь квадрат на квадрат по числу керенок, авось что и получится.
– Подкусил ты меня, Петр. Ведь верно. Вот, к примеру, двадцатки. Вдоль тридцать штук да поперек двадцать. Всего шестьсот. Теперь на стоимость помножить. Ого, в одном холсте двенадцать тысяч! А сколько их, этих холстов! Да еще сороковки. Одним словом, под миллион шагнет. Ванька, гляди, еще холсты вынимает. Стало быть, Егор и Федора Полосухины – миллионеры. А ведь деньги пока в ходу.
– Да, пока. Рожь продают на базаре по триста рублей за пуд, а пшено и того дороже.
– Словом, Петр, с миру по нитке – алкоголику спиртные напитки.
Вынимал холсты Иван Жуков – от усердия он даже вспотел, – а развертывал Федя, каждый раз восклицая и радуясь невесть чему. Уж не задумал ли он на часть этих денег построить плотину, мельницу от комитета бедноты и еще что-нибудь? Надо Ивану Павловичу подать такую мысль и Феде шепнуть.
Алексей считал-считал, да и плюнул. Он попросту принялся скручивать керенки в трубку, как скручивают обои.
– И зачем они им? – дивясь, вопрошал Алексей. – Ведь, может, уже печатают советские деньги. Куда же тогда эти?
Заглянув на кухню, где сидела Аннушка, я пальцем поманил ее. Хотелось, чтобы она тоже посмотрела. Она робко вошла, не взглянув на Федору.
Бедная девушка, едва взглянула на холсты денег, широко раскрыла глаза, а потом закрыла рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Столько денег она и во сне не видела.
Алексей попросил ее помочь свертывать холсты, за что она и принялась.
– Егор, Егор, – послышался стон Федоры, – зачем же ты, окаянна твоя сила, беду-то накликал на себя?
– Лежи, дура, смирно и молчи, – шепнул Егор. – Может, простят за чистосердечное покаянье. Мы ведь не убивцы.
– Простя-ат? Не-ет, эти не простят.
Вот в сундуке уже видно дно. Что-то еще лежит там. Ванька вытащил сверток, развернул ситцевый платок. В нем оказалась продолговатая нарядная шкатулка. На верхней крышке напечатано «Печенье». Ниже – «Жорж Борман и Ко».
Коробку открыли. В ней, крепко перевязанный шелковой лентой, лежал мешочек вроде кисета. А когда вскрыли мешочек, глазам представились золотые карманные часы с ключиками, затем серебряный браслет в виде змеи. Голова у змеи золотая, вместо глаз светятся зеленые камешки. В черных небольших, со спичечную коробку, футлярчиках, проложенных мягким плюшем, стоймя, камешками вверх, покоились золотые кольца. Были кольца и без камней. Из кожаного портмоне, когда Ванька открыл его, посыпались золотые монеты. Были здесь пятирублевики, десятирублевики и даже несколько штук пятнадцатирублевиков. На всех монетах отлита голова императора Николая Второго.
– Вот это уже настоящий кла-ад! – восторженно произнес Алексей, позванивая о пол монетами. С тысячу будет, да не керенками, а чистым золотом.
– Откуда? – тихо спросил Иван Павлович Егора, который подошел, заслышав звон монет.
На лице того отразилось не только удивление, но даже любопытство.
– Это… это… – Егор не знал, что ответить. Он повернулся к Федоре, которая сразу перестала стонать. – Откуда у тебя эти… золотые?
Федора, помолчав, хрипло ответила мужу:
– Тарасов дал… на храненье.
– Почему я не знал?
– Тебе, дураку, про это и знать не надо. Мне доверил, не тебе.
Вдруг Егора как бы осенило. Он затопал ногами и завизжал:
– Врешь, вре-о-ошь!
– Чего мне врать! – спокойно и безразлично ответила Федора.
– Теперьче знаю, теперьче… А-а, вон ты зачем бегала к нему то в дом, то в сад!
И Егор выругался самыми скверными словами.
– Товарищи чека, это он ей за то… Это потому… это… А-а-а!..
– Что-то очень дорого, – вставил свое слово Алексей и недоверчиво покачал головой.
– Да ведь не один год! – вскрикнул Егор. – Небось с самой нашей свадьбы. То-то ходила к нему малину обирать… То-то ходила к нему полы мыть. Мыла полы аль нет? Обирала малину аль нет?
Егор Полосухин был совершенно неузнаваем.
– Поэтому ты и не допускала меня рыться в сундуке. Боялась – страмоту твою открою.
– Да там и твоих золотых половина, – опять удивительно спокойно ответила Федора.
– А часы? А кольца откуда? – все подступал к ней Егор.
Теперь в пору уже его держать за руки.
– Отступись от меня, сатана. Сам знаешь откуда, – уже заметно повысила голос Федора. – Аль сказать?
– Говори, говори! Все говори, всем кричи. Не боюсь!
– Сам лучше кричи, дурак безмозглый. Тебе виднее. Кто по городам шлялся в старое время? Я, что ль? Какими ты делами там занимался? Чем промышлял?
Нет, это была не просто ругань. Что-то темное было в их словах, недоговоренное, а может быть, и несговоренное. Какая-то тень лежала на этих «империалах» с портретом царя и на часах разных форм и фирм, на кольцах и на этом змеевидном златоглавом браслете. Чувствовалось – Тарасов тут ни при чем.
– Ладно, потом разберемся, – сказал Иван Павлович.
– И с войны привозил, у солдат скупал, – добавила Федора.
– Врут оба. Все это ихнее, совместное, – определил Алексей.
Наконец объемистый сундук совсем опустел. Алексей опять уложил в него свернутые Аннушкой холсты, куски материи, штуки сукна и другое добро.
Произвели опись, все увязали, составили акт. Сначала дали расписаться хозяину Егору, затем понятым Феде и Алексею. Когда подошел подписываться «уполномоченный от Совета» Иван Жуков, Федора чуть приподнялась и хрипло, с надрывом произнесла:
– Ну, Ваня, теперь пого-одь!
Ванька чуть отшатнулся, но тут же быстро поставил закорючку.
Сверток с керенками, обмотанный материей и перевязанный, Иван Павлович подал Алексею, а шкатулку Феде. Потом он подошел к Федоре.
– Вот что, гражданка Полосухина. Приказ тебе: никуда из дому не выходить! Лежи спокойно. Для охраны, чтобы тебя никто пальцем не смел тронуть, мы оставим вот этого надежного человека с наганом… Степан!! – окликнул он аккуратного парня. – Охраняй хозяйку. Что надо ей – пить там или что, – принеси. Мы скоро вернемся.
– Тут девка есть, Аннушка, – шепнул я. – На всякий случай и ее сюда. Мало ли что Федоре захочется. Степе неудобно, а девке под стать.
На зов вошла Аннушка. Испуга на ее лице уже не было.
Ей Иван Павлович пояснил, чтобы она побыла здесь и поприсмотрела за Федорой. Дальше избы не выпускала бы. И в избу тоже никого не впускать.
– Степан, ты слышал, что я говорил Аннушке? Это и к тебе относится. Вот тебе деваха в помощницы. Смотри, какая красавица! Не обижай ее. – И Иван Павлович подмигнул молчаливому Степе. – А ты, Егор, пойдем с нами прогуляемся. Да умойся. Эк, хорош! Все лицо в крови. Здорово жена угостила своего муженька. Ну, это она сотворила, конечно, любя тебя вечно, – складно закончил Иван Павлович.
Мы вышли на улицу.
У меня дрожали ноги. Не раз приходилось производить обыски в деревне у кулаков, в городе у купцов, буржуазии, чиновников, но такого презрительного чувства я еще никогда не испытывал. И эта гремучая змея Федора держала в своей власти Лену? И эти люди и подобные им держат во власти почти все село?! Что в сравнении с ними наш поп, спрятавший хлеб в гробы и ульи, или Николай Гагарин, сыпавший под овсяную мякину рожь, или глуповатый хапуга Лобачев, который мешки с хлебом побросал в яму и завалил ее навозом! Что перед ними и им подобными даже тучный пропойца, обжора помещик Климов! Те страшны, а эти страшнее и вреднее. У этих ничего святого в сердце нет и самого сердца нет. Ведь неспроста Федора обмолвилась о любви: «Любовь какая-то, не знаю ее сроду». Конечно, никакой любви у Федоры никогда ни к кому не было и быть не могло. И ни у кого из них не могло быть высокого чувства любви, но они полны ненависти к нам, новым людям, к неугодной им власти. У них в крови разлилась ядовитая, неизмеримая злоба. Они к нам беспощадны. А мы? Мы не имеем права оставаться неплательщиками по счету зла и ненависти.
Они, пожалуй, посложнее, чем городские торговцы или старорежимные чинуши. Тех сразу видно, они приметны. А здесь… Да, настоящая война в деревне только начинается.
И смеют еще левые эсеры кричать, будто мы, большевики, обижаем крестьянство, ссорим двор со двором, разрушаем монолитность мужицкого сословия, поселяем вражду! Смеют упрекать, что иные из продотрядчиков где-то с голодухи, с устатка хватят стакан самогонки, и на этом обвинять всех продотрядчиков и комбедчиков в грабеже деревни.
На улице ветер. В небе густо плывут тяжелые тучи.
Кое-где возле мазанок, на крыльцах или за углами изб стоят люди. Они как бы случайно посматривают в нашу сторону. Конечно, им не трудно догадаться, в чем дело. Тайн в деревне не сохранишь. Чуют по ветру и встречь ветра. Скоро наверняка всем будет известно, что мы нашли и сколько. Лишь бы не узнали об арестах, лишь бы Жильцов – если он в городе – не проведал про все. А концы-то идут туда, где еще клубок не размотан.
Мы шли на мельницу. Иван Павлович по одну сторону Егора, я – по другую. Егор умылся и шагал, припадая на ноги. Под правым глазом у него набухал синяк.
– Крепко она тебя, – пожалел я Егора.
– Да ведь лошадь! – прохрипел он в ответ.
– И часто от нее страдаешь?
– Мукой измучился, – вздохнул бедный муж.
– Мы, дядя Егор, скрутим ей руки, – обещался я.
А Иван Павлович, улыбаясь, добавил:
– И посадим на чепь.
– Не мешало бы, – согласился мельник.
Впереди шли Алексей со свертком денег и Федя со шкатулкой, за ними прихрамывал Ванька Жуков. Он был очень жалок. Видимо, в его ушах все еще звучало: «Ну, Ваня, пого-одь!» Мне хотелось поговорить с ним, ободрить. Ведь он любезно «уступил» мне Лену и ловко, с пользой для нас разыграл «уполномоченного от Совета». Мы с Иваном Павловичем и не ожидали таких успехов от нашей выдумки.
Вот и мельница! О такой и говорит загадка для детей: «Крыльями машет, а улететь не может». Сильно, с характерным, только ветрянкам присущим шумом, поскрипывая, машут ее крылья. Ветер для помола самый подходящий.
Возле ворот подводы с мешками, а около них мужики. Покуривая, они смотрят на нас. Видимо, гадают: и зачем идет сюда такая орава, да еще во главе с Егором?
Внутри мельницы два воза на очереди.
Стреноженные лошади помольщиков пасутся на лугу. Ветер усилился, поэтому действует и второй жернов. Ритмично стучат совочки, по которым из коробов равномерно тонкой струйкой течет в отверстие жерновов сухая рожь.
Жернова, скрытые в пыльных круглых ящиках, глухо гудят. Слышится хруст сухой ржи, теплая на ощупь мука стекает в привешенные к лоткам объемистые мешки.
Всюду – в углах, на паутине, на ларях, на бревнах, на досках – лежит мельчайшая мучная пыль. Называется она поспой. Эта пыль-поспа от времени уже седая и походит на густо взбитую, приготовленную для валки сапогов шерсть. Она годится только для примеси в белую глину – белить стены избы. Можно сварить из поспы клейстер для оклейки стен обоями или бумагой.
Но ни того, ни другого не делалось. Пыль не собиралась, не сметалась, а нарастала пышными, как пена, холмами. И разве только разбойник-ветер дунет иногда с улицы в ворота мельницы, тогда пыль завихрится, как туман, и станет от нее душно…
Брат Егора, Ефрем, с бельмом на глазу, подозрительно покосился на нас и, кивнув на всякий случай, полез заглянуть сверху, с короба, много ли осталось зерна и не пора ли засыпать следующему помольщику.
В другое время я обязательно обследовал бы всю мельницу, забрался бы по лестнице наверх и оттуда, как с колокольни, оглядел бы поля, село, всю окрестность. Послушал бы, как свистит ветер, рассекаемый огромными крыльями, которые то с размаху клонятся до самой земли, то величаво поднимаются вверх, к небу. Осмотрел бы зубчатое колесо, соединенное с толстым сосновым бревном, на котором и укреплены крылья. Подивился бы на передаточную шестерню, вращающую большое бревно. Оно доходит до самого полуподвала, где гигантское колесо вращает два меньших колеса, соединенных с жерновами.
Интересно бывать на ветряных мельницах! В них так же весело и людно, как в кузницах. Всегда народ, разговоры, шутки, споры, смешные истории и всяческие деревенские новости.
И мельник в мучной пыли, в нечищеной одежде похож на могучего колдуна.
На мельницах, особенно на старых, много никому не нужных износившихся вещей.
Уж если их бросили когда-то в угол, так они и будут лежать там до скончания века, и назначений этих вещей не вспомнишь.
– Завозно, брательник, – сказал Ефрем, хотя Егор ни о чем его не спрашивал.
Вел себя Егор на мельнице, как чужой, молчал. И мы все стояли молча. Алексей, придерживая сверток, разговорился с одним мужиком. Федя пробовал муку – не крупно ли мелется. Ванька облокотился на огромный ларь, в который ссыпают гарнцы за помол, и раза два, открыв дощатую крышку, заглянул в него. Иван Павлович что-то обдумывал, а я невесть с чего, увидев в углу рамку, уставился на икону.
В ней под стеклом, покрытым густым слоем пыли, выставлено было изображение святого Николая-угодника, тощего и строгого старика. На всех мельницах можно найти такую икону. Николая-чудотворца принято считать самым честным из святых, вручать ему охрану мельниц и кузниц, блюсти в них порядок и защищать хозяйское добро.
Перед иконой лампадка. В ней до краев мучная пыль.
Муку мололи к престольному празднику и, конечно, для продажи на базаре. В Горсткине еще пять мельниц, но мельница Полосухина считается лучшей; на ней литые кремневые жернова какой-то особой ковки.
Иван Павлович подошел к Ваньке, что-то шепнул ему. Тот вздрогнул и кивнул вниз, где в яме крутились шестерни. Еще что-то шепнул ему Иван Павлович, и они, а за ними я направились к яме. Туда вела узкая лесенка.
Деревянное колесо с зубцами угрожающе скрипело. Того и гляди, зацепит за одежду.
– Вон, глядите, – едва расслышал я среди шума и скрежета колес Ванькин голос.
Он указал наверх, где виднелся недвижимый нижний камень, укрепленный на железной крестовине. Между верхним жерновом и нижним промалывалось зерно.
– Вот желобок, – указал Ванька на косо идущий от нижнего жернова четырехгранный желоб.
Он уходил вправо вниз, в глухую стену. Конца его не видно.
– Это самая жила и есть? – спросил Иван Павлович об этом потайном желобе.
– Она.
– А мука где?
– Мука?.. Вот где мука.
В полутьме мы не заметили, что правее в стене, покрытая пылью, маленькая дверка. Она так слилась со стеной, что, если бы не веревочка с узелком, мы и в жизнь не догадались бы о дверке.







