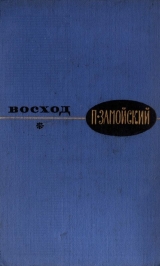
Текст книги "Восход"
Автор книги: Петр Замойский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
Глава 11
С трепетом и замиранием сердца подхожу я к избе Лены. Федя что-то говорит мне, я стараюсь понять и переспрашиваю, но отвечаю невпопад. Федя искоса посматривает на меня. Он догадывается о моем состоянии, предлагает:
– Если так… немножко пройдемся.
– Пожалуй, давай.
И мы тихо шагаем по улице. Поравнявшись с избой Лены, я взглянул на нее. Как все знакомо! И крыльцо, на котором я стоял зимой, страшно волнуясь, и дверь, ведущая с крыльца в сени, и четыре окна с синими наличниками, соломенная, видавшая дожди и жару крыша. И, наконец, покосившаяся труба с молочным горшком, воткнутым наверху.
Посмотрел на мазанку, в которой прошлым летом мать Лены Арина показывала мне пестрое недошитое одеяло. Его Лена готовила для своего замужества.
Дверь мазанки открыта. Может быть, сейчас кто-нибудь там и есть. Вот-вот выйдет Лена или мать.
«Нет, нет! Поскорее мимо! Не хочу, чтобы меня видели». И я прибавил шагу.
– Ты что… боишься кого-то? – спросил меня Федя.
– Видишь ли, пожалуй, да… боюсь.
– Это… спросить… кого же?
– Ведь я год ее не видел.
– Что же?
– Потом с мужем Федоры такая штука получилась…
– А тебе на Егора… плевать.
– И… отказная мне была.
– Тут, я понимаю… тебе обида… Доведись и мне…
Навстречу едут подводы, не спеша идут люди. Проходя мимо, они здороваются с Федей, он им отвечает. А я стараюсь не смотреть на них. Особенно на женщин. Им обязательно надо разглядеть и узнать, что за незнакомый человек идет.
– Федя, – вдруг спрашиваю его, – ты женат?
– Пока нет. А ты жениться… вздумал?
Не дождавшись ответа, он заявил:
– Не к спеху.
– Я тоже так думаю.
– Надо переждать… Женишься, а вдруг на фронт.
– Ты уже воевал?
– Было. Ранен. Выздоровел. Начали удирать, я впереди.
– Но сейчас-то не удрал бы? Теперь не за Временное, а за Советскую власть.
Осмотревшись, он как бы сам себе проговорил:
– Наладим с комитетом… выгребем излишки… Уйду воевать.
Помедлив, поучительно посоветовал:
– Тебе не надо… о ней думать.
– Я и не думаю.
– Такая работа. Свяжешься… спутаешь себя. Размаху не будет… Дите появится – совсем беда.
«Вон о чем Федя». Видя, что я молчу, спросил:
– Все любишь ее?
– Как сказать… Есть немного. Только в работе забываешь. Год ее не видел. Может, она другая стала. И за год много воды утекло.
Мы свернули в прогал между избами и межой пошли вниз, к реке. С этой стороны на берегу речушки – огороды. Тут серые листья капусты. Гряды лука, свекла, морковь, а у многих огурцы, огороженные от кур старыми снопами конопли. Вода близко.
Над речушкой склонились старые ивы, касаясь ветвями воды. Мы шли по направлению к огороду Лены.
Солнце уже опускалось, лучи его почти но доходили сюда, тянулись гигантские тени изб.
От окраины села доносились удары бичей. Это гнали домой стадо.
– Вот их усадьба, – указал Федя и межой повернул к дому. – Решил повидаться с ней?
По правде говоря, я еще не решил, но повидаться очень хотелось. И робко, словно маленький, предложил:
– Если… мы только… вместе пойдем.
Федя засмеялся. Ему-то что? Она всего-навсего ему двоюродная сестра.
– Не думал, что ты… такой пугливый. На собранье вон как, а тут… боишься. Не робей, – он похлопал меня но плечу, – со мной не пропадешь. И птица невелика.
– Кто птица?
– Да все она. Ты разгляди ее получше. Правда, на лицо она… Впрочем, ничего не говорю.
«Тоже на что-то намекает», – подумал я.
Полуветхий двор. Возле плетня куча кизяков, рядом хворост и три ветловых, коротких бревна. Со двора на огород калитка.
«Сколько раз выходила из нее Лена в огород!» – мелькнуло в голове. И мне вдруг нестерпимо захотелось видеть ее, хотя бы издали.
Стадо овец приблизилось к селу. Затем стремительно, с гулом, блеяньем, мелким, дробчатым стуком ног, похожим на обрушившийся град, ворвались они в улицу. Неслись так, будто за ними гналась стая волков. Раздались женские голоса, манящие овец. Кто-то выбежал из переулка, от избы Лены, и звонко принялся кричать:
– Барь-барь! Кать-кать!
– Это Санька, – пояснил Федя. – Огонь-девка. Сейчас пойдем или когда коров пригонят?
– Когда коров, – быстро согласился я и уселся на ветловое бревно. – Закурим, Федя.
Послышался тот же звонкий голос, когда пригнали коров. Заскрипели ворота, корова, мыча, тяжело зашагала во двор. Через некоторое время Федя сказал:
– Пора! – и затоптал недокуренную цигарку.
Прогалом между избами мы вышли к дому Лены. Возле крыльца стояла женщина. Она пристально смотрела в противоположную от нас сторону. Федя окликнул ее:
– Тетка Арина!
– Ой! – Вздрогнув, она обернулась. – Никак, Федя?
– Угадала. А это гость к вам. – И Федя озоровато толкнул меня к ней. – Получай, тетка Арина.
– Кто такой?
– Совсем, старая, ослепла. Разгляди.
Наверное, она видела плохо, а у меня как будто язык отнялся. Молча подаю ей руку, она с опаской подает свою. Наконец еле выговариваю чужим голосом:
– Здравствуй, тетка Арина!
Она пристально всмотрелась в меня, затем чуть отступила и с удивлением прошептала:
– Никак, Петя?
– Я, я, тетка Арина… Зашел навестить вас… по старому знакомству. Как живете?
– Спасибо, ничего. Живем – хлеб жуем. Ты как?
– Поманенечку, тетка Арина.
– И то слава богу. Давно не был.
– Все дела и дела.
Вглядываясь в ее когда-то родное мне лицо, я по голосу стараюсь понять, изменилась ли она ко мне или все по-прежнему приветлива. Но понять это с первых слов невозможно. Только невольно вспомнилось, как она, когда их отчитала Федора и мне отказали, тихо сказала: «Ин, как хотите».
– Санька-а! – вдруг порывисто и так громко, что я вздрогнул, крикнула Арина.
– Что-о? – раздался со двора звонкий голосок.
– Иди, дура, скорей. Тебя зовут.
– Кто-о?
– Иди-и! Сама увидишь кто.
И, обращаясь ко мне голосом, в котором чувствовалась любовь к дочери, промолвила:
– Ералашная.
Тут отозвался Федя, который сидел на телеге и курил. Он вступился за Саньку:
– Чем же ералашная? Она боевая.
– Солдат, не девка, – согласилась мать. – А Ельки со снохой Анной все нет. Пора бы. Они полоть-то, чай, кончили.
– Небось к подруге забежала, – бросил догадку Федя, – а с ней на улицу.
– Не ужинавши?
Скрипнули ворота. Я оглянулся и увидел под навесом белую фигуру Саньки. Она, видимо заинтересовавшись, кто же такой пришел, издали старалась распознать. Но в сумерках лица моего ей не видно.
– Иди, иди, – заметив ее, позвала Арина.
Санька, всматриваясь, медленно зашагала к нам. Саньку, этого «солдата», я не видел столько же, сколько и Лену. Значит, ей теперь восемнадцатый пошел. Она моложе Лены на два года.
– Шагай смелей! – прикрикнул на нее Федя. – Ишь крадется, как… тигра какая.
Я повернулся к Саньке спиной. Она подошла совсем близко, уже слышны ее шаги. А вот и совсем остановилась. Я нарочно молчу. Узнает или нет? Санька зашла сбоку. Я повернулся лицом к Феде. Зашла с другой стороны от Феди, который захохотал. Я отвернулся к крыльцу. Мать тоже смеялась. Пыталась Санька зайти со стороны матери, но я нахлобучил кепку.
– Да кто такой? – засмеялась и она.
– Узнавай, узнавай! – крикнул Федя.
– А вот сразу и узнаю.
Она зашла сзади, сдернула с меня кепку и так сильно повернула к себе, что я чуть не упал. Этакая силища! Верно, что солдат-девка.
– Легче! – посоветовал Федя. – Так человека изувечить можно.
Санька, оторвав от моего лица ладони, которыми я закрылся, всмотрелась в меня.
– Петя?! – удивленно спросила она.
– Здрасте, Саня! – Я низко, до пояса, наклонился перед ней.
Она тут же крепко ударила меня по спине. Я выпрямился.
– Петя! – вновь воскликнула она и вдруг, чего я совсем не ожидал, повисла у меня на шее.
– Озорница! – укоризненно крикнула на нее мать. – Что делаешь?
– А он сам что надо мной озорует?
– Э-эх ты бессовестная! Ведь ты уже невеста.
– Без места. А что мне стыдиться. Тебя, что ль, аль Федю?
– Пети постыдись. Что он про тебя подумать может?
– Я, мамка, от радости. Ну, здравствуй, Петя!
Она быстро обхватила меня за шею и звонко поцеловала в щеку. Поцеловала и отбежала.
Мать совсем пришла в отчаяние от такой выходки «солдата-девки». Оглянувшись по сторонам, не видел ли кто из соседей, она не укорила, а скорее удивилась:
– Это что же ты теперь наделала, дурища?
– Я ведь не укусила его? Нет? – накинулась Санька на мать. – Что ж, и поцеловать вроде нельзя? Аль он чужой?
– А если ему не по карахтеру такое твое баловство, – спросила мать, – это как?
– Что ты, что ты, тетка Арина! Мне это, ей-богу, очень по характеру. Хоть бы еще разок – и то не откажусь, – вступился я за Саньку, чувствуя ее поцелуй на щеке.
А щека горела. Может быть, и все лицо горит, но в темноте не видно.
– Ты надолго к нам? – спросила Санька.
– Только тебя заехал повидать. Завтра в город.
Санька запрыгала, как девчонка, и захлопала в ладоши. Она и в самом-то деле была еще девчонка.
– Что, что? – воскликнула она, обращаясь к матери. – Что я говорила?
– А что ты говорила?
– Обязательно, беспременно заедет к нам.
Потом уже обратилась ко мне:
– Я тебя видала на собранье.
– Вот как?
– И мамке сказала, что ты придешь, придешь. А мамка говорит…
– Что тебе мамка говорит? – строго перебила Арина.
– А то, это. Не зайдешь. Будто ты обиделся на всех нас.
– За что же я на всех вас обиделся? Особенно на тебя, Саня?
– Да вроде на Ельку.
– И на Лену я не обижаюсь. Она дома?
– Она? – помедлив, переспросила Санька. – Она… с Анной в поле. – В голосе ее послышалась обида. – Она тебе что, нужна?
Но тут вмешалась Арина. Проходя мимо нас, она полушепотом посоветовала:
– Идите в сени. Народ еще увидит. А за Елькой навстречу Белянку надо послать, чтобы скорее шла.
Белянка – самая младшая из пяти сестер.
Прозвали ее Белянкой за белые как лен волосы. Я помню эту маленькую, лет десяти, девчушку, смирную, тихую, лицом похожую на Лену. Когда я приезжал к ним, она обязательно садилась за стол напротив меня и пристально рассматривала мою забинтованную руку. Она тоже знала, что я «Елькин жених Петя». Так меня все именовали.
Но сколько ни звала мать, Белянки близко не оказалось.
Мы прошли в сени. Арина зажгла лампу, висевшую над столом на длинном крючке. Скоро Арина ушла во двор доить корову, а мы остались втроем и принялись болтать о чем попало. На улице совсем стемнело. Уютно у них в плетневых сенях, промазанных глиной. Со двора слышно, как звенят струи молока, ударяясь о стенки доенки, и доносятся редкие успокаивающие слова Арины.
– Стой, матушка, стой смирно, – ласково говорит она корове.
Было удивительно, как в полутьме Арина доила корову. Правда, корова стояла возле открытой двери, и свет от лампы проникал во двор.
Разговаривая с Федей, я то и дело посматривал на Саньку. Не такой она помнилась мне год тому назад. Тогда она была сухощава, с продолговатым лицом, длинным тонким носом, как у матери, немного угловата. А теперь пополнела, щеки налились румянцем и не так уж выдавался нос. В статную девушку выросла Санька.
– Что же ты делать будешь? – спрашиваю я ее. – Ведь ты, как говорит мать, вроде невеста. Замуж небось собираешься после своей сестры. Одеяло шьешь?
– А как же. День думаю, ночь не сплю. Одеяло давно готово. Только жениха где-то собаки гоняют. Найди мне какого-нибудь замухрышку в городе.
– У вас в селе своих много, Саня.
– В селе? А я тут и жить не буду.
– Почему? – спросил я.
– Скучно, – ответила Санька, – вот почему.
Федя мрачно проговорил:
– Врет она. Скучно… У них гармонист… Ефимка… Красавец. Он тешит…
Санька так и вскинулась:
– Не в тот огород камешком запустил. Ошибся чуток.
– Говори, не в тот… Аккурат в тот… Каждый день ходит.
– А разь ко мне он?
– К кому же окромя? – И Федя подмигнул мне.
– Сам знаешь, кому беда, кому слезы.
– Вот я тебе подразнюсь! Больно скоро ты мне прозвище придумала.
– А ты не болтай зря, комбед несуразный.
Хотя я и догадывался, для чего этот разговор затеял Федя, мне все же было неловко. Санька явно злилась.
– Опять вы взялись ругаться, родня, – упрекнул я их.
– Да нет, мы шутя, – сознался Федя. И снова к Саньке: – Если Ефимка не к тебе ходит, Кузька – обязательно.
– Что Кузька? – вспыхнула Санька. – Ну что Кузька-карапузька?
– Бегает за тобой… Пятки обивает…
– А я его лупцую.
– Это правда, это да. Бьет она его при всех, – обратился Федя ко мне. – Парню гибель… Парню крах… Спасу нет… Влюблен по уши, да.
– Мало ли что ему втемяшится… И годов нет. Я старше.
– Тогда тебе, сестренка, бог прямой путь указал… на Ваньку. Сапожник – раз… Хромой – два… На войну не возьмут – это три.
Санька хотела что-то возразить, но лишь сверкнула глазами. А мне было очень интересно, как разговор дальше пойдет. Ведь Федя «наводит» его явно для меня. Недаром то и дело подмигивает мне. Но Санька крепится. Не выдает свою сестру Лену. Молодец девка!
Арина подоила корову и, войдя со двора в сени, заметила, что у нас сильно коптит лампа. Она привернула ее.
– Ельки с Анной все нет?
– Что тебе далась Елька? – с сердцем выкрикнула Санька.
Мать молча поставила на табуретку ведро с молоком, сняла с полки два пустых молочных горшка, достала цедилку и принялась процеживать пенистое молоко.
– Петя, парного хочешь? – предложила она мне.
– Мы скоро ужинать к вашим пойдем. Екатерина звала, – ответил за меня Федя.
В это время постучали в дверь. Сердце мое так и замерло. Санька быстро вспорхнула, чтобы открыть, но ее опередил Федя. Он был ближе к двери,
Я заметил, каким тревожным взглядом смотрела Санька на дверь, когда Федя, как бы нарочно, медлил снять щеколду. И ему, видимо, становилось не по себе: Мне тем более. Чувствовалось, что никому из нас троих, а может быть, и самой матери, почему-то не хотелось, чтобы вошла Лена.
Дверь открылась, и мы облегченно вздохнули. В дверях стояла с покрытым пылью лицом, полная, добродушная, красивая сноха Анна. В прошлом году, когда я со стыдом после отказа в сватовстве уходил от них, она одна пожалела меня и, провожая через дверь во двор, ласково похлопав по спине, промолвила: «Ничего, Петя, не убивайся».
Федя еще подержал дверь открытой на всякий случай, но никто больше не входил. Он снова защелкнул ее на щеколду.
Анна не сразу разглядела меня, а подойдя ближе, радостно воскликнула:
– Пришел?
– Заявился, Анна, – чувствуя, как вдруг пересохло в горле, отозвался я.
– Елька где? – спросила мать, и в голосе ее послышалась, как мне показалось, тревога.
– Сейчас умоюсь, скажу. Мы допололи тот участок проса. Ну-ка, Саня, полей мне воды.
Пока Анна умывалась на крыльце, где висело ведро с водой, мы молчали. Наконец Анна вошла, вытерла лицо и руки. Сняв фартук, подошла ко мне, поздоровалась, села рядом.
– Так-то, Петя. Стало быть, в наши края заявился? Долго тебя не было. Небось мимо-то из городу аль в город проезжал, а к нам, как допрежь, не заехал?
– Уезд наш большой. В нем сорок две волости, а в них двести двадцать селений, а жителей, считая грудных и ползунков, больше четырехсот тысяч обоего пола.
– Говори, говори. – Анна улыбнулась. – Вот насчитал! Только про брюхатых забыл… Ну-ка, я на тебя как следоват погляжу.
И она уставилась на меня, как бы в зеркало. Затем рукой провела по моим щекам, за уши потрогала и волосы погладила. Руки ее были холодноваты от воды. Наконец при общем молчании она произнесла:
– Ты поправился, как бы не сглазить. Тьфу, тьфу, тьфу!
– А моя мать говорит, что я кощей!
– Какой там кощей. Вот и глаза твои. Нет в них прежней робости. Ты ведь в начальниках ходишь, я знаю. А там робость вроде ни к чему. Правду тебе гадаю аль вру?
– Ты, Анна, как цыганка. О тебе тоже нельзя сказать, чтобы похудела.
– У меня, Петя, кость широкая.
Федору не терпелось узнать, куда запропастилась Лена.
– Где, спрашиваешь, Елька? – наконец сказала сноха. – Федора на дороге ее перехватила.
– Как перехватила?
– А так. Шли мы мимо ихней избы, она увидела, чуть не бегом к нам. Схватила Ельку за руку и увела.
– Зачем?
– К себе потащила.
– Ну, зачем, зачем? – допытывалась Арина.
– А затем, чтоб не дать ей повидаться. – Анна кивнула на меня.
– И Елька пошла? – спросил Федя.
– Елька – теленок. Куда ее сестра позовет, туда и пойдет.
Потом решительно добавила:
– Все вы ходите под началом Федоры. Она вами помыкает как хочет.
Мне окончательно стало все ясно. Если бы Лена, узнав, что я пришел, и захотела бы повидаться со мной, то не пошла бы за Федорой.
– Будет тебе! – прикрикнула на Анну Арина, и в голосе ее послышалась, как мне показалось, радость. – Зачем зря говорить?
– Я правду говорю.
Обернулась ко мне и прямо заявила:
– Ты, Петя, от души тебе советую, не гонись больше за Елькой!
Я молчал. Рядом сидела Санька. Посмотрел на нее. Чуть заметная улыбка пробежала по ее лицу.
– Не нужна она тебе, Петя, – вконец отрезала Анна.
– Вот это… правильно! – громко и решительно подтвердил Федя.
– А чего молчать? Не вздумай вдругорядь ее сватать.
– Да он и не сватает, – опять вступился Федя. – Откуда вы взяли?
– И не думаю сватать. Ну как я породнюсь с такой семьей, где зять – кулак, бандит, острожник, спекулянт? Ведь мне пришлось бы с этим рыжим Егором, которого я арестовывал, сидеть рядом за столом. И с Федорой тоже! Вот симпатия! Это сейчас они как будто притихли, поприжали их, хотя не совсем, а в случае чего, они первому мне, а второму Алексею, вашему зятю, нож в бок сунут. Нет, не полезу в кулацкую родню, хоть бы какая разлюбовь ни была. Даже тошно об этом думать.
Видимо, мои слова задели Арину за живое.
– А разве мы, Петя, кулаки? – спросила она полушепотом.
– Не про вас говорю. Ты, тетка Арина, не думай этого.
– Обидно мне, Петя, такие речи слушать.
– Ну вот. Я, может быть, и сейчас еще немного люблю Лену. Потому-то и зашел, чтобы повидать ее напоследок, распроститься и забыть совсем, навсегда. А тут вышло вон что: Федора на дороге ее перехватила, как овцу в стаде, чтобы куда зря не убежала. Стало быть, у Лены никакого желания повидаться со мной нет. Она, конечно, узнала от Федоры, что я тут…
Санька сидела молча. Анна задумалась, и лицо ее было грустное. Федя очень серьезно вслушивался в мои откровенные слова и курил цигарку.
– Так-то, тетка Арина, прости за прямоту. Вообще, получилось хорошо. Жениться успею и через десять лет. Сейчас не до женитьбы. Дела большие. Федя вон тоже согласен со мной. Согласен, Федя, не жениться до конца войны?
– Полностью.
– А не пора ли нам идти?
– Пойдем, – сказал Федя. – Ужинать нас ждут.
– Ты хоть молочка бы немножко попил. Совсем разобиделся на нас, – неподдельно жалостливым голосом попросила Арина.
– Спасибо, – отказался я.
– Эх, какой! И молочка не хочет.
– Прощайте. Поклон Лене передайте.
И только мы хотели уйти с Федей, как в дверь негромко постучали. Я невольно вздрогнул и почему-то сел на прежнее место, на край скамьи. Санька пошла открывать дверь, за ней Федя, а потом Арина. Только Анна осталась на прежнем месте. Я обернулся, посмотрел на нее. Она сощурила глаза, и горькая складка легла меж губ.
– Кто-о? – певуче спросила Санька.
– Свои, – ответил грубый голос.
Я облегченно вздохнул. Кто угодно, только бы не Лена. Встретиться с ней уже не было никакой охоты. Особенно после такого разговора. Сейчас мы с Федей пойдем, а завтра пораньше надо ехать в Инбар. Там дела, там ждут товарищи. И так две недели в разъездах, в работе. Вижу, с какой неохотой подошла к двери Санька, даже с испугом. Взялась за щеколду и медлит, как до этого Федя, – снять ли? Сзади в напряжении стоят Федя и Арина. Слышу, как тяжело вздохнула Анна: «Э-эх!»
– Мамка, открывать, что ль? – осекшимся вдруг голосом спросила Санька.
– Чего ж теперь делать? – ответила мать. – Открывай.
– Ну-ка, обожди, – Федя слегка отодвинул Саньку. – Тоже солдат-девка! Трусиха!
Глава 12
На пороге двери предстал, высоко задрав голову, небольшого роста, кряжистый парень, одетый в серый, из солдатского сукна френч с накладными карманами.
Обут он был в добротные сапоги, в которые заправлены плотно облегающие икры галифе. Кепка с пуговицей на макушке. В руках трость.
Несмотря на такой шикарный наряд, в парне было нечто петушиное. Задранный кверху нос с раздутыми ноздрями придавал ему особую, подчеркнутую лихость, вызывающую невольную улыбку.
– Здрасте! – небрежно бросил он и, не дожидаясь ответа, обернулся к двери, повелительно позвал: – Иди!
«Что за щеголь? – думал я, разглядывая его. – И кого он зовет?»
С крыльца никто не откликнулся. Тогда он шагнул к нам и остановился, разыскивая, где бы сесть. Арина торопливо подставила ему свою табуретку и услужливо попросила:
– Проходи, садись.
– Благодарю покорно, мамаша, – ответил парень. – Всем приятный вечер! Погодка хороша.
Никто на это ни слова. Только Федя что-то промычал.
Парень снял кепку, металлической расческой провел по густым и, как брови, белесым волосам, затем, спрятав расческу в левый кармам, вынул серебряные часы. Открыл их, посмотрел на циферблат, звонко щелкнул крышкой, сунул в карман и сделал еще шаг. Я невольно взглянул на его сапоги. На левом был нормальный каблук, а на правом раза в три выше. Несмотря на это, парень не мог скрыть своей хромоты. Согнутая в колене нога «косила», как бы загребая по пути.
«Вот кто ты такой!» – наконец догадался я. Ванька-сапожник прохромал к табуретке. Подал руку Феде и, хозяйски усевшись, протянул ноги, словно всем напоказ.
– А ты что там стоишь? – крикнула Арина по направлению к крыльцу.
Оттуда послышался голос:
– Да сейчас.
Некоторое время все молчали. Слышно было, как дышала, отдуваясь и жуя жвачку, корова на дворе, как на насесте во сне переговаривались куры. С улицы доносились припевы под гармонь.
Вошедший франт обвел всех глазами, затем его взор остановился на мне.
– Познакомься, – догадался Федя и кивнул на меня.
Парень встал, косо шагнул к столу и, протягивая мне руку, важно отрекомендовался:
– Иван Петрович Жуков!
«Да уж вижу, кто ты», – подумал я и пробормотал нехотя свое имя. Мы подали друг другу руки.
– Знаю, знаю, – покровительственно заявил он и снова задрал свою голову так, как любят задирать ее мелкорослые люди. Ростом он подошел бы мне до плеча.
– Знаете меня? – спросил я. – Откуда?
– То есть как откуда? Вы-то, откровенно говоря, меня знаете?
– Нет, Иван Петрович, не знаю.
– И не слышали?
– И не слышал.
– Я Жуков Иван. Откровенно говоря, сапожник.
– А-а, догадываюсь. Федора Полосухина говорила, что вы ей вроде сосед. Очень рад с вами познакомиться.
– Оно по такому случаю и выпить нам не мешало. Самогону можно быстро достать. Хотя вы, партейцы, откровенно говоря, боретесь против самогонщиков и в тюрьму на казенный харч их сажаете. А сами, откровенно говоря, к случаю, пьете?
– Лично я самогон не потребляю.
– Почему?
– Самогон – зло. И для организма он вреден.
– А ежели шпирт?
– Только очищенный, не сырец.
– Первач, откровенно говоря, как раз подойдет.
Так начался наш веселый разговор. Мы, два соперника, принялись прощупывать друг друга. Я заметил, что Ванька был слегка выпивши. Он же знал, ему, конечно, доложила Федора, что я здесь, и он выпил для храбрости.
– Елька! – крикнула мать. – Что же ты пропала?
Она действительно «пропала». Даже не отзывалась.
Анна вынуждена была выйти к ней на крыльцо. Сквозь наш разговор до меня доносилось с крыльца: – Идем, идем, чего стоять! – Это голос Анны. – Ну как я такая? – Это голос Лены.
– Умойся, мыло принесу.
– А может, мне не надо?
– Это что же так?
– Не смею я…
Их переговоры, может быть, доходили только до меня.
– Самогон, откровенно говоря, не зло, а расход хлеба! – выпалил Жуков, и опять раздулись его ноздри.
– С расходом хлеба, у кого он есть, считаться нечего, – сказал я. – Ведь не из чужого, а из своего собственного гонят.
– Все равно убыток государству, – авторитетно заявил Жуков и неведомо почему пригнусавил.
– При чем тут убыток? – не сдавался я. – За самогон втрое можно выручить керенок, чем за хлеб. Кроме того, барда остается. А барду свиньи, дай бог им здоровья, очень обожают. И тоже деньги от свинины.
Жуков нехитер. Был бы он посмекалистее, то догадался б, что я его разыгрываю, и сказал бы: «Брось дурака валять. Не заправляй арапа!»
Он старался говорить по-городскому. Это меня и не удивляло. В Горсткине вообще говорят довольно грамотно. Уездный город от них недалеко. Туда население ездит часто на базар. К тому же многие побывали в Баку. У родственников, которые работают там, на нефтепромыслах. Уж так всюду повелось: уедет кто-нибудь из села в какой-нибудь город, устроится там и потянет за собой родственников.
– Нет, – продолжал Жуков, не сдаваясь, – я бы всех самогонщиков, как поймал на месте, откровенно говоря, под откос, в овраг спускал. Пули не жалко для гадов… А как вы, откровенно говоря, мечтаете хлеб выкачивать из населения? – вдруг спросил он.
«Эге, вон куда загнул, хромой франт». И ответил ему:
– Да так же, как во всех селах.
– То есть?
– Выкачивать… насосом.
Он, дурак, не понял шутки или пропустил ее мимо ушей.
– Когда думаете приступать?
«Так, так. Послушаем, что дальше пойдет. Конечно, его кто-то, скорее всего Егор и Федора, послал сюда „пронюхать“, а кстати, показать себя перед родными, что и он не лыком шит. Потому и нарядился как индюк».
– По-вашему, когда бы надо, Иван Петрович? – спросил я.
– Это не в нашей власти, – быстро ответил он и даже отмахнулся.
– А ваша власть какая?
Подумав, он ответил:
– Лично я не власть. В Совете не заправляю. Вот он, – кивнул Ванька на Федю, – он состоит в заправилах, а теперь в комитете по выкачке хлеба.
Как злобно блеснули глаза у этого франта на Федю! Да, этот щеголь не простак. От него всего можно ожидать. Жуков – бывалый жучок.
Федя сдержанно ответил:
– Я власть без году неделя. И того меньше. Вот ты бы помог мне в свободное время. Не все же дни разъезжаешь по железным дорогам. Помоги, Ваня.
– Права не имею, но, откровенно говоря, в душе сочувствую.
– Кому? – прищурил Федя глаза.
Но Жуков так и не ответил, кому же он сочувствует. Дверь неожиданно открылась, и на пороге показалась Лена.
Как тревожно забилось мое сердце! Ведь, разговаривая с Жуковым, я не забывал посматривать на дверь, и все же вошла Лена незаметно. Я едва не вскочил, чтобы броситься ей навстречу, но напряжением воли сдержал свой порыв. Подавляя смущение, от которого дыхание захватило, я на ее кивок ответил тоже кивком, как чужой девушке. Но это мне показалось неестественным, нарочитым, наигранным – лишь бы скрыть от людей, что мне, мол, все равно. Зачем? Они же знают все! И, мысленно послав к дьяволу притихшего Жукова, не обращая внимания на остальных, я встал, подошел к Лене, подал руку и, через силу сделав веселое лицо, громко проговорил:
– Ну, здравствуй, Елена Емельяновна!
– Здравствуй, Петя! – едва слышно ответила она и протянула руку.
Притворившись, что ничего-ничего я про нее не знаю и как будто расстались мы только вчера, невольно произнес:
– Лена, какой ты стала хорошей.
– Ну уж… хорошей, – ответила она, потупясь.
Даже при свете лампы было заметно, как зарделись ее загорелые щеки.
– Садись, Лена, – указал я на скамью, с которой встала Анна.
Теперь, когда Лена сидела прямо напротив меня, освещенная лампой, и мне хорошо было видно все ее лицо, я, будто были мы одни, принялся расспрашивать ее, как она живет, и то и дело повторял: «Какая ты хорошая!»
Мне дела нет, что все слушают наш разговор. Я забыл, что здесь сидит «нареченный» и смотрит на нее зорко, а на меня злобно. Все это замечать не к чему. Вот я увидел ее, мое счастье! Но где-то глубоко в сознании, помимо моей воли, кто-то трезвый, беспощадный твердил, что я для нее чужой, чужой. Но это ощущение было так далеко запрятано, что наперекор всему рассказывал Лене, как я шел тогда от них домой, как мучился, как смотрел с горы, издали, на крышу их избы, а придя домой, свалился и заболел от горя, от обиды, от потерянного счастья.
Но по мере того как я говорил, опять в глубине моего существа кто-то подсказывал, что я вижу ее в последний раз, что она уже не моя, и я вновь гасил этот чужой, враждебный моей любви голос. Топил его в словах любви. Не прошедшей любви, о которой говорил ее матери, а подлинной, совсем не угасшей, наоборот, вспыхнувшей с еще большей силой.
А Федя, слышу, все что-то бубнит Жукову, зовет его куда-то, но Жуков молчит. Молчит, и чувствую, что подозрительно и ревниво смотрит то на меня, то на Лену. А что мне сейчас его ревность и злоба! Лишь бы Лена не уходила от меня.
Никто и ничто не существует сейчас для меня, кроме Лены, кроме ее белой кофточки с вышивкой и белой косынки.
– А помнишь лес? – спросил я полушепотом. – Помнишь, как мы сидели на опушке среди цветов?
– Помню. – Она опустила голову.
– А помнишь, я тебя спросил: «Любишь ли меня?» И ты ответила: «Девушки о любви вслух не говорят». – «А как же?» – спросил я тебя. «А вот как!» И ты поцеловала меня и заплакала.
– Все помню, – едва слышно ответила она.
– Сейчас не забыла меня? Сейчас-то любишь?
Она совсем низко опустила голову. Потом глухо ответила:
– Сам виноват.
– Чем, чем?
– Не приезжал больше.
– Лена, разве в этом дело? Я все время был в работе, в разъездах. Усмиряли восстания. Потом два месяца тифом болел. Говорят, бредил тобою. Сестра в больнице сказала: «Все какую-то Лену звал».
– Дядя Викеня виноват. Письмо тебе с ним в город посылала, а он напился и письмо потерял.
– Знаю, знаю. Федора мне говорила.
Помолчав, добавил:
– Твоя сестра… Федора.
– И она виновата.
Она подняла голову, и глаза ее были полны слез. Она проговорила, не отирая их:
– Боюсь я.
– Кого боишься?
– Всех. Не знаю.
– И меня?
– И… тебя боюсь.
– Меня-то что?
– Зачем так говоришь?.. Уже все прошло… Зачем зря бередить?
«Зря». Опять это «зря». Короткое, но страшное слово,
– Чего же тебе нужно? – вдруг спросила она, взглянув на меня.
Что ей ответить? Я похолодел под взглядом ее голубых глаз. Да точно ли они голубые? И уже высохли слезы на них. И были то не глаза ее, а голубые ледяшки.
Множество «зря». Любил ее зря, зря вовремя не дал отпора Федоре, зря испугался тогда, и зря вот приехал сюда, и совсем зря желал свидания. Так мне и надо.
Глухим голосом я тяжело спросил:
– Значит, ты теперь не любишь меня?
– Нет.
Все.
Радуйся, Федора, твоя взяла…
Радуйся, сапожник Жуков Иван. Твоя взяла.
Уезжай, Петр. Твоя не взяла.
«Нет, нет и нет!»
Федя угрюмо смотрит на меня, а я чувствую, как проваливаюсь сквозь земляной пол.
– Спасибо, Лена.
Она молча встает, не глядя, протягивает мне руку. Я холодно жму ее руку, чужую, уже не мою.
И странно – чувствую вместе с горечью какое-то облегчение. Очень странно. Словно я освободился от чего– то, давно гнетущего меня. От какого-то сладкого, но непомерно тяжелого груза.
Лена прошла в открытую дверь избы мимо Феди. Федя покосился на нее, а Жуков смотрел на меня, и не поймешь, то ли довольная, то ли злорадная улыбка перекосила его курносое лицо. Нет, не поймешь. А я только посмотрел в спину Лены как бы напоследок, и она скрылась от меня во тьме избы.







