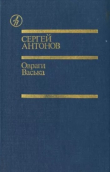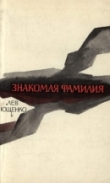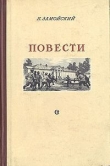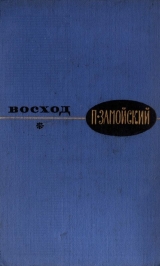
Текст книги "Восход"
Автор книги: Петр Замойский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 27 страниц)
Глава 36
– Власть-то власть! А где ее совесть?
– Молода эта власть для совести.
– Молода – не берись.
– А что прежняя? Ездили куда хошь без этих пропусков.
– Вернуть прежним?
– Эй, с кошелкой! Ты откуда?
– Тебе-то что?
– Видал я тебя где-то. Случайно, не в Пензе на толкучке? Только вроде одеянье было другое.
Толпа людей, собравшихся перед каменным одноэтажным зданием уисполкома, насторожилась и окружила этих двух давно спорящих мужчин. Одного из них я знал. Это председатель Свищевского волисполкома Степан Разгуляев. Бородатый, плотный, среднего роста, он очень энергичный, сумбурный. Зато верный, свой человек. Недавно его приняли в партию. Второго мужчину я не знал. Сухощавое узкое лицо с бородой клинышком. Одет в потрепанную одежду. Острые глаза его бегали с одного человека на другого. Я стоял в стороне и прислушивался. Толпа мужчин и женщин собралась здесь не просто так, хотя сегодня базар и праздник первого Спаса, сбора яблок. Большинство пришло в общий отдел управления за пропусками на станции железных дорог. Разберись, кто из них честный человек, которому необходимо ехать по неотложным делам куда-либо, а кто под видом какой-нибудь придуманной нужды поедет спекулировать мукой, мясом, самогоном.
И так каждый день с утра, когда еще в городе только стадо выгоняют да поют петухи. Сегодня я запоздал почти на час прийти в отдел управления, так как вчера засиделись мы в кабинете Ивана Павловича, председателя УЧК. И не первую ночь заседали. «Авантюра Жильцева», как называл ее Шугаев, добавила нам работы. Днями мы вели допросы, а вечером разбирали и решали, кого выпустить, взяв подписку, «чтоб впредь не случалось», кого приговаривали «условно», а кого и «безусловно». Большинство «приговаривалось» на трудовую работу по заготовке дров в Чернышевских, графских, лесах, вывозку дров к больницам, школам, уездным учреждениям, иных – на уборку хлебов в селах, убирать, косить и молотить хлеб солдаткам, вдовам и семьям красноармейцев. Тюрьму мы уже «прочистили» от мелких спекулянтов, самогонщиков и прочего мусора, а теперь вот этак сортируем. Зачем держать в тюрьме людей, винить за случайную ошибку? Лучше пусть работают, исправляются в труде.
Вчера подробно разбирали дело Тарасова. Сложное, трудное. Против Тарасова то, что он помещик, тесть Васильева. И главное: заговор подготавливался в его бывшем доме. А с другой стороны?
С другой – то, что, в сущности, это уже не его дом, он жил в нем временно, как и Климов, и не пустить Васильева не мог. Мы его тоже не спрашивали! Попробовал бы не пустить нас! А то, что он тесть Васильеву, так тут совсем не его вина. Дочь вышла замуж за Васильева еще до революции. После, по слухам, сбежала от него. Вторая, младшая дочь, та вообще покинула отца. Помещик-то помещик, но мелкий и того типа, как помещик Стогов, народник. Увлекался не наживой, как Климов, Полубояров, Владыкин и, конечно, не как Ладыженский, имевший свыше десяти тысяч десятин земли, конный да винокуренный заводы. Мы же разбираемся. Ну кто понуждал Тарасова, как и Стогова, помогать в старое время школам, покупать для библиотек книги, устраивать елки для крестьянских детей? А Тарасов вдобавок показывал картины через волшебный фонарь, ставил спектакли в своем доме. Сам участвовал в них, сам рисовал декорации.
Еще узнали мы, что он изредка помогал деньгами и хлебом мужикам. Он советовал мужикам разводить сады, выстроил водяную мельницу на речушке. Конечно, он имел батраков, но по необходимости, и не было у него ни единой ссоры с мужиками. Да сами же мужики Горсткина охотно у него работали. По слухам, у него, как и у Стогова, с которым он дружил, были при царской власти обыски, и числились они в какой-то народнической партии, о которой мы имели смутное понятие. И оба они яростно ненавидели Климова и других, а те считали их помещиками низшего сословия. Но Стогов умер накануне Февральской революции, а Тарасов дожил до Октябрьской. Вот и разберись тут. Но разобраться помог нам Степан Иванович Шугаев. Он больше всего охладил наши молодые задорные головы и внушил нам, что пословица «Лес рубят, щепки летят» тут не совсем применима. «Поменьше щепок».
В конце концов, мы решили освободить Тарасова, сделать ему серьезное внушение и использовать его на культурной работе.
Вот и опоздал я на прием этих посетителей, которые больше всего пришли «по мою душу».
Послушав еще немного, как они чихвостили меня, я, будто ни в чем не бывало, пробрался вперед на крыльцо.
– Здравствуйте, товарищи!
Мне разноголосо ответили. Многие уже принялись упрекать меня за опоздание, но я извинился. Сослался, что всю ночь мне пришлось разбирать дела спекулянтов, самогонщиков. Про наше заседание сказал.
– А теперь, товарищи, давайте говорить здесь. В первую очередь рассортируем вас. Кто пришел за пропусками – это одно дело, спешное. Кто по другим – зайдите попозднее ко мне в кабинет. Времени для всех хватит. Сейчас скажу несколько слов тем, кто пришел за пропусками на проезд по железной дороге. Мы будем вместе с вами вот здесь, прямо на улице, работать. Советская власть – артельная власть, и у нее нет тайн от народа…
Я стал говорить о голоде в стране, о разрухе, о спекулянтах, у которых на руках подложные справки. Когда я предложил сообща разобраться в этих справках, я заметил, что от толпы один за другим стали отделяться какие-то личности. Заметили это и другие. Сначала засмеялись, потом зашикали, засвистали. Я попросил, чтобы принесли стол, табуретки. И вот было устроено собрание прямо на улице. Да, собрание, вскоре перешедшее в митинг.
Я не заметил, как рядом со мной очутился Шугаев. Я с большой радостью пожал ему руку и шепнул, чтобы он выступил на этом неожиданном митинге и рассказал о последних событиях. И удивительно, как быстро разнеслось по базару, что возле уисполкома выступает сам Степан Иванович Шугаев. Он снял фуражку, провел по волосам пятерней и звонким, слышным всюду голосом начал:
– Товарищи, всем вам известно, что недавно, месяц тому назад, в нашем городе вспыхнуло восстание левых эсеров во главе с Жильцевым. Этот авантюрист и пройдоха с группой поддавшихся на его удочку несознательных людей и отщепенцев народа решил свергнуть власть трудящихся, взять ее в свои руки, передать кулакам и бывшим помещикам. Не выгорело его дело. Шайку его мы разбили, а самого недавно словили в коноплях его села, где он прятался с другими, перерядившись деревенской бабой. Но попа и в рогожке узнают. Словили его. И кто же? Сами деревенские женщины, делегатки, беднячки. Но и тут он пролил кровь. Одну женщину он убил наповал из нагана, убил отпущенного из тюрьмы на свободу, им же посаженного Ивана Хватова, который помогал его ловить, ранил второго освобожденного, невинно посаженного им же, бывшего когда-то, при царском правительстве, правонарушителем, Назарова. Когда стрелять было уже нечем, он сдался. Деревенские женщины доставили его в город. Теперь восставшие сидят в тюрьме. Что их ожидает? Вот я вас спрашиваю: как надо поступить с врагами трудящегося советского народа? Какой вы вынесете им приговор?
Шугаев, прищурившись, молчал и смотрел в толпу, а она, пораженная, на него. Ведь многие еще не знали подробностей. Шугаев ждал, что скажет этот случайно сошедшийся здесь народ. Народ заволновался, но нужного слова не говорил. Мало ли что может быть? Иные даже начали потихоньку уходить. Это заметил Шугаев. Лицо его дрогнуло. Мельком он взглянул на меня.
– А может быть, по вашему мнению, Жильцева и других надо выпустить на свет божий? Может быть, им надо дать свободу? Пусть живут среди нас и дышат? Как вы, товарищи? Что посоветуете? Как скажете, так тому и быть.
И сразу взорвались крики, грозные возгласы, требования.
– Чего спрашивать!
– Смерть им всем!
– В поганый овраг их!
– На лошадиное кладбище!
– Гляди-ка что!
– Расстрел им всем!..
– Повесить на осинах в лесу и не снимать!
– Чего Чека глядит! Разь не видно сразу?
– Дайте нам их, мы сами расправимся.
– Ведите их сюда! На месте расстрел!
И ни одного слова в защиту! Выступил молодой парень, подойдя к столу. В руках у него бумажка. Это был Ваня, парень, которого мы с Иваном Павловичем встретили в чайной.
– Товарищи, послушайте меня! Я хоть и молодой и не мне учить вас. Но вот из нашего села несколько человек были в банде. Среди них – бывший урядник Василий Антонович, которого многие знают. Он работал у Жильцева милиционером! А кроме того, еще кулак нашего села Бушуев. Я сдуру чуть, ей-богу, не женился на его дочери. Раньше не отдавали, а тут сами доняли, да, спасибо, мне глаза открыли. Вот бы влип!
Смех раздался среди народа.
– Да, да. Это наука нам, молодым. И стал бы вот я зятем классового врага, врага Советской власти. Я, товарищи, вот что вам зачитаю. Послушайте! «От имени трудового народа, собравшегося здесь шестого августа тысяча девятьсот восемнадцатого года, после заслушания сообщения председателя уисполкома о контрреволюционном мятеже в городе Инбаре левых эсеров, человекоубийц, покушавшихся на нашу родную Советскую власть, предлагаем ЧК и Ревкому немедленно беспощадно уничтожить поганую свору буржуазии во главе с бандитом Жильцевым, чтобы впредь никому никогда повадно не было!»
Он прочитал это громко, одним духом, запальчиво и, оглянувшись на нас, воскликнул:
– Голосую! Кто за эту резолюцию, поднимите руку!
Только тут мы увидели и поняли, как была накалена масса. Словно вихрь взметнулись руки.
– Кто против?
Ни одной руки. Да как тут поднять руку?
– Единогласно! – крикнул Шугаев. – Спасибо, товарищи. А теперь за дела. Ваше народное предложение будет выполнено.
Шумя, взволнованно размахивая руками, о чем-то крича и споря, многие тронулись на базар. Солнце взошло, базар вступил в силу, яблок навезли гору. То-то будет разговору! Разошлись и мы по своим местам. Шугаев – к себе с толпой приехавших к нему мужиков, я – к себе, в отдел управления.
Сегодня удивительно как мало было людей за пропусками.
Так было подавлено восстание левых эсеров в городке Инбаре. Жизнь шла вперед, и судьба моя вскоре переменилась. По командировке губкома я уехал в Москву, в только что открывшийся Пролетарский университет.
Однажды в морозный день утром к нам, в комнату студентов, почтальон принес письма. Два из них были мне. Я раскрыл конверт с незнакомым мне почерком. Письмо было от Феди, предкомбеда села Горсткина. В нем он пишет, что с весны уже комбеды будут работать вместе, артельно, что дом Тарасова отремонтировали и в нем устроена библиотека, проводятся занятия с неграмотными, а на сцене ставятся спектакли.
Весной, после спада полой воды, они починят плотину, а водяная мельница уже выстроена. Материал и жернова взяты с мельницы Полосухина.
«А еще сообщаю, Петр Иванович, осенью этой, на праздник Казанской, Лену повенчали с Ефимкой, гармонистом. Грустно тебе будет от этого или нет, не знаю. А думаю, что лучше так. Ты учись и выходи большим ученым. Санька тебе кланяется. Она вступила в комсомол, играет на сцене. Веселая, озорная, как и была. Словом, солдат-девка.
Федору мы не трогаем. Пусть живет и знает, что их время миновало навсегда.
Излишки хлеба мы продали государству, кооператив получил городской материал, какой нам очень нужен.
Вот тебе и все.
Твой друг Федор Евсеев».
От Сони уже второе письмо. Пишет, что курсы медсестер она окончила, просилась на фронт, но ее оставили в Пензе работать в госпитале.
«Петр, пиши, не ленись. Моя мечта – поступить в Саратовский медицинский институт, на хирургическое отделение.
Время впереди, и мы еще увидимся. Будь жив и здоров. Привет твоим друзьям по общежитию.
Целую тебя. Твой друг Соня.
О Никите-продотрядце, который стоял у вас в доме на квартире, отец твой недавно писал, что он, Никита, когда покончил свою работу с вывозкой хлеба, уехал в Питер. Эшелон с хлебом со станции Воейково сопровождал он и продармейцы из других сел».
Прочитал я письма. Защемила тоска по далекому родному селу, по городу Инбару, по товарищам моим Шугаеву, Боркину, Гаврилову и чудаковатому Коле Бокову.
И так потянуло к ним, захотелось взглянуть на наш утопающий теперь в сугробах снега родной город, где я работал, мужал и учился самой доподлинной революционной жизни! Не забыть мне тех тяжелых и радостных дней никогда. В них моя молодость, в них восход моего зрелого, сознательного бытия.

1956
Художник жизненной правды
Верно говорят: о писателе лучше всего судить по тому, что он пишет, а не по тому, что о нем пишут. Нет сейчас нужды представлять Петра Ивановича Замойского. Читатель этого двухтомника уже познакомился с его автобиографическим «Рассказом о себе» и с его тремя автобиографическими повестями – «Подпасок», «Молодость», «Восход» – и у него сложилось свое суждение о писателе. Задача моего небольшого послесловия – помочь читателю более всесторонне оценить писателя, определить его место в советской литературе.
Не буду пересказывать известное: где и когда родился П. И. Замойский, как жил и работал. «Рассказ о себе», открывающий двухтомник, в какой-то мере восполняет предисловие. В нем – история жизни и история творчества писателя. Читатель не может не обратить внимания на то, что одно сливается с другим, составляя органическое целое. Я же, в свою очередь, подчеркну, что П. И. Замойский не только писал книги о революционных событиях 1905 и 1917 годов, о коллективизации, но и сам активно в этих событиях участвовал. В начале 1918 года он вступил в Коммунистическую партию, боролся с бандами Антонова, работал в органах Советской власти. Его командировали учиться на рабфак в Москву. Он потом не раз возвращался к себе на родину, помогал создавать первые колхозы. В годы гитлеровского нашествия П. И. Замойский, находясь в родном селе Соболевке, возглавлял местную партийную организацию, боролся за помощь фронту хлебом, писал антифашистские рассказы и пьесы, руководил всевобучем. «Рассказ о себе» завершается 1956 годом, когда его автору исполнилось шестьдесят лет. Он прожил еще два года и умер в ночь на 21 июля 1958 года.
Каждый, кто знал П. И. Замойского, надолго сохранит его облик – облик человека с лицом крестьянина и с душой художника.
Был он чуть выше среднего роста, массивный, с округлой, «крепкой чкаловской кладки», как выразился один скульптор, головой. Левая рука искалечена: осколок австрийского снаряда еще в 1916 году раздробил ее кисть. Лицо широкое, скуластое (прабабушка была татаркой), смуглое от обилия веснушек. Редкозубый. Густые черные волосы зачесаны назад. Глубоко посаженные серые глаза и пронизывающе острый взгляд из-под нависших бровей. Глаза с хитрецой и доброй смешинкой. Голос звучит глуховато, низко…
Весь он – сдержанный, неторопливый, задумчивый и застенчиво-скромный: без позы, без жеста. Он никому не льстил и сам не любил лести. В нем было развито чувство собственного достоинства. И он уважал его в других. О литературе он судил строго, по большому счету. И предан ей был беззаветно.
«Вот у меня на стене четыре гиганта, – писал он в годы Отечественной войны из Соболевки своему давнему другу – литератору А. Вьюркову, – Л. Толстой, Пушкин, Гоголь и Салтыков-Щедрин. Сколько раз эти гениальные пальцы держали в руках ручки с перьями, сколько эти живые глаза читали? Какой гигантский труд они все совершили. И не сразу, а изо дня в день. А мы что? Что мы сделали? Если не по ним равняться, тогда жить не стоит. А равняться – это работать, мыслить, читать, учиться и снова, снова работать. Вот в чем смысл жизни нашей».
Из революции пришел он в литературу. И литература всегда была для него святым революционным делом.
В 1918 году, как мы уже знаем, П. И. Замойский вступил в Коммунистическую партию. Тогда же в «Известиях Чембарского Совета рабочих и крестьянских депутатов» появились его первые статьи, фельетоны. А в 1921 году – и первый рассказ «Кулак и его дети».
Время было горячее. В литературе двадцатых годов работали революционные писатели и писатели, примыкавшие к разного рода декадентским школкам. Одни следовали традициям классиков, другие их отвергали. Одни боролись за социалистический реализм, другие проповедовали формализм, натурализм, космизм. Одни звали искусство «на баррикады сердец и душ», звали его служить жизни, вторгаться в нее и способствовать ее переустройству, другие ратовали за «искусство ради искусства».
Перед молодым писателем не стоял вопрос: с кем быть?
Он писал: «Вся старая жизнь ворчит на новую. А новая идет бодрая, лучистая. Будит она деревню от векового сна. Ручейками светлыми пробивается в темь».
Пафос его творчества в том и состоял, чтобы превращать светлые ручейки в полноводные реки и моря. Оружием слова он борется с кулачеством, с вековой темнотой, с собственнической коростой, с религией, с патриархальщиной, с женским неравноправием, со всем тем, что называется «идиотизмом деревенской жизни».
Революция призвала его в литературу, чтобы говорить правду. А правда требует ясной формы. Он воспитывался на классиках. Сказались и последующие литературные связи: А. Неверов, А. Серафимович, Н. Ляшко, А. Малышкин…
Петр Иванович Замойский становится лидером той части советских писателей, которые именовались крестьянскими и были объединены во Всероссийское общество крестьянских писателей (ВОКП).
Он активно работает. И что важно: не довольствуется достигнутым. Великие тени зовут его к подвижническому труду.
Не стану анализировать его первые книги, адресованные детям и юношеству. Его имя стало широко известным после выхода романа «Лапти». Под ним выразительные даты: 1922–1936. Четырнадцать лет труда! Это монументальное произведение о годах колхозного строительства стоит в ряду таких произведений, как «Ледолом» К. Горбунова, «Ненависть» И. Шухова, «Бруски» Ф. Панферова, «Поднятая целина» М. Шолохова… «Книга радует своей достоверностью, явственно распознаешь при чтении: это – жизнь, это так и было, это – правда, а не правдоподобие», – писал о третьей книге «Лаптей» Иван Катаев в «Правде». Но вот в 1950 году выходит новое издание «Лаптей», и автор, не довольствуясь тем, что роман получил всеобщее признание, основательно переписывает его, уточняет, сокращает. Вместо четырех книг остаются три: «Левин дол», «Поворот», «Столбовая дорога». Роман снова переиздается. И автор еще раз берется за перо. «Правлю каждую страницу», – признается он издателю.
Находясь уже в больнице, незадолго до кончины, П. И. Замойский обращается к сыну – Л. Замойскому: «…были бы силы – почистил „Восход“. Он бы заиграл…»
До последней буквально минуты в нем жил взыскательный художник.
Мне не раз приходилось беседовать с Петром Ивановичем. Однажды мы разговорились о его работе, и я высоко отозвался об его уменье писать лаконично и точно, социально значимо. Во всем – правда: правда ситуаций, характеров, психологии, эмоций… Правда в искусстве не есть нечто отвлеченное и умозрительное. Она очень конкретна. Она – в позиции художника, в его зрении, слухе, краске, интонации. Возьмешь не ту ноту – и сфальшивишь. Интересовало: в чем тайна его мастерства?
Он пронзительно посмотрел на меня и серьезно ответил:
– Если хочешь знать, то я, когда пишу, сбрасываю с себя все одежонки и остаюсь как бы голеньким. Я беспощадно оголяю и тех, о ком пишу, чтобы лучше разглядеть их…
В этой связи он заговорил о писателях, наиболее близких и дорогих его сердцу. На первом месте здесь был, конечно, такой ясновидец, как Лев Николаевич Толстой. Он назвал тогда еще Лескова, Бунина. А из современников – Неверова, Подъячева, Шолохова и Фадеева.
Прежде чем стать писателем, П. И. Замойский мечтал о карьере артиста. Он пытался даже поступить в театр. Тяга к театру сохранилась на всю жизнь. В годы Отечественной войны писатель, как известно уже из «Рассказа о себе», находился в родном село Соболевке, Пензенской области. Там, на клубных подмостках, ставились его одноактные пьесы, и он иногда сам играл в них. Часто выступал и в роли чтеца собственных произведений. Это было артистическое чтение!
Он мыслил образами и писал, как мне представляется, очень сценично, показывая суть явлений в их оголенно-зримой конкретности и, одновременно, в их обобщенной типической силе. Я сказал ему об этом, и он, улыбнувшись, заметил:
– Сцена не терпит многословия. И ей подавай такие слова, как патроны в обойме, каждое чтобы стреляло.
Он искал и находил такие слова. И его героев легко представить на сцене.
Вспомните начало «Подпаска». Как мало сказано и как много выражено! Всех и все реально представляешь: и десятского Фильку Шкалика, которого неспроста прозвали «Шкаликом», и Петьку, радующегося тому, что как они ни бедны, а все-таки пригласили и угощают чужого человека, и хозяина, и избенку, и быт семьи, и морозную погоду…
Возникают и сменяются одна за другой сцены сельской жизни. Вместе с подпаском Петькой мы как бы проходим его «университеты». И опять же здесь все весомо и зримо. Разве забудешь, например, сцену крестьянского схода, на котором нанимали пастуха? Или то, как запродали в подпаски Петьку, которому так хотелось учиться? Волнуясь, читаешь: «…думалось, что училище бросить не жалко и что все равно учись – не учись, а толку не будет, и путей мне дальше нет». А страницы, посвященные коровьему стаду! «Их разгоняли, били, но от этого они еще более свирепели. Рога у них переплелись, словно кто спаял им лбы». А проникновенная характеристика поведения стада! Вспоминается очеловеченный мир животных в «Маугли». Но тут все свое, русское.
Тяжелый шлагбаум, который было опустился перед Петькой и грозил перекрыть путь его жизни, поднялся. И мы, читая трилогию, с искренним волнением наблюдаем и сопереживаем происходящее.
До Октября 1917 года еще далеко. Но все громче н громче голоса о том, что невмоготу терпеть нужду и гнет, все крепче толчки революции. И не узнать Петьку! Он говорит: «…„Капитанскую дочку“ читал. Вот в старое время был Пугачев. Как он колошматил этих дворян! За мужиков шел. И войска из мужиков, из татар, башкир. Теперь бы такого Пугачева к нам. Мы бы…» И это говорит тот самый паренек, который еще совсем недавно мечтал о спокойной жизни, о своей избе, лошади, корове… «Мне ничего больше не надо, только бы землицы!»
Автор ведет Петра Наземова сквозь десятилетия – от 1905 года к 1917 и дальше. И не его, конечно, одного. Много людей – и много судеб. Читатель их знает. И он, уверен, согласится, что все они – от живой жизни. И весь долгий и сложный процесс их становления, развития, утверждения одних и ниспровержения других, процесс классового расслоения деревни и острейшей классовой борьбы – все это не натуралистическое списывание с действительности, а проникновение в ее сущность.
Если продолжить мысль о весомом и зримом в повести «Подпасок», то нельзя обойти такие сцены, как драка с кокшайскими мужиками, школьный экзамен, чтение ребятам «Детства» Льва Толстого, схватка со стражниками, схватка с казаками…
Все это верно действительности и написано превосходно.
Выразителен диалог. Произносимые слова не «извне наклеены», а принадлежат именно тем людям, какие их произносят.
Поэтичны картины крестьянского труда и быта.
В памяти не только праздник начала пастьбы, выписанный с особенной тщательностью. Запоминается и картина сенокоса, начинающаяся словами: «Чу! Кажется, звон… Да, коса звенит. Вот другая. Она звенит полнее».
Пейзаж живописен и, что не менее важно, социально содержателен.
«С возвышенности далеко видны поля. Много земли. Вон грань. Она отделяет барскую землю от нашей. Она отрезала от села луга, лес, родники и самую хорошую землю. Узким клином сходится барская земля со второй барской гранью. Вторая захватывает эту степь, лес и опять землю, но уже отрезанную не от нас, а от соседнего села».
Нет, это не «равнодушная природа»!
Я задержался на повести «Подпасок» – части целого, чтобы с ее помощью можно было осмыслить целое, то есть все лучшее, что есть в творчестве П. И. Замойского.
Предваряя свою автобиографическую трилогию, он писал в 1928 году: «…я покажу, каким огнем закаляется человек, чтоб из него вышел крепкий коммунист и правдивый до жестокости писатель».
Читая «Подпасок», «Молодость», «Восход», мы имели возможность это увидеть.
В огне классовой борьбы закалялись герои «Лаптей» и среди них прежде всего колхозный вожак Прасковья Сорокина и ее сын. В огне трех революций закалился Петр Наземов. Правдивый «до жестокости» писатель открыл нам внутренний мир этих людей – мир высоких помыслов и благородных страстей. И мы ему за это благодарны.
Алексей Максимович Горький подсказывал некогда С. П. Подъячеву, которого П. И. Замойский чтил как своего учителя: «Очень полезно было бы деревенской молодежи, если Вы написали Вашу автобиографию. Вы должны понять, как это воодушевило бы комсомольцев, порою, как я знаю, унывающих пред великой трудностью преодолеть деревенскую старинку».
Автобиографическая трилогия П. И. Замойского превзошла книгу С. П. Подъячева «Моя жизнь». Она блестяще выдерживает сравнение и с более известными образцами этого жанра.
О творчестве П. И. Замойского писали при его жизни и после. В последнее время – до обидного мало. Писали разное. В основном – доброжелательно. Но часто за этой «средней» доброжелательностью нельзя было увидеть настоящие масштабы его дарования. Он писал о крестьянстве. И был, несомненно, весьма талантливым советским писателем в том широком смысле, в каком мы это сейчас понимаем. Его же часто рассматривали как сугубо крестьянского писателя, как бытописателя деревни, тем самым сужали, недооценивали его значение для советской литературы. И потому, должно быть, слава его – значительно меньше ого заслуг.
О них же, о его заслугах перед отечественной литературой, впервые в полный голос заговорил А. А. Фадеев. Он назвал, например, повесть «Молодость» незаурядным явлением. И обосновывал: «Духовный мир крестьянина, и передового, и отсталого, и ищущего правды, и уже очерствевшего от корысти, духовный мир женщины-крестьянки – все это дано с большой внутренней правдивостью и подлинной лирической силой». И дальше: «Я не знаю другого произведения, где бы с такой чистотой, отсутствием всякой грубой физиологии, которой так любят злоупотреблять многие авторы в изображении деревни, были даны любовь и любовные отношения в русской деревне. Все люди в изображении Замойского встают такими очеловеченными, что это не может не волновать. Замойский, как никто из современных авторов, видит эту сторону жизни деревни, которая была за семью печатями, скажем, даже для Бунина. И в этом большая заслуга Замойского».
Так о П. И. Замойском еще никто не говорил.
Несколько позже поэт Н. Н. Асеев выступил со статьей «Жизнь слова». В ней он утверждал, что «такой „малогромкий“ писатель, как П. Замойский, может послужить примером точного, живого русского языка, связанного с народным крепкими связями».
Читатель, надеюсь, согласится с этими оценками. Он найдет в них подтверждение своим мыслям и чувствам, рожденным общением с творчеством «малогромкого», но поистине выдающегося художника.
В творчестве П. И. Замойского – удивительная свобода и естественность. С первых буквально строк перед тобой возникают люди и события в их первозданной натуральной сущности. Это великое уменье писать так, чтобы читатель не усомнился в правде изображаемого.
Замысел писателя реализуется, как мы знаем, в слове. Оно несет в себе и мысль, и чувство, и текст, и подтекст. «Мысль относится к слову, как душа к телу, а слово к мысли, как тело к душе», – писал великий земляк П. И. Замойского – В. Г. Белинский. Художник оркеструет слова, и они звучат то камерно, то симфонично. Они имеют и запах и окраску… Н. Н. Асеев писал о чистейшем, подснежниковом, весеннем языке М. М. Пришвина и о цветном, выпуклом, как мордовская вышивка, языке Всеволода Иванова. О слове П. И. Замойского можно сказать то же, что сказано в «Подпаске» о пастушьем марше: «…мелодичный, переливчатый, пахнущий полевым простором и раздольем, душистым степным разгулом и зелеными травами…» Речь идет не просто о языке. Тот же В. Г. Белинский различал, как мы знаем, понятия язык и слог. «К достоинствам языка, – писал он, – принадлежит только правильность, чистота, плавность, чего достигает даже самая пошлая бездарность путем рутины и труда. Но слог – это сам талант, сама мысль. Слог – это рельефность, осязаемость мысли; в слоге весь человек; слог всегда оригинален, как личность, как характер». Потому-то Н. Н. Асеев и писал о «выпуклом» языке Всеволода Иванова. Язык П. И. Замойского – рельефен. В его слове – тот самый народный корень, который делает речь колоритной, живой, впечатляющей.
Петр Иванович Замойский знал жизнь не по книгам и писал о ней не по чужим образцам. Писателей, как и растения, можно, кроме всего прочего, определять по тому, как глубоки в почве их корни. Одного сравнишь с домашним растением, этакой геранью, или фикусом, или душистым горошком, которое сидит в горшке и корни которого лишь слегка прикрыты землицей. Другой же напоминает могучее древо. Творческие корни П. И. Замойского – глубоко в народной почве. Она его и питала. Он – плоть от плоти и кость от кости того, о чем писал и как писал, И до такой степени, что иногда, как свидетельствует его сын, писатель даже с тревогой думал о том, что «мужик вытесняет в нем художника».
Этого, к счастью, не случилось. В нем, до конца дней его, жил художник. Он работал не покладая рук и не довольствовался сделанным. Незавершенными остались рукописи двух его автобиографических повестей – «Трактир», «Нищета» и романа «Источник сил» – из колхозной жизни времен Отечественной войны.
Есть авторы, которые пишут о многом и разном. П. И. Замойский, не стыдясь, называл себя «писателем-однолюбом». Он говорил: «…пишу только о том, что хорошо знаю». Сочинительство ему противопоказано! Эпическая тема современности – исторические свершения, преобразующие деревенскую жизнь, обновляющие ее основы, рождающие новых людей – стала его глубоко личной лирической темой.
Правда жизни стучалась в его сердце. И он стал ее честным, мужественным и вдохновенным художником.
Семен ТРЕГУБ