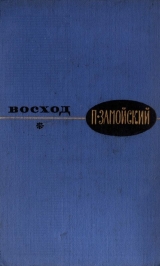
Текст книги "Восход"
Автор книги: Петр Замойский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
Глава 20
– Слышу, там Иван Павлович пришел, – навострила ухо Василиса.
– Зови его сюда, – обрадовался я.
Василиса ушла. Лена испуганно заявила:
– Пойду. Пусти меня. Я боюсь.
– Не пойдешь. Иван Павлович очень хороший человек. Ты его еще не видела, он тебя тоже. Правда, откуда-то он узнал, что есть тут у меня девушка Лена, бывшая моя невеста…
– Бывшая? – тихо повторила Лена.
– И он хочет ее повидать.
– Зачем?
– Ну, зачем? Может, погоревать: почему, мол, Лена бросила такого его друга, красавца? И за что я в немилость впал?
– Да ну тебя… перестань… Что ты еще хотел сказать?
– На всякий случай вот что. Если он спросит тебя… Да нет, я вас познакомлю…
– Не хочу, – она капризно передернула плечами.
– Руку-то подашь ему? Вернее, он тебе подаст. Назовет свое имя. А ты что?
– Что я?
– Тоже должна свое назвать. Так полагается по-городскому.
– Хорошо, назову.
– Только не брякни ему – Лена.
– А как же?
– Как?.. Назовись Фекла, – придумал я быстро.
Лена усмехнулась, показав свои ровные зубы. Это она-то Фекла?!
– Да, – повторил я. – Фекла. Если спросит, как по отцу, тут сама придумай. Хотя бы… Емельяновна. Ну, это не важно. Я сам еще не знаю, как тебя по отчеству.
– А Василиса не подскажет?
– Василиса? Я ей шепну, не выдаст секрета.
– Да зачем ты выдумал все?
– В жмурки поиграем. Потом глаза развяжем.
На сцене послышались шаги и хлопанье досок.
– Теперь я тебя, – прошептала она, быстро обняв.
В двери показался Иван Павлович с мучными пятнами на плечах френча.
– Ты где тут, Петр, завяз?
– Здесь, здесь, Ваня, – ответил я, успев получить от Лены быстрый удар по своевольной моей руке.
– Что тут, кладовая?
– Пещера. Лезь, ногу не сломай.
Иван Павлович сошел, сначала уставился на окно, спросил:
– Почему стекла зеленые?
Я ответил, что от старости цвет лица меняют не только люди, но и стекла. Ведь им, стеклам, не менее тридцати лет.
Он сначала осмотрел верстак, потом картины, портреты, перебрал миниатюры в черных узорчатых рамочках. Удивленно уставился на Льва Толстого, а тот, в свою очередь, на предчека.
Мы с нетерпением ожидали, когда же Иван Павлович обратит внимание на картину. И вот постепенно обводит он взглядом пейзажи, разные фрукты, цветы и наконец-то взглянул на картину. Взглянул – и чуть не отдавил Лене ногу, извинившись, не замечая ее. Он смотрел безмолвно и долго, а я наблюдал за его лицом. Видимо, от сильного напряжения у него навернулись на глаза слезы.
Солнце вновь взглянуло в окно, и на картине все заиграло. Иван Павлович достал платок, протер глаза и, посмотрев на меня как бы невидящим взглядом, снова уставился на картину. Он заходил к ней то с одной стороны, сбоку, то с другой.
Я отошел к порогу двери, где стояла Василиса. Успел шепнуть ей о Лене и подсказал, кем она приходится ей, Василисе. Сторожиха понятливо кивнула головой. А Иван Павлович, не обращая ни на кого внимания, ни о чем нас не расспрашивал. Чувствовалось – эта картина пробудила в нем то же самое, что и во мне.
Василиса ушла. Она что-то решила приготовить нам.
Оставив Ивана Павловича одного перед картиной, я подошел в угол, к столику, где Лена рассматривала миниатюрные портреты в черных тяжелых рамочках.
Лена стояла к окну боком. Солнце освещало ее слегка вьющиеся на висках волосы. Когда она брала следующую рамочку с портретом, я исподтишка посматривал на нее. Замечая мои косые взгляды, она тоже быстро устремляла на меня свои острые глаза. А я делал безразличный вид и усердно рассматривал портрет какого-нибудь генерала или дородной помещицы с мрачным лицом.
Она, к моему конфузу, конечно, догадывалась, что я не столько интересуюсь этими диковинками в рамках, сколько любуюсь ею самой. Догадывалась, но хитрила и как бы совсем была к тому безразлична.
А яркое солнце освещало не только ее лицо, прозрачные волосы, но и шею, покрытую едва видимым пушком, и ожерелье из каких-то зеленых камешков.
Чувствую только, как краска заливает щеки и волнение охватывает до лихорадочной дрожи… Нет во мне ни тяжести, нет ничего. Становлюсь как бы невесомым. Будто внезапно появились у меня крылья, и я, как это бывает во сне, парю над полями, лесами и селами. Сердце играет, во мне все поет, слышится чудесная, неземная музыка…
– Что это?.. Нет, нет… Глупость… Отвернись… Что ты?..
– Что ты, колдун, там шепчешь? – обернулась ко мне Лена.
В глазах пошли круги, в горле застряло сухое, колючее. Мне казалось – она не догадывалась. Это бы хорошо, но лицо мое выдавало меня. И я еле прошептал:
– Ничего.
Она странно улыбнулась мне, приблизилась и, посмотрев в сторону Ивана Павловича, едва слышно, обдав меня теплым дыханием, произнесла:
– Не тревожься…
Это было то самое слово, которое она сказала тогда, когда я сидел у нее утром на кровати. Она лежала, спала, а я гладил ее щеки, не осмеливаясь поцеловать их. Я волновался тогда так же, как и сейчас. Она проснулась. Мать топила печку, не видела нас, и Лена сказала: «Не тревожься», – и провела по моей спине теплой ладонью.
Тогда меня это успокоило. А теперь?
– Не буду тревожиться, – собирая рамки с портретами в стопу, сказал я. Помедлив, добавил: – Никогда.
На момент она словно замерла, потом строго шепнула:
– И не надо.
Что мне ответить на это? А Иван Павлович все еще смотрит на картину и ничего не слышит, ни о чем не догадывается, что у нас тут происходит.
Охладев, я пробурчал сердито:
– И не будет.
Она посмотрела на меня, чуточку пригнулась, заглядывая в глаза, и, прищурив свои, насмешливо протянула:
– Не за-га-ды-вай.
«Сгорел», – решил я.
Щипнул ее выше локтя и получил удар за это по руке. Я окликнул Ивана Павловича:
– Друг! Ваня! Присох?.. Очкнись.
Он вновь протер глаза и, не обращая внимания на Лену, которая отвернулась к окну, спросил:
– Что же это, Петр?
– Как что? Картина.
– Все понятно. Это, прямо скажу… так просто.
– Вот-вот. Придумай картине название. Я тоже буду придумывать. И эта девушка… – указал я на Лену. – Кстати, Ваня, из тебя кавалер никудышный. Если ты влюблен в свою…
– Петра! – чуть не закричал Иван Павлович и погрозился.
– Не выдам, Ваня. Люби на здоровье свою Зою… но…
– Зачем? Что ты меня перед девушкой конфузишь? Это нехорошо. Ведь и я тебя могу… Ведь и у тебя тут есть какая-то Лена. А кому до этого дело?
Отомстив мне в самый раз, Иван Павлович рассмеялся. Какой довольный был его смех. А я притворился обозленным. Мне будто обидно стало перед девушкой.
– Врешь, Ваня, никакой Лены у меня тут нет.
– Зато была.
– Была, да сплыла. Я все-таки вас познакомлю. Это племянница Василисы.
– Будем знакомы, – он подал Лене руку и назвал себя. Лена сконфузилась и молчала.
– Ваня, она стесняется своего имени… И верно – какая несправедливость! Ну, скажи, как тебя зовут, – и я подмигнул Лене.
– Фе-фекла, – еле слышно прошептала Лена и отвернулась к окну.
Я заметил, как вздрагивают ее плечи от смеха, а было похоже, будто девушка плачет с досады.
– Фекла-а? – удивился Иван Павлович. – Это старушечье имя. Поп у вас в Горсткине, наверно, саботажник. Лучше не мог выбрать. Может быть, отчество хорошее?
– Емельяновна, – быстро подсказал я, чтобы не утруждать Лену.
– И отчество неподходящее. Мучное какое-то. «Мели, Емеля, твоя неделя».
Вошла Василиса и позвала нас к столу. Славная старуха уже успела сготовить завтрак, поставить самовар, наварить яиц и всему придать праздничный вид.
– Садитесь, гости дорогие.
Василиса называла каждого из нас по имени и отчеству, а когда глянула на Лену, я быстро подсказал:
– Приглашай свою племянницу Феклу Емельяновну.
– Садись, Феклуша, садись! – И Василиса фыркнула.
Разговор перешел на то, как мы нашли в этом доме картины. Особенно говорили про полотно, которое нас всех поразило.
– Мы возьмем все картины в город, – решил Иван Павлович.
– А большую поместим в Нардоме, – подсказал я.
Нет-нет да и взглянет Иван Павлович на Лену. Видимо, он только начал ее как следует рассматривать. Меня это забавляло и льстило. Как же, мой друг кое-что понимает в красоте. Его Зоя тоже прекрасна. Лена повеселела, щеки налились румянцем. Мы сидели рядом, словно жених и невеста. Василиса все улыбалась.
Отведя от Лены взгляд, он сказал:
– Итак, Петра, сегодня едем.
– Пора, пора. Я больше двух недель мотаюсь по уезду. Отдохнуть надо, отоспаться.
– Спать мало придется. Скоро созывается совещание комитетов бедноты.
Улучив момент, когда Василиса заговорила со своей «племянницей», я знаками спросил Ивана Павловича, как дело с Егором и Ванькой. Усмехнувшись, он на понятном нам языке принялся рассказывать:
– Наши друзья отправились в город. Поклажу всю взяли. Грузновато было. Особенно у малого.
– Дождь не промочит на улице? – спросил я.
– Они, как и раньше, в объезд.
– А если купаться вздумают?
– Брында в воду не полезет.
Я приподнял брови от удивления. Ваня кивнул. Значит, Брындин снова приезжал.
– Кстати, Ваня, ты хорошо рассмотрел библиотеку? – И я подмигнул ему.
– Нет. А что там?
– Пойдем, такие книги покажу! – обещал я. – Мы сейчас придем, – сказал Василисе и Лене.
В спальне, где стояли шкафы с книгами, я, прикрыв дверь, тихо спросил Ивана Павловича:
– Ты знаешь, кто эта девушка?
– Конечно, знаю. Какая она интересная! Ну и племянница!
– Да, брат Ваня, вот какие бывают у сторожих племянницы.
После некоторого раздумья Иван Павлович заметил:
– Знаешь, Петр, эта Фекла в чем-то схожа с той, которая на картине.
Я тоже заметил. Зато он не схож с ним.
– Это кто он, с кем с ним?
– Который идет ей навстречу.
– Не понимаю. С кем же не схож?
– Да со мной, друг Ваня, со мной.
Он посмотрел на меня с удивлением, и лицо его широко расплылось.
– Ты все-таки покажешь мне Лену?
– Не терпится тебе.
– Может быть, нарочно зайдем к ним на дом?
– Она сама сюда придет.
– Это как же так – сюда придет?
– Очень даже просто. Придет – и вся недолга.
– Тогда не забудь, познакомь.
– Второй раз, что ль, знакомить?
Снова уставил на меня Иван Павлович свои пронизывающие глаза и не понимал, что я ему такое говорю.
– То есть как второй раз?
– Ваня-а, э-эх-ма-а! А ведь та девушка, Феколка… – кивнул я на дверь.
– Что Феколка? При чем тут Василисина племянница?
– Она такая же ей племянница, как я тебе двоюродная тетка. Это и есть… Лена!
Моего друга словно ветром шибануло. Он отступил и растерялся.
– Лена?!
– Пойдем, пойдем. Только не зови ее Леной.
– Убил ты меня, Петр, прямо убил. Ну, разыграл, как в пьесе. А верно, в такую как не влюбиться! – И тепло посмотрел на меня. – Как же она сюда попала?
Я ответил как. Иван Павлович был в восхищении.
– Смелая девушка. И вот ее, такую, хотели выдать замуж за хромого негодяя? Ну-ну, порядки. Мы ведь у него нашли во ржи в сусеке пять обрезов и патроны. В другом сусеке в овсе два мешка сахарного песку, мешок соли. Разной мануфактуры несколько тюков и еще черт-те знает что. Вяленой воблы сколько, мыла, ниток, кожи! Магазин, как говорил Егор. Он, Егор-то, и помог в обыске. Знал, где что лежало.
– Выходит, услужили друг другу… Значит, Брында приезжал?
– Это я ему наказывал приехать. Арестованных доставили к Гурьеву. Проводи сейчас свою… Феклу и иди к Андрею. Я потом зайду на вашу квартиру.
Взяв по нескольку книг из библиотеки, мы вошли в кухню.
Василиса принесла желтый кувшин с клубникой. Оказывается, пока мы были в библиотеке, они набрали ягод.
– Это на дорогу. – Василиса поставила кувшин на стол.
– Спасибо, – поблагодарил Иван Павлович. – Товарищей угостим в городе.
Вскоре Иван Павлович встал и начал прощаться с Василисой, благодарить ее. Лене он долго жал руку и улыбался.
– Хорошая у тебя племянница, – похвалил Иван Павлович и, держа кувшин с клубникой, добавил: – Береги ее, Василиса.
– И так уж берегу, – хитро ответила Василиса, – вот как берегу. Она ведь сирота после сестры, – добавила сторожиха, – всяк ее обидеть может.
– Не давай в обиду такую красавицу. Мы ей жениха в городе подыщем. Комиссара какого-нибудь.
Поговорив еще с Василисой, Иван Павлович вышел. А через некоторое время вышли и мы с Леной. На прощанье Василиса печально мне наказывала:
– Почаще наведывайся, Петя.
– Скоро за картинами и книгами приедем, – обещался я.
– Может, и еще что найдете, – вздохнула она, посмотрев на Лену.
– Может, найдем, – согласился я. – Очень большое тебе спасибо за все. Большое. Мы тебя не забудем, отблагодарим. Охраняй этот дом. Тебя мы назначим заведующей. Скоро дом и сад перейдут в комитет бедноты. Федя будет тебе помогать во всем. И эта вот племянница.
Василиса засмеялась.
– Ох, озорники. Самого чеку провели. Ай, грех вам.
Еще раз крепко пожав доброй сторожихе руку, я с чувством грусти расстался с ней.
После большого дождя было свежо, хорошо. Пыль прибита. Шумел легкий ветер в саду.
Мы спускались по густой аллее вниз, к речушке.
Лена была задумчива. Она шла, опустив глаза, и молчала. Молчал и я. То волнение, которое испытал я, находясь в комнате перед картиной, уже погасло, и только чуть еще где-то глубоко в сердце тлел уголек.
Мне было жаль сейчас идущую рядом Лену. Конечно, во всем-то виноват я, и только я. Надо было выбрать время, чтобы приехать к ней. Несколько раз я из города ездил в свое село через Горсткино. Ехал улицей, смотрел на их избу, и так хотелось завернуть, остановиться, чтобы хоть глянуть на Лену. Нет. Мимо. Мешала обида. Вспоминалось все, что случилось в день престольного праздника петрова дня в их избе. Голос Федоры гудел тогда – и вот сейчас гудит – в моих ушах: «Это саму хорошу сестру – да выдать за такого? Ба-а-атюш-ки!.. Нет, нет и нет».
– Нет – и не надо, – вдруг сказал я вслух.
Лена, услышав бормотание, крепче прижала мою руку к себе и тихо спросила:
– Ты куда меня ведешь?
– Я тебя веду?.. Подожди-ка, Лена, где мы?
Рядом стоял полуразрушенный шалаш. Вокруг него густая крапива, дикая заросль шиповника.
– Это ты меня куда-то завела, – сказал я Лене. – Пойдем обратно. Я доведу тебя до моста, а там пойдешь в одну сторону, а я в другую.
– Нет, пойдем вместе. А раз ты завел меня сюда, побудем тут. Вон, видишь, скамейка.
Она указала на кусты сирени, где сквозь прогал, поросший травой, виднелось что-то похожее на скамейку. Если бы она не указала, я ни за что бы не заметил. Поэтому спросил ревниво:
– Ты, видать, Лена, бывала тут?
– Бывала. А что?
– Да так я… просто спрашиваю. Откуда мне знать… Ты – здешняя, – забормотал я, пробираясь за ней между кустами сирени и желтой акации.
– Не обожгись, – предупредила Лена, когда проходили мы по крапиве с желтым мохнатым цветеньем.
– Сама не обожгись, – отозвался я.
– Тебе жалко, что ль, меня? – обернулась она, выходя на заросшую полянку, полную цветов и трав.
– Как тебе сказать? Чуть-чуть совесть имею.
– Ишь совестливый нашелся, – ответила она, не глядя.
Посредине полянки, обросшей вокруг кустарником, холмик. Здесь раньше, вероятно, была клумба и совсем недавно собирались тут гости помещика. Вот полуразвалившаяся беседка с дырявой крышей.
Как тут тихо и уютно! И какой отсюда вид на крайние избы села! Оно стоит справа от нас, а прямо в гору идет дорога на большое село Михайловку, где мы с Гавриловым организовали Народный дом. Левее – Бодровка с её водяной мельницей, прудом, с длинными в один ряд улицами. Там, на горе, имение Климова.
Всюду были эти крупные и мелкие имения, хуторские поместья, усадьбы. Сидели в них дворяне, владели землей, держали в руках мужиков, жили в свое удовольствие.
Крупные помещики обитали в губернских городах, в своих домах, имениями заведовали управляющие, на хуторах – старосты. Они всем правили, а сам помещик редко бывал в своем имении. Доходы ему доставляли управляющие, которые и из народа выжимали пот, и обжуливали самих помещиков, если те были неопытны.
Со временем такой управитель, обобрав помещика, приводил его хозяйство в разор, а затем скупал земли за бесценок и сам становился помещиком. Да еще каким! Уж его-то не обманешь…
И редко кто из деревенского люда помышлял, что можно прогнать помещика, отобрать землю, разделить ее. Такой мысли раньше почти не было у простого, забитого народа в глухих селах и деревнях. Считалось – и попы это утверждали в церквах, – землю дворянам давали цари и царицы за какие-то заслуги. Дарили на веки вечные вместе с крестьянами. Самую лучшую землю в тысячах десятин. И все это охранялось правительством, войском, приставами, земскими начальниками, урядниками, стражниками…
Оказалось – дело не так обстояло крепко. Настало время – дружная революция, а не отдельные мужицкие бунты свергли весь старый строй, земля перешла к обездоленным мужикам. Теперь он ей хозяин, а помещиков будто и не бывало в природе.
– Не обжегся? – спросила Лена, утоптав траву и пробуя скамейку, вернее – доску, прибитую к двум тумбам.
– Кажется, начинаю… обжигаться.
Она посмотрела на меня, склонив голову набок, что к ней очень шло, усадила рядом и погрозилась пальцем:
– Ох ты какой!
– А какой?
– Словечка просто не скажешь.
Она обняла меня, поцеловала и вдруг… заплакала.
Все помутилось в моей голове. Я начал что-то лепетать несвязное, утешать ее, гладить ее руки, лицо, плечи. И скоро глаза застлала мгла. Только звон в ушах да запах сирени.
– Ведь ты сам виноват, сам. Ну, скажи.
– Конечно, сам, – все еще слыша биение своего и ее сердца, ответил я, кладя ей голову на колени.
– А помнишь лес? На опушке с тобой сидели.
– Помню, Лена.
– Эх, жалела я тогда!
– О чем же?
– Да ты поднялся… а я хотела сказать… «посидим еще», а не посмела… О-ох, как бы хорошо было!
– Леночка… Не знал я, не думал.
Смотрю то на небо, где недвижно висят курчаво-белые облака, то на лицо Лены, на ее синие глаза, которые уже смеются, на чуть крутой лоб, на сережки в маленьких ушах и на выбившиеся из-под косынки легкие кудри.
– Как не хочется отпускать мне тебя, редкозубый.
– Твоя Федора…
– Не говори про нее…
– Она сказала, что я похож на… барана.
– Ох, ты вон что? Может, правда? Ну-ка, нет ли у тебя рогов?
И она принялась ворошить мне волосы, трепать их и несколько раз дернула до боли.
– Не было и вовек не будет! – отрезала она решительно.
Помолчав, тихо продолжала:
– А его я не любила… Окрутили они меня. И надежды на тебя не было. Я и подумала: есть кто-то у тебя в городе. А вот явился… И все во мне поднялось. Поэтому и прибежала… Да разь я тебя на кого променяю?.. Только ты зря тогда, в сенях, говорил мне при всех такое… Зачем?..
– Прорвалось, Лена. После мне легче стало. Я ведь уже навсегда выбросил тебя из своего сердца.
– Бессовестный… какой ты. Стихи пишешь? – вдруг вспомнила она.
– Пишу, Лена.
– Для кого?
– Для нее.
– Что-о? – дернула она меня за волосы.
– Для газеты! – приподнялся я, радуясь, что она меня приревновала хоть к газете.
– Вот тебе, вот, вот! – трепала она меня за уши. – О-ох, кажись, я дура…
И тихо жарким шепотом, закрыв глаза:
– Ну, все равно…
Мы вместе рвали цветы. Их было много. Садовых, полевых. И шиповник шел в букеты, хотя он и кололся.
Мы отошли друг от друга, и, когда набрали по букету, я окликнул:
– Лена!
– Что?
– Как там на картине?
Она весело засмеялась, распустила волосы, сняв косынку, и, легкая, устремилась ко мне с букетом по густой траве.
И ветер кстати подул, и солнце засверкало ярче, бросая лучи на ее смеющееся лицо. И мы теперь, как на той картине, встретились, обнялись, и… явственно послышалось пение какой-то веселой птицы вот здесь, в гуще наклонившейся над нами сирени.
Глава 21
Андрей готовил телегу. Держа колесо за обод, он орудовал помазком и вприщурку посматривал на меня. Уж очень хитро он прищуривался.
«Знает или нет, – подумал я, – что случилось за это время?»
Потом внезапно он спросил:
– Да ты спал ли, пропадущий?
– А то как же!
– По глазам вижу – не спал. Иди в сарай, там сено, и отоспись.
– Мы втроем поедем, дядя Андрей. Иван Павлович с нами.
– Тоже поди не спал? Ладно, придет – и он поспит.
Андрей ловко смазал колесо, затем ось. Я помог ему надеть колесо и, передвинув подпорку под задком телеги, снять заднее колесо. Чужого дегтя Андрей не жалел, смазывал про запас. Ехать не близко.
Он оглянулся и тихо, не сразу спросил:
– Много чего нашли?
– Это чего такого нашли? Не понимаю.
– Ладно, раз тайна, не говори. Хотя я вроде могила. Э, а вон и они, гляди-ка, идут.
От моста в горку поднимались Алексей с Иваном Павловичем. Шли они медленно, устало, как с пашни. На одежде и брюках у них мучные пятна.
– Ты здесь? – как бы удивился Иван Павлович.
– Где же мне быть?
– Давно?
Я понял, почему такой вопрос задал Иван Павлович, и, оглянувшись на Алексея, соврал:
– Уж часа два.
Иван Павлович погрозил мне пальцем. Его не проведешь.
Он рассмеялся, а Алексей не понял, что у нас за разговор, и ему дела нет до нас. Он был задумчив, лицо злое. Попался ему на дороге чурбачок, он, вместо того чтобы поднять, отшвырнул его в сторону. А чурбачок пригодился бы в хозяйстве.
Из окон изб уже смотрели на нас люди. Больше всего женщины. Мужчины стеснялись. Да их и мало в селе осталось. Один на войне, а те, которые дома, ушли после дождя на покос.
Между избой Алексея и избой соседа в сточной канаве валялась огромная свинья. Полное ей было удовольствие! Она тяжело переваливалась с боку на бок, блаженно стонала, то жмурясь, то открывая оплывшие жиром, узкие щелки глаз.
Наседки с подросшими цыплятами бродили возле изб и сердито копались в земле, разыскивая корм.
Мы сели на крыльце Алексеевой избы. Здесь прохладно. Кругом акация. Самодельный стол для прочности вкопан ножками в грунт. Как и скамейки вокруг стола, его смастерил Алексей.
– Катя, собери нам, – крикнул Алексей.
Екатерина из окна видела, что мы пришли. Однако спросила:
– Чего собрать-то?
– Погуще да похолоднее. Квас там, помни в него картошки. Огурцов натри, луку порежь. Аль сама не знаешь? Воблы не забудь.
– Да все знаю, – засмеялась Екатерина.
Помолчав, Андрей с удивлением воскликнул:
– А? Ты подумай-ка! Вот родственник, вот своячо-ок!
– Сколько у него намеряли? – спросил Иван Павлович.
Сто шестьдесят пудов. Ведь пол-то в амбаре двойной был.
– Двойной?!
– Ну да! Жулик скрозь. Мельница с подсосом, а амбар с подсусеком. Это мы уже без тебя такую механику открыли. Мужик из Андреевки смекнул. «Что-то, говорит, пол в сусеке шибко высок. Гляди! – Он ткнул палкой в рожь. – Вот дно, а вот, – вынул палку и приставил ее снаружи к стенке сусека, – вот где здесь кончается. Беспременно тут ехидство». А Егор слышит, и хоть бы что. Пересыпали рожь в другой сусек, вскрыли половицу, а там, под ней, еще рожь. Выгребли тридцать мер. Спрашиваю я: «Егор, своячок, что у тебя опять, чудо-юдо рыба кит?» А он мне: «Это я, Алексей, на семена. Вдруг будет голодный год».
– А как его брат Ефрем? – спросил Иван Павлович.
– Кривой дьявол-то? Хапать тоже мастер! С избытком живет. Вот он, сосед мой. Гляди, вон свинья. Это не моя, а его. И не одна.
– У него тоже надо бы обыск, – подсказал Иван Павлович.
– Сделаем на днях. Амбар-то его на огороде. Под жестью, как у Егора. Только одного боязно…
– Чего, Алексей?
– Петуха пустит.
– Под свой амбар?
– Он и за своим не постоит, коль такое дело. А вот, опасаюсь, когда хлеб ссыплем в мирской амбар, может спичку с керосиновой тряпкой подкинуть внутрь. Он рисковой мужик. Вся порода у них воровская. Э-эх, да что говорить, вредные люди.
– Караулы ставьте на ночь, – подсказал предчека.
– Бедноте из этого хлеба выдать или подождать?
– Обязательно из этого. И не зерном, а мукой.
– Это правда. Мукой. Сразу на всех мельницах пустим.
После молчания он спросил:
– В город-то их отправили?
– Не задержали. Брындин повез.
– Под соседа Ефрема в случае чего я мину подставлю.
– Мину? – переспросил Иван Павлович.
– Ее самую, если он, рыжий, покажет свой норов при обмере хлеба. Мы его тогда прямой дорогой к Егору. Ему бы и так там быть, а уж тут добавка.
– В чем дело?
– В том, что у него в бане аппарат на два постава. Один гонит, а для другого квасится. Три керенки за бутылку. Из пуда-то сот на восемь выходит чистоганом. Вон как. В три раза больше, чем за пуд муки.
– Куда же он сбывает?
– На станцию Ванька возил, а в город – баба его. И свои сельские берут. И в Петлино в чайную доставляет. Хороший самогон, не то что у Андрея в бидоне. У Ефрема котлы двойные, паром выпаривает. Не пригорает. Механи-ка.
…Хорошо спать на душистом сене в сарае! Никакими словами не передашь аромат свежего сена, смешанного с разными цветами. Тонкие, нежные запахи белой кашицы кажутся легкими, как пух; едва уловимы запахи бархатной ромашки, терпки – травы душицы и пьянящи – тысячелистника. Особый аромат исходит из мелкого седого полынка. Душистые травы несъедобны, но как приятно заварить в кипятке овсюг, тимофеевку, белую петрушку или медовый клевер и пить настой!
Даже зимой, особенно в мороз, аромат сена чувствуется издали, напоминая о лете.
Мне снилось, будто иду я в обнимку с Леной по большой степи. Ей конца нет. Всюду высокая трава, а в той траве необыкновенные цветы, которых и в природе не встретишь. Чудесные цветы плывут нам навстречу, кланяются и улыбаются, словно живые. Это знакомая степь. Она сразу за нашим селом. Здесь мы, ребятишки, собирали ягоды, а после дождя – пахучие грибы, растущие в темно-зеленой траве.
На пути глубокий овраг с выступающими коричневыми глыбами камня-железняка. Нам надо в лес, что виден отсюда. Обходить овраг далеко, а спускаться по камням страшно. На дне журчит ручей.
И вдруг я чувствую, что в силах перелететь через овраг. Да, перелететь. У меня руки – крылья. Стоит только поглубже вздохнуть, расширить легкие – и, плавно махая руками, поднимешься над оврагом.
– Летим, Лена!
У нее букет цветов. Она что-то отвечает, кивает головой. Отдает мне букет. Здесь желтая, как пламя, степная кашица, цветущие косматики, белый ковыль и синяя мятная душица. По краю фиолетовые колокольчики.
Прячу цветы за пазуху и, взглянув на Лену, раскидываю руки. Вобрав в грудь воздух, бросаюсь над бездной. Лечу. И как только меня начинает тянуть вниз, я вновь глубоко вбираю воздух, и вновь поднимаюсь, и опять лечу-плыву.
Вот и край оврага. Но мне хочется лететь и над степью. В сладостном томлении, с замиранием сердца поднимаюсь все выше и выше… Мне видны с высоты леса, села, реки.
Вдруг наплыл туман, мгла. Я над каким-то неведомым селом, над высокой колокольней. Дышать становится труднее.
Снова набираю в легкие воздух, но отяжелели ноги, тянут вниз. И тут вспоминаю о Лене. Где же она? Полетела ли за мной? Да знает ли она, что человек при сильном желании может летать?
Где же Лена? Почему я не оглянулся на нее, когда полетел?
И тут я почувствовал, что оглянуться не могу. И вернуться назад не могу. Если бы я повернул, то мое тело отяжелело бы и упал бы я в каменную пропасть оврага. Ужас охватил меня. Я не чувствую в себе прежней крылатой силы. Едва дотянул во мгле до какой-то копны и опустился.
Начал осматриваться. Все здесь чужое, незнакомое, дикое. Да это ведь во сне! Ведь мне часто снится, будто летаю. Ущипну себя – и проснусь. Нет, не чувствую боли. Значит, во сне. Сплю, сплю.
– Крепко спит, – слышу над собой чей-то голос.
Открываю глаза. Это Григорий-матрос. А за ним моя мать. Она грустная. Подходит и говорит:
«Умаялся, Петя? Вставай».
«Сейчас, сейчас, мама. Мне недолго».
Опять голос Григория:
«Ехать пора».
Хлопает меня по плечу.
«Ты что, умер?»
Будто встаю и вспоминаю Лену.
«Нет, не умер. Я… летал».
«Летал?»
«Через овраг».
И Григорий, и мать, и еще кто-то громко смеются.
«Где Лена?!» – кричу я в испуге.
«Да тут я, тут!»
…Сонные видения отошли прочь. Только сильнее запах сена.
– Дру-уг!
Это уже голос Ивана Павловича.
– Ну и спать ты здоров!
Ни оврага, ни колокольни… Протираю глаза, слышу:
– Двое суток не спал, пропадущий.
– Где Лена? – спрашиваю, все еще не зная, проснулся я или нет?
– Да тут я, тут. Пришла тебя проводить.
– Через овраг перелетела?
– Что?
– Через овраг перелетела?
– Да я по мосту перешла.
– Лена?! – вскочил я. – Ты?
И сон смешался с явью.
На меня смотрит Екатерина. Глаза у нее хорошие.
– Чайку на дорожку! – говорит она. – Елька, погляди, самовар небось готов. Неси на крыльцо…
Андрей набил полную телегу сеном, расстелил полог, высоко устроил место для сиденья нам. Осматривал всю повозку. Как-никак, а ехать порядочно.
Скоро все мы сидели за столом. Пришли Федя и сторожиха Василиса.
Чай разливала Лена. И было как в далекие дни, когда мы с тем же Андреем заезжали по дороге из города к Лене и нас поили чаем. Так же, как и сейчас, Лена разливала чай, и так же, как тогда, я взглянул на ее руки. На безымянном пальце у нее то же самое серебряное кольцо, и рука до локтя в загаре и чуть покрыта золотисто-русым пушком.
Мы молча переглядывались, а Иван Павлович, перехватывая наши взгляды, едва заметно улыбался.
Андрея нелегко было оторвать от чая, да еще с клубникой, но в самоваре уже пусто. Вытерев усы, Андрей строго сказал:
– Пошел запрягать!
Когда было все уложено и лошадь запряжена, мы начали прощаться. Иван Павлович, Федя и Алексей что-то напоследок обсуждали. Екатерина с Василисой ушли на огород набрать для нас огурцов, и мы с Леной остались вдвоем. Говорить, казалось, было не о чем, а говорить хотелось, и о многом. Лена кивнула на открытую дверь избы, пошла туда, я за ней. Там, оглянувшись на окно, она украдкой быстро обняла меня сильными, крепкими руками.
– Не будешь сердиться? – спросила она.
– Почему, Лена, у тебя слезы на глазах?
– Глаза на мокром месте. – И утерлась концом косынки.
– Я на тебя совсем не сердился, а только обиделся.
– Не надо обижаться.
– И тебе не надо сдавать. А то опять они, как ты говоришь, «околдуют».
– Теперь уж нет… Ну, на прощанье, Петя…
С улицы раздался голос Ивана Павловича:
– Петра-а, ты скоро там?
Лена слегка оттолкнула меня, прищурилась и сказала тихо:
– Не расстраивайся.
– Приедешь в город?
– Может, когда на базар вместе с Анной.
Вышли в сени, потом на крыльцо. Здесь уже при всех я подал руку Лене, попрощался.
Екатерина с Василисой принесли мешочек огурцов, зеленого луку и уложили в передок телеги. А когда мы отъехали, все они долго-долго махали нам руками, будто невесть каких дорогих гостей провожали.
А я видел только Лену.
Горсткино постепенно скрывалось из глаз. Лишь вдали в жарком мареве виднелись помещичий дом, сад, мельница Егора, пятиглавая церковь и еще мельницы по другую сторону дороги.
Жара усиливалась. Солнце пекло немилосердно, лошадь с рыси перешла на вялый шаг.
По обе стороны потянулись поля. То ржаные, над которыми дымилась пыль, то яровые – овес, просо, чечевица и подсолнухи.
Андрей и Иван Павлович сидели рядом, о чем-то беседовали, а я думал о Лене.
Судя по широкой меже, потянулись поля другого села. Мы приближались к нему. Это большое волостное село Петлино, которое объединяло шесть деревень. В нем две церкви – православная и единоверческая. Село богатое, базарное. Оно последнее на подъезде к городу и живет городом. Обитают здесь мясники, в большинстве торговцы. Они издавна скупают по деревням скот, режут и продают в городе на базаре или возят на станцию.







