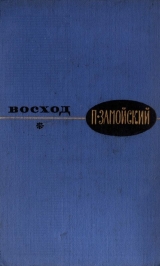
Текст книги "Восход"
Автор книги: Петр Замойский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
– Вот крест – не вру.
– Так увидим. Глядите на него, граждане. Это наши поильцы-кормильцы, в эсерах ходили. Строже зрите. Как чуть что, нам доносите. От народа шила в мякине, как ни хитри, не спрячешь.
Сатаров вздохнул и заключил с сожалением:
– А у вас комедь с попом получилась все-таки лучше. Жаль, меня не было. Но я ее все равно разыграю при народе в школе. Написать только надо в лицах.
Глава 8
Отправив несколько подвод, груженных рожью, я дал наказ, чтобы осторожно приступили к учету хлеба у середняков.
На собрании середняков и бедноты, где мы сделали доклад о найденном хлебе, выступил Кривозубкин. Он заявил, что подсчитал у себя излишки и сдаст комитету сорок два пуда. К этому он призвал и своих односельчан, называя их по именам.
Попрощавшись вечером с Никитой, Ильей и Григорием, я рано лег спать. Завтра отправлюсь в город. Заеду в попутные села.
Выехали мы с Андреем, отцом Яшки Абиса, до зари. Село спало. Но уже пели петухи, лаяли собаки, в хлевах и загородях мычал и блеял скот.
Было свежо, как всегда по утрам, но безветренно. Селом ехали тихо. Колеса Андрей смазал какой-то смесью, и они не скрипели.
Я с ногами забрался на высоко подбитое сиденье. Подо мною свежее сено, вернее – трава, накошенная вчера.
Словоохотливый Андрей молчал, пока мы ехали по улицам.
Мы поравнялись с гумнами и направились на дорогу, по которой испокон веков ездили мужики в город, на базар, а осенью по ней же отвозили рекрутов на призыв.
– Выехали, – сказал, зевая, Андрей. – Тебе не холодно? Сядь поудобнее. Но-но-о, холера! – прикрикнул он на лошадь.
– Мне хорошо.
С Андреем не раз мы ездили в город, когда я был секретарем сельского комитета. Были с ним в гостях и у Лены. Андрей догадывался кое о чем. Вот и сейчас, когда отъехали от своего села, он, хлестнув лошадь и запрокидываясь, прокричал:
– К ним заедем? – и кнутовищем указал в сторону, где находилось село Горсткино.
– Увидим, – ответил я ему, и сердце тревожно забилось.
С тех пор, как я был у них в последний раз и с позором ушел, посрамленный сестрой Лены Федорой, уже прошел год.
– Скажи ты мне, Петр Иваныч, – заговорил Андрей, – что, эти большаки…
– Большевики, – поправил я.
– Они что, всех осилят?
– То есть кого всех?
– Ну, буржуев там, фабрикантов разных. Это я к примеру. Теперь, слышь, чех напал. Это что же такое? Кругом. В кольцо нас вроде сцепили. Ужели всех осилят большаки?
– Всех, дядя Андрей.
– До единого, до последнего?
– А ты как думаешь, борода?
– Мне чего думать! За меня лошадь думает. У нее вон какая голова, побольше моей… Мне, видать, помирать пора, – вдруг заключил Андрей и как-то сник.
– Позови меня на похороны.
– Ей-пра. К тому я говорю. Вот теперь за богатеев взялись, кулаков. А ведь кулаков-то небось не только в нашем селе, их много. Как Ленин полагает – осилят всех кулаков?
– А сам ты как думаешь. Только на лошадь не уповай.
– Раз взялись, ну, стало быть, осилят. Это уж так. Если я, к примеру, не могу поднять бревно, то убей – не возьмусь.
– Один не поднимешь – соседей позовешь. Правда, бревно твое тут ни при чем. Ты что-то другое хотел спросить. Ты ведь хитрый.
– Хитрый! – И Андрей, польщенный этим, рассмеялся. – Кот у нас хитрый: лапой достанет из горшка сметану и с лапы лижет. А я какой хитрый! Я дурак дураком.
Андрей погнал лошадь под гору. Переехали вброд маленькую речушку. Андрей спрыгнул с телеги и пошел рядом, покрикивая на лошадь.
– Это я вот про что, – продолжал Андрей свою мысль. – Потрясут кулаков, отберут хлеб. А там за кого примутся?
Андрей даже приостановился на момент, сам испугался такого вопроса.
– За кого! А хоть бы за тебя. Ты сколько имеешь излишков? Ну-ка, подсчитай?
– Я середняк, Петр Иваныч.
– Стало быть, ты ждешь, чтоб я тебе так ответил: после кулаков возьмутся за середняков. Так, что ль, твоя голова работает?
– Ну, ты скажешь! Чай, нас не тронут.
– Кого вас?
– Который середка на половине.
– Почему ты знаешь, что не тронут?
– А что в газетах пишут? Э-э! Л матрос что на собраньях говорит? А ты что говорил? Ты тоже хи-ит-рый!
Он добродушно рассмеялся, поправляя съехавшую шлею на лошади.
– Ленин сказал, беднота, мол, опора власти, корешок, а которы без чужих рук в хозяйстве сами управляются, кровь чужую не пьют, пот свой льют, с этими он приказал обходиться – знаешь как?
– Ну, как?
– Эге. Осто-оро-ожно! Не обижа-ать. Они, слышь, союзники. Видал?
– Тебе бы, дядя Андрей, право, на собраньях речи говорить.
– Да-а, – продолжал он, – союзни-ики. Какое слово-то! Союзники. Почитай все от земли. Кто сбежал из деревни с голодухи, кто сам поохотился. При Столыпине – перевернись он в гробу вниз мордой – сколько разорилось мужиков, особливо бедноты! Сколько в города от безземелья тронулось! В одно Иваново, на ткацки фабрики семей тридцать сбежало. Как один прилепится, так за ним другие. Иные в Баку нефть качать аль в Астрахань селедку ловить да в бочки солить. Вот и стали рабочие. Небось которые теперь в большаки вышли. Комиссарами заделались. Революцию вперед гонят, буржуев изничтожают.
Мы выехали на высокое взгорье. Отсюда видны и ближние и дальние села. Виден даже край нашего села, а до него теперь верст двадцать.
Взошло солнце, осветило очертания далеких строений. Сколько раз приходилось мне видеть восход солнца! Особенно когда я пас общественное стадо. Ведь выгоняли до солнца. И мне тогда еще казалось, что солнце каждый раз восходит как-то по-иному, по-особому. И никогда не надоедало любоваться зарей и восходом. Любоваться до тех пор, пока само солнце из красного огромного шара не станет ослепительно-белым и не начнет до боли резать глаза.
Несмотря на поднявшийся ветерок, стало теплее даже от косых лучей солнца.
В ближайших деревнях и селах заливались петухи, виднелись дымки из труб, ветром пригоняло запах горящего кизяка, щелкали бичи пастухов, выгонявших скот на поле, лаяли собаки, и где-то совсем недалеко раздавался звон кос.
Это, кажется, село Бодровка вышло косить траву на лугах, отобранных у помещика Климова.
Мы как раз приближались к этому имению. Тысячи десятин принадлежали Климову, а теперь поделены между крестьянами. Сам Климов еще живет там до поры до времени, как живут еще многие помещики. Они всячески заигрывают с мужиками, особенно с теми, которые побогаче. Они еще чего-то ждут, на что-то уповают.
В прошлом году здесь произошла схватка нашего отряда с отрядом офицера, старшего сына Климова, и было потушено готовящееся кулацкое восстание. Офицер был расстрелян, часть его отряда разбежалась, а часть, в которую он вовлек рабочих имения, перешла на нашу сторону…
Едем вдоль большого сада, в котором стоит зеленый огромный дом с окнами в человеческий рост; едем мимо амбаров, риг, двух салотопен и гумен, где еще стоят ометы ржаной, почерневшей от времени, старой соломы.
– Сам-то, слышь, тут еще? – спросил Андрей и выжидающе посмотрел на меня.
Я догадываюсь об его мыслях. Он хочет спросить – зачем Климова тут оставили?
– Черт с ним!
– Я бы его – если не арестовать, я бы поселил его, толстого черта, в самую какую ни на есть черную, вонючую избу. Скорее там сдохнет. Эдакий кровосос! Он хуже, чем Сабуренков. Тот из дворянского звания, а этот из мужиков, из кулаков. Отец-то его, коль не знаешь, был бурмистром у барина Владыкина, обокрал его и начал богатеть. А сын Филипп, как помер отец, в гору пошел. Именье это задаром купил – заложено было в дворянский банк, – землю пять тысяч десятин, шленок развел; торговлей мясом занялся, сало топил. Все за границу продавал. Вон куда! А хлеб ему наши мужики убирали с поля за овечьи потроха: ноги там, головы, гусек. Ну, даром убирали. Нет, если такое дело – революция, его отсюда надо выкурить. Тут я ни с какими большаками в согласье не пойду, – закончил Андрей.
– Да ты, борода, не думаешь ли, что мы Климова на развод оставили? Нам пока не до него. Потом его караулят.
– А кто его караулит? Что-то не вижу.
– И не увидишь, хоть ты и глазаст.
– А ты-то сам видишь? – недовольно спросил Андрей.
Как ни искал я караула, никого нигде не было. В самом деле, есть ли караульные?
Мы подъезжали к воротам, ведущим в сад. Ворота приотворены.
– Подожди-ка, Андрей, остановись.
Сойдя с телеги и оставив Андрея; я направился к воротам. Оглянувшись, увидел, что Андрей повел лошадь на луговину, в сторону от сада, отвязал чересседельник, повод и пустил ее пастись.
Дойдя почти до самого дома, в котором была тишина, я приостановился. Никого вокруг. Только откуда-то из глубины сада слышались чьи-то голоса. Сад был огромен. Могучие старые яблони, поседевшие от времени, иные полузасохшие, спускались, почти сомкнув кроны, к самому обрыву, где текла река. На некоторых, особенно на молодых, посаженных позже, виднелись почти созревшие яблоки.
Здесь на пригорке, согреваемые солнцем, они поспевали раньше, чем в других садах.
Вдоль ветхого забора – кусты смородины, заросшие крапивой, диким виноградом с зелеными, как горошины, ягодами, чернобылем с толстыми и красными стволами. А дальше – непроходимые дебри бузины вперемежку с акацией.
За время войны Климов запустил сад, было не до него, а военнопленные австрийцы, работавшие вместо батраков, не особенно старались. Им хватало работы на поле, на бахчах.
– Что же здесь никого нет? – недоумевал я. – Или рано? Вон, кажется, человек мелькает между деревьями?
Да это Андрей. Он молча подает какие-то знаки.
– Ты что? – спросил я его.
Приложив палец к губам, он осторожно на носках приблизился ко мне и отвел под крону толстой яблони. Сквозь густые ветви едва пробивались солнечные зайчики и ложились на траву круглыми серебряными рублями.
– Лошадь не уйдет? – спросил я, гадая, что же такое на уме у моего хорошего друга.
– Куда она денется! – прошептал он. – Ты вот, ты принюхайся. – И он потянул носом.
Мне показалось, что воздух зримо входил в его широкие ноздри.
Я тоже потянул воздух. Пахло мокрой травой и старыми листьями.
– Чуешь?
– Ничего не чую, – сознался я.
– Нос у тебя ни к черту. Ты сильней нюхай. Э-эх, а еще начальник!
– При чем тут начальник? – обиделся я. – У меня, может быть, насморк!
– Когда насморк, чуешь еще больше.
Вновь я потянул носом, и в это время по саду пронесся пробившийся сквозь всяческие преграды ветерок, и я почувствовал запах кизяка.
– Н-ну?
– Будто кизяком пахнет.
– Кизяком! – передразнил он меня. – А ты сильней принюхайся. Кизяк-то кизяк, да не совсем так.
Но, кроме кизячного дыма, я ничего не чувствовал. А кизяками всегда топили в деревне, да еще сухой полынью.
– Пойдем искать.
– Чего искать? Ехать надо.
– Успеем, день велик. А тут охота. Как можно упустить! Вот ты не охотник, не знаешь. Из своего нагана ты в зайца не попадешь. И тебе наган только зря карман рвет.
Андрей оттеснил меня к яблоням, то и дело шмыгая носом. На его лице полное удовольствие. Что же он почуял? Я послушно шел за ним. Старших надо уважать, хотя они и бывают несколько чудаковатые, как Андрей. Сейчас он мне показался даже мудрым, всезнающим.
Ступал он осторожно. Сразу видно, что бывалый охотник.
Мы уже подходили к изгороди, около которой густой стеной росла трава в рост человека. Жирная крапива обжигала руки, доставала до лица. Но, влекомый Андреем, я едва чувствовал ожоги. Азарт охотника охватил и меня.
– И сейчас все не чуешь?
Ветер подул с той стороны, где были ометы, а левее две салотопни. Это в них прошлой осенью был захвачен отрядом офицера Климова наш спящий отряд во главе с кривым Филей. Наш отряд едва не погиб, не приди мы им на выручку вовремя.
Знакомые мрачные салотопни! Теперь они, конечно, пустуют. Котлы, вероятно, вывезли досужие мужики, для чего-нибудь приспособят их в хозяйстве. А возможно, котлы еще на месте.
Но что это? Померещилось мне или так и есть? Над крышей одной салотопни еле заметно поднимался сизый дымок. Видит ли его Андрей?
И не успел я шепнуть ему об этом, как он сам указал туда пальцем.
– Чуешь?
– Скорее вижу, – ответил я. – Ползем, Андрей!
– И так дойдем, исподтишка, вдоль ометов.
Полусогнувшись, как в прошлом году, когда выручали своих товарищей, мы приближались к салотопням. Наконец-то я ощутил запах.
Нам осталось пройти совсем небольшое расстояние от омета к салотопне. Но тут по дороге нас могут заметить! Дверь в салотопню полуоткрыта. Кто-нибудь там есть, караулит.
– Ползком, – сказал Андрей и лег в траву.
Стороною мы выползли к самой салотопне. Прислушались. Внутри тихо. Но лучше бы там разговаривали. Малейший шорох – и мы кого-то спугнем. Хорошо, если разбегутся, а может случиться и хуже. Теперь в деревне оружия много.
– Приготовь на всякий случай, – Андрей указал на мой карман.
– Успею, – кивнул я ему.
Вот и ворота, чуть приотворенные. Сразу ли войти, застать врасплох или притвориться, будто забрели случайно.
Ну и смелый Андрей! Я-то считал его трусом. Он отворил половинку ворот и вошел так, как входят в свой сарай. Вошел, остановился. Потом поманил меня.
В салотопне полутемно. Никого не видно. Только у стены, где стоял один из котлов, чуть светился огонек в топке. Вероятно, тлели угли.
Когда глаз привык к полутьме, мы заметили, что на соломе вниз лицом лежат два человека. Третий, согнувшись, спал на чурбаке сидя.
Все трое были мертвецки пьяны. На столе хлеб, соль, печеная картошка, огрызки сала. Здесь же стояла жестяная кружка. Андрей взял ее и понюхал. Поморщившись, поставил обратно.
Обойдя спящего на чурбаке, мы зашли за котел и заметили жестяную трубку, концом вмазанную в крышку котла. Скоро нашли все немудрящее приспособление, весь механизм самогонного аппарата. Труба была соединена с неуклюжим, кузнечной работы, змеевиком, который лежал в колоде, полной воды. Здесь же в запасе стояли еще два ведра воды. Из отверстия, проделанного в колоде, выходила тонкая труба. Конец ее свешивался над ведром, в которое и сейчас капал самогон. В ведре его было немного. Видимо, главная гонка была закончена, потому-то и спали безмятежно три винокура.
– Но где у них самогон? – шепотом спросил я Андрея, и он начал осматриваться.
Андрей отодвинул одну из тесин у стены. Там-то и оказалось зелье, разлитое в три бидона. Один жбан Андрей подал мне, а два взял сам и направился к двери.
Я стоял в нерешительности. Что делать? Разбудить их и арестовать? Но они спьяну могут броситься в драку. А если мертвецки пьяны, что же, тащить их на себе в сельсовет?
Уходя, я оглянулся. Мне почудился тяжкий вздох, похожий на вздох коровы. С ужасом увидел, что один из пьяных, лежавших на соломе, поднялся и начал протирать глаза. Я в нем признал самого помещика Климова.
Климов всегда был страшен своим жирным, обрюзгшим лицом, а теперь оно совсем заплыло. Это была маска из красной глины.
Качнувшись, он снова повалился на солому.
Поставив бидоны с самогоном в передок телеги и закрыв их сеном, Андрей оправил лошадь и вывел ее на дорогу. Когда поехали, он показал на салотопни:
– Зря спасибо им не сказали.
– Надо бы их арестовать, – предложил я.
– Ну их к идолу!
– Сейчас заедем к председателю сельсовета.
– И отдадим самогон?
– Можно не отдавать, если бог тебе счастье послал.
– А тебе?
– На что оно мне, это вонючее счастье?
– Ну, твоему отцу отдам. Твоя доля не должна пропадать.
Председателя Совета мы застали дома. Не скоро его добудились, и не скоро он сообразил, кто его тревожит. Только когда сказали, что «требоват из городу», он протер глаза. Узнал меня.
– Здравствуй, друг! – начал я. – Скажи – как у тебя комитет бедноты работает?
Он выпучил на меня глаза.
– Кто-о?
Когда я повторил вопрос, он отрицательно покачал головой.
– Ничего не вышло.
Это меня взорвало. Оказалось, что у них до сих пор никакого комбеда и в помине нет.
– Уполномоченный у вас был?
– А что толку? Не договорился с народом.
– И сам ты успокоился? А с отбором хлеба у кулаков как?
– У нас сплошь одни середняки.
Такой ответ даже Андрея рассмешил.
– И ты середняк? – спросил я.
– Стало быть.
– И у Климова в работниках не жил?
– То было во-он когда.
– Кстати, где сам Климов?
– Скрылся.
Андрей вновь расхохотался. А меня зло разобрало.
– У вас тут в селе что, Временное правительство Керенского или Советская власть?
– Советская.
– Хорошо. Проспись и приезжай завтра в уисполком к Шугаеву. Он тебе внушит, пьянице, какая у вас тут власть.
– А что мне Шугаев! – обозлился теперь он.
– Да то, что по вашему селу ехать невозможно. Самогоном смердит за три версты. И ваши кулаки хлеб возят на продажу. А сам ты беспробудный пьяница.
Андрей, боясь, как бы я не проговорился о самогонщиках, махнул рукой и направился к двери. Мне в пылу горячки хотелось все выложить, но я сдержался.
– Даю тебе приказ от имени уисполкома и упродкома организовать комитет бедноты в течение трех дней. Уполномоченным ставлю тебя. Ты за все ответишь по революционному закону. Больше с тобой, разгильдяем и пьяницей, разговора нет. И чтобы поиски самогона произвести, а у кулаков перемерять хлеб в амбарах! Излишки отправить на станцию к уполномоченному!
– Слушаю, начальник, – полунасмешливо ответил он. – Больно вы строгие стали.
– Строгость ты еще испытаешь, когда не выполнишь. А Климова доставь в город. Кстати, что делается в салотопне?
– А что? – вскинулся он.
– Там из трубы дым идет. Сало, что ли, топят?
– Не может быть!
Тут вмешалась жена, державшая ребенка на руках. До этого она молчала, посматривала то на меня, то на своего мужа.
– Знамо, небось самогонку гонят, че-ерт. Сходи-ка.
Председатель обругал жену самыми последними словами. Из их перебранки я понял: председателю хорошо известно, что делается в салотопне. Предложил тут же идти ему со мною.
Андрей, увидев нас вдвоем, забеспокоился, но я сказал ему, чтобы он ехал вперед.
– Догоню.
Он с большой радостью согласился.
В салотопне, когда мы вошли, была суета. Суетились двое, что-то отыскивая и ругаясь. Климов продолжал спать, хотя его усиленно будили, били ногами в бока.
– Что такое? – спросил председатель. – Кто тут? Что делают?
– Украли, Дмитрий Григорьич.
– Что украли? – встревоженным голосом спросил председатель.
– Все три бидона.
– Как все три?
– Ну да. И твои два.
Председатель вспомнил, что я здесь, и заорал во все горло:
– Что вы болтаете зря при чужом человеке!
Я вышел за ворота, как бы ничего не слышал. Председатель оглянулся и, предполагая, что я ушел совсем, принялся распекать их:
– Как же вы так, ротозеи? Кто же мог это сделать? Ведь мои тут два пуда.
– Ей-богу, как скрозь землю.
– Может, он? – спросил председатель, и я догадался, что он говорит о Климове.
– Не могет. Совсем без ног. И три бидона. Как он их донесет? Кто-нибудь из деревенских.
Мне все стало ясно. Войдя, я спросил:
– Что у вас за шум?
Увидев меня, мужики опешили.
– Это кто?
– Из уезда, – ответил председатель. И, обращаясь ко мне, строго заявил: – Вот, товарищ Наземов, на месте преступления захватил. Гляди. И котел горит, и самогон в ведре. Видать, только начали.
– Что ж, – сказал я, – они начали, а ты кончай. А все, что приказал, выполни в срок.
– Теперь-то я выполню, – злобно пообещал председатель.
Глава 9
Время приближалось к полудню. Ярко светило солнце.
Лишь кое-где в далекой синеве неба парили неподвижно тонкие, как бы расчесанные, прозрачные облака.
Ветер еще колыхал по обочинам дороги цветущую рожь. При сильном порыве над полосами ржи поднималась мелкая желтая пыльца сухого цветения. Рожь была хорошая, крупная в соломе и колосе. Последние дожди сильно выручили, и хотелось, чтобы всюду, на всех полях зрела и волнами перекатывалась такая рожь!
– Поспевай, матушка, зрей, – шептал я. – Перетерпим еще месяца два, и тогда мы будем сильны.
Далее шли поля яровых хлебов: овес, просо, чечевица.
Овес у дороги, где хлеба всегда родятся гуще, был темно-зеленый, высокий, крупный в стебле и уже выбросил кудрявые кисточки. Они нежно шелестели, будто что-то шептали, и задорно задевали друг друга. Смотришь на овсяное поле, особенно когда уже полный налив, – и неисчерпаемая радость вселяется в сердце, и чувствуешь бодрость во всем теле, будто утром – рано, до солнца – выкупался в прохладной воде. Кисти овса, свисающие гирляндами, кажутся хрустальными.
А как хорошо до восхода солнца косить овес, захватывая острой косой с грабельцами, и класть его в ряды. Ровными, как холст на лугу, ложатся эти ряды.
Молотить овес тоже весело. Два-три хороших удара цепом – и сноп уже осыпает с себя серебристые крупные зерна. Они взлетают и, падая, обсыпают голову, брызгают в лицо.
Люблю овес – хороший, белый, крупный.
Люблю овсяный кисель – горячий, пахучий, сдобренный конопляным маслом…
Поднялись и просяные загоны. Широколистые стебли уже отошли от земли и тянутся вверх, пытаясь догнать овес. Но просяным посевам яростный враг – сорная трава. Просо нежно, как младенец, чувствительно, оно любит мягкую, влажную землю и боится соседства самого жадного врага, пьющего соки земли, – тяжелого осота.
Не менее опасное соседство для проса – березка-ползунок. Она не лезет вверх, как нахрапистый осот или козлец, а лукаво стелется понизу, воровски прячась под листьями. Лишь когда ей самой становится тесно внизу, она длинными нитями со множеством нанизанных бело-голубых чашечек цветов обвивает просяные стебли и душит их.
Не легко выдрать из земли березку, оторвать ее, снять со стеблей проса. Цепко держится этот паразит за жизнь.
А там, где просо посеяно на низинах, на кислой почве, буйно растет красностволая кислица, похожая на гречу. Кислица – дружное семейство. Она идет сплошной стеной, давя собою не только просо, но и сорные травы.
Много разных врагов на полях. Иногда вдруг появится дикая сурепка, обитательница ржаных полей, – и, гляди, все в желтом цвету. Или на чечевицу нападет цепкая трава – череда. Выполоть ее нет никакой возможности. Только после молотьбы можно ее отвеять, а семена сжечь. Одиночно растет в хлебах развесистый пахучий козлец. Его желтые головы, схожие с кистями рябины, можно увидеть издали. Под козлецом уже ничего не растет – так он жаден и могуч.
Но хуже всех, даже хуже синих, красивых васильков, нежно воспетых некоторыми поэтами, седая полынь. Она – владычица сорных трав. Не дергай, не жги ее весной на корню, не пропахивай, не борони – и она в два-три года покроет собою все поля и огороды.
С этими-то сорняками и борются сейчас полольщицы, мимо которых едем мы с Андреем. То тут, то там виднеются на загонах их согнутые спины.
Андрей задремал. Что там гадать! Пока я был в салотопне, он приложился к бидону. Спрыгнув, я пошел сзади телеги.
Вот уже близко полольщицы. Вероятно, они сильно утомились, так как то и дело разгибались, чтобы дать спине отдохнуть.
С большим любопытством уставились они на нашу подводу с дремлющим Андреем. Кто-то из них насмешливо что-то крикнул, но Андрей даже ухом не повел.
Затем свои взоры они устремили на меня. Каждый чужой человек всегда вызывает интерес, попадись он в селе или на поле.
– Бог помочь! – крикнул я им, остановившись, чтобы закурить.
– Иди к нам на помочь.
– Сейчас закурю. Попить у вас есть?
– Есть, да не про вашу честь, – ответила девушка с загорелым лицом, покрытым пылью.
– Ну, не надо, – отказался я. – А вот работаете вы плохо. Как на поденщине.
– А мы и так на поденной, – ответила пожилая женщина, передавая из фартука в фартук траву курносой девушке.
– Оно сразу видно. Лишь бы день прошел. За что только вам хозяин денежки отваливает?
– Куда едешь? – спросила девушка и вытерла пыль с лица. Она была хороша собой.
– Невесту сватать, – ответил я.
– Этого добра хватит, – подсказала пожилая и, шмыгнув носом, рассмеялась.
– На примете-то есть? – спросила вторая и лихо поправила платок.
– Есть, – задорно ответил я.
– Девка аль вдова?
– Пока не узнал. Говорят – незамужняя.
Это их повергло в веселье. Как же, едет человек сватать, а не знает кого.
– Сам-то небось женат уж раз десять, – опять проговорила старая. – Вам теперь воля.
– Я вдовец, – отрекомендовался им. – Трое детей, один грудной. Маму им ищу. У вас, случайно, нет подходящих вдов?
– С детьми аль как? – спросила молодуха.
– Мне все равно, лишь бы щи варила да кашу солила.
– Корова есть?
– Два ведра молока в день. Прокисает, не съедаем.
Они опять рассмеялись. Забавно чешет языком вдовец.
– Чем ты теперь, милый, занимаешься? – спросила молодуха и шагнула ко мне.
Надо бы идти. Андрей уехал далеко, и как бы холера лошадь не свалила его где-нибудь?
– Чем? Самогонку варю, на базар вожу.
– А если по правдышке? – серьезно спросила молодая.
– Тебе зачем знать?
– Больно интересно говоришь. И врешь ты поди, что такой. И одет не как все, а во френче,
– Какая невидаль – френч! Теперь мода такая. А сама ты кто? – спросил теперь уже я.
Не успела она ответить, за нее крикнула старшая:
– Вдова она. Ты глянь получше. Вот тебе и жена. Бери ее хоть сразу с собой – и под венец.
– Типун тебе на язык, – пожелала вдова. – Эка сваха. Чай, такие дела не сразу. Нет, скажи – ты кто? – вновь насела на меня вдова.
– И совсем я не вдовец, – сознался я.
– Холосто-ой? – разочарованно ответила вдова. – Это дело не подходит. Вон бери тогда Аннушку. Девка хороша, а жениха на примете нет.
Аннушка, полная, с чуть раскосыми карими глазами девушка, фыркнула и отвернулась. Она правда была хороша.
– Ладно, на обратном пути договорюсь. Вы из какого села?
– Из Горсткина, – ответила вдова.
Сердце у меня замерло. Из Горсткина! А я – то разболтался. Ведь они, конечно, знают Маркиных, знают и Лену, и все семейство.
Преодолевая смущение, вдруг охватившее меня, я решился все-таки кое-что разузнать.
– Из Горсткина? А я думал – это все еще оборкинские поля. В Горсткине мы остановимся. Там у меня знакомые.
Это вызвало у них еще больший интерес. Тут даже Аннушка направилась к нам.
Между тем подвода спустилась под уклон, к небольшому ручью. Мост там плохой. Как проедет лошадь, если кучер спит? Ну, шут с ним, с Андреем. Тут такой разговор…
– Кто же у тебя в нашем селе знакомцы?
– Маркина Арина! – единым духом выпалил я и к досаде своей почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо.
– Арина Маркина? Да это наша соседка, – всплеснула старая обеими руками.
– И Костя мой знакомый, – добавил я. – Он жив?
– Воюет, – ответила старая соседка.
Некоторое время вдова испытующе смотрела на меня, потом как бы про себя проговорила:
– Так, так, так! – Помолчала, прищурившись. – А Федору, случайно, не знаешь?.. Да что ты все краснеешь? Федору, мельничиху?
– Что-то не помню, – глухо ответил я.
– Зато она тебя помнит.
– То есть как помнит? – уже я удивился, и уши мои загорелись. – Откуда она меня знает?
– Ври, ври! Теперь и я признала тебя. А зовут тебя Петя. Что, угадала?
Лучше бы сквозь землю мне провалиться. Доболтался я. А вдруг она «все» знает? Разве в деревне что утаишь?
– Да, это я.
– Ну вот. А это ихнее поле. Две десятины Федора арендовала. Мужа, мельника, небось помнишь. Ну, которого ты арестовывал. Теперь он дома. Зайди навести его.
– Спасибо, – осекшимся голосом ответил я.
– Ну, ее навести. – Она вновь прищурила глаза.
– Федору?
– Зачем? Очень ты в ней изнуждался!.. Ельку. Меня не признаешь? Я тебя сразу признала по руке.
Да, теперь я вспомнил. Приходила такая женщина в дом Лены. И тетка Арина прямо ей сказала: «Нечего тебе, знаем, зачем пришла. Иди, иди!»
Но вдове я все же не сознался, что вспомнил ее. Смеясь, она толкнула ко мне Аннушку. Передо мной предстала девушка с чуть раскосыми бровями, похожими на крылья молодой ласточки, под которые глубоко уходили карие глаза, с полными загорелыми щеками, с чуть приподнятым носом. Когда засмеялась, показались белые, как горошины, зубы.
Девушка ростом невысока, но удивительно плотная, как налитая. Полнота ее была не излишней, – ни прибавить, ни убавить нечего.
– Меня-то ты должен вспомнить, – заявила Аннушка.
– Постой, постой, – притворился я, – вроде что-то знакомое.
– Чего там гадать! В лес вместе ходили гулять. Я Елькина подруга. Помнишь, в лесу Федя меня отозвал, а Лена пошла с тобой? И вы сидели на луговине. А ты цветы рвал и ей подносил.
– Зачем об этом рассказывать? – упрекнул я, узнав подругу Лены. – Что было, то прошло.
– Мы знаем – отказали они тебе. Все Федора дура. Она расстроила. А ты обиделся, ушел и не являлся. Теперь-то зайдешь к ней?
– А зачем? – в открытую начал я разговор, раз так получилось. – Зачем? Ее, наверное, просватали?
Наступило молчание. Оно, как мне показалось, длилось долго. Сердце замерло. Я ждал ответа, но они молчали.
– Знамо, не ходи к ним, Петя, – прервала молчание вдова.
– Это почему же? – вступилась Аннушка. – Проехать и не наведать?
– А ты, дуреха, – резко оборвала вдова, – не понимаешь ничего. Небось человек пережил невесть сколько, теперь, гляди, дай бог, забыл, а ты его натрафляешь. Зачем она ему?
Посмотрев на Аннушку, вдова полушепотом с укором, не глядя на меня, намекнула ей:
– Ведь ты же знаешь…
– Ну и что?
– А то. Твою подругу не поймешь. У нее, видать, нет в голове своего. То с одним сидит, то с другим.
– Сидит! Это я знаю, что такое. «Сидеть» значит быть с кем-то вдвоем, уединившись куда-нибудь от других. Или сидеть где-либо на бревнах, а то в сарае на соломе, а зимами оставаться на посиделках до самого утра. И тоже вдвоем. «Ходить» – значит ходить вместе по селу под ручку, о чем-то болтать и не уступать девки никому, не пускать ее в хоровод. Да и сама она не пойдет, если ей парень по душе. Словом, ухаживать за девушкой, считая ее своей невестой. А она будет считать парня своим женихом.
Но не всегда бывает, что те, кто «сидит» или «ходит», обязательно поженятся. И редко, очень редко случается, что они еще до свадьбы зайдут слишком далеко. А позволено все: подарки, конфеты, подсолнухи, кисеты, а дальше объятия, воркованье о любви, ну, поцелуй в темноте. И только.
«С кем же „сидит“ Лена?» – ножом резала меня мысль, и горечь наполняла сердце. Хотелось узнать – и боялся. Почувствовал, как вновь ожила во мне безудержная, слепая любовь к Лене.
– Мало ли с кем сидит! – возразила Аннушка. – Ты вот сидела с Николаем года два, а вышла за Федора. А с Федором и при народе-то всё были поврозь.
– Ничего ты, Аннушка, не смыслишь. Я глаза отводила.
– А Лена ни Ваньку хромого, ни Ефимку не любит, хошь Ефимка и гармонист. Отвязаться от них – это, правда, она не может. Несмелая.
За таким жгучим разговором я совсем забыл про Андрея. А он, видимо, ждал-ждал меня и вот повернул назад.
– Ты что тут пропал, начальник? – закричал он, сойдя с телеги.
Увидев кувшин, попросил воды. Девочка робко передала кувшин, и Андрей, обливая черную свою бороду, жадно принялся пить.
– Дядя, оставь на донышке, – крикнула вдова.
– Сходите. Эка вода-то тепла.
– А ты бы там, в роднике, напился. Ключевая.
– Боюсь – бороду простужу. А у вас что тут, митинга? – обратился он к старой.







