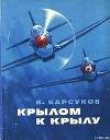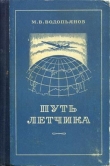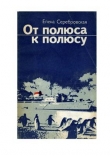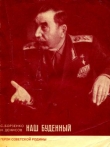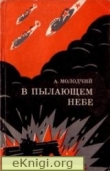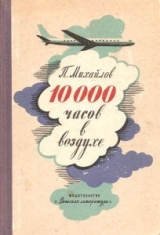
Текст книги "10000 часов в воздухе"
Автор книги: Павел Михайлов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Полёт на Камчатку
Бушует осенняя непогода. Непроглядная тьма сгустилась над Внуковским аэродромом. Яркие лучи прожекторов освещают готовый к старту сигарообразный «ТУ-104». Серебристый самолёт будто потемнел от непрерывного дождя. В свете прожекторов отчётливо виден номер машины: 5413. Этому реактивному кораблю и его экипажу выпала ответственная и почётная задача – проложить воздушный путь до Камчатки. Москва – Камчатка – самая длинная в мире континентальная воздушная трасса; свыше девяти тысяч километров! Правда, до Хабаровска мы будем лететь по «проторённой» воздушной дороге, но последние две тысячи километров – весьма сложные и ещё не изведанные; по ним «ТУ» не летал. Нам предстоит преодолеть всегда неспокойное Охотское море, снижаться меж гор и сопок, порой возвышающихся более чем на три с половиной тысячи метров. Гейзеры, действующий вулкан, тёплое морское течение Куросиво создают на этом отрезке трудные для перелёта атмосферные условия.
Но мы настроены бодро: для пробного – «технического», как у нас называют, – рейса экипаж подобрался отличный.
Штурман Калинин в последний раз проверяет аппаратуру, просматривает карту, уточняет маршрут полёта, заранее готовясь к тому, что, возможно, придется лететь только по приборам. Хлопочет бортрадист; на его обязанности обеспечить связь со всеми радиостанциями вдоль трассы и с Москвой. Он изучает позывные радиостанций до пункта первой посадки – Омска.
А дождь всё хлещет и хлещет. Небо беспросветное, по-осеннему неприветливое. Должно быть, потому нам так долго не дают разрешения на взлёт. Наконец в 19 часов 30 минут из командно-диспетчерского пункта по радио слышим команду:
– 5413! Запуск двигателей разрешаю.
Заработала одна турбина, за ней – вторая. Дан старт.
В памятный вечер 24 октября 1957 года, незадолго до празднования сороковой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, «ТУ-104» отправился в свой первый рейс на Камчатку. Он должен был открыть новую воздушную трассу для регулярного сообщения на реактивных самолётах.
Летим, окутанные толстым слоем облаков. Стеклоочиститель едва успевает сгонять струйки воды, дождь не унимается. Затем поднимаемся на высоту пять тысяч метров, облака остаются далеко под нами. Вверху открывается искрящееся звёздами тёмно-синее, почти чёрное небо. Поднимаемся ещё выше, летим на высоте десять тысяч метров.
Под Свердловском облака исчезли, и сразу засверкали огни индустриального Урала. Первая наша посадка в Омске. Участок пути Москва – Омск мы пролетели за два часа пятьдесят минут, идя со скоростью восемьсот восемьдесят километров в час.
Дальше летим на Иркутск. Вот тонкой полоской осветился восточный край небосвода. Полоска эта всё ширилась и росла, переливаясь чистыми цветами радуги. Потом солнечные лучи, будто вырвавшись из невидимого плена, с силой ударили в нос корабля, обильными потоками устремились вниз к Ангаре. Заискрилось, засверкало в розовых лучах восходящего солнца разлившееся на много километров Иркутское море. Давно ли мы пролетали здесь, а как изменился глухой таёжный край! Мы, пилоты, как хорошему другу, радуемся каждому новому ориентиру и любовно заносим его на свои маршрутные карты.
Короткая остановка в Иркутске, и следуем дальше в Хабаровск. Весь полёт от Москвы до Хабаровска занял немногим более десяти часов. Теперь потянутся самые трудные, полные для нас неожиданностей и загадок две тысячи километров пути.
От Хабаровска мы летим вначале вдоль извилистого Амура. На высоте шесть тысяч метров земля здесь исчезает из поля зрения: снизу, сверху и по сторонам – непроницаемая толща слоистых облаков. С инструктором-пилотом Шапкиным ведем поочерёдно самолёт, ориентируясь лишь на показания приборов. Радист аккуратно поддерживает связь с Хабаровском, телеграфируя одновременно о вылете в Петропавловск-на-Камчатке.
Чтобы пробить облачность, поднимаемся на высоту десять тысяч метров. По расчетам, пора быть Сахалину, но внизу по-прежнему всё затянуто плотными кучевыми облаками. Причудливые нагромождения облаков, тянущиеся до самой Камчатки, напоминают полярный ландшафт, бескрайные снежные просторы Арктики. Тысячекилометровый прыжок через Охотское море мы совершаем как бы с закрытыми глазами, доверяясь лишь приборам да радиопеленгам.
Летим, как гигантская летучая мышь, которая самой природой снабжена средствами радиолокации. Как известно, ультракороткие звуки, издаваемые мышью при полете, ударяясь о препятствия на её пути и возвращаясь обратно, тем самым предупреждают зверька об опасности. Поэтому мышь облетает все преграды, не видя их.
Приборы, созданные человеческим умом, гораздо совершеннее. Они позволяют нам вслепую вести самолёт строго по курсу. Радист берёт пеленги из Хабаровска и Магадана, а штурманы наносят по ним на карту фактическую линию нашего движения.
Нас всё более начинает беспокоить мысль: не стоит ли такая же облачность над самой Камчаткой? Как садиться вслепую среди гор и сопок?
Мы тут же начинаем определять место, дальше которого самолёт не должен будет лететь и откуда мы немедленно повернём в обратный путь на Хабаровск, если погода не позволит сесть на Камчатке.
Охотское море мы пересекли всего за один час. К нашей великой радости, уже на подступах к Петропавловску-Камчатскому мы получили по радио сообщение, что нас принимают и разрешили снизиться до четырёх тысяч пятисот метров.
Примерно на расстоянии двухсот двадцати километров от Петропавловска-Камчатского мы начали снижаться. На семикилометровой высоте снова погрузились в светло-серые тучи. Началась болтанка. Приборная доска вибрировала так, что цифры мелькали в глазах. Сопки совершенно пропали за облаками. Штурман Калинин лишь по радиолокатору ведёт наблюдение за наземными ориентирами. Стрелка радиокомпаса колеблется то вправо, то влево и вдруг резко опускается книзу на сто восемьдесят градусов. Это под нами металлические башни широковещательной радиостанции. Значит, мы над Петропавловском-Камчатским. Снижаясь, разворачиваемся; самолёт правым крылом очерчивает прибрежные воды Тихого океана. На высоте три тысячи пятьсот метров выходим из облаков. Перед нами открывается Камчатский полуостров с остроконечными вершинами многочисленных сопок.
Снижаемся, делаем развороты и выходим к Авачинской бухте. Воды её с тёмно-синей гладью не шелохнутся. Ступенями спускаются к воде улицы города. В порту густой лес мачт. На высоте тысяча метров делаем четвёртый разворот и продолжаем снижение. Нелегко с первого захода рассчитать посадку огромного самолёта на незнакомом аэродроме, сжатом со всех сторон горами. А вдруг из-за большой высоты или скорости и подойдя к аэродрому не сможем сесть? Тогда что? Ведь впереди, за аэродромом, опять горы… Да, здесь рассчитывать нужно точно! Вспоминаю наши посадки на Балканах в годы войны.
А между тем бетонированная взлётно-посадочная полоса стремительно надвигается на нас. На высоте десяти метров выравниваем самолёт. Широкой лентой под самолётом замелькали бетонные плиты. Мягкое касание дорожки… Сели.
Как и повсюду, на Камчатском аэродроме народ – полгорода. Пришли посмотреть новый реактивный самолёт. Те, кому удалось попасть внутрь самолёта, интересуются решительно всем – от приборов управления до устройства пассажирских кресел. Многие местные жители подолгу задерживаются у фарфоровой статуэтки, украшающей пассажирскую кабину. Она изображает оленя и рядом с ним женщину с ребёнком.
– Глядите, глядите, это наша!.. – с радостным удивлением восклицает колхозник-оленевод, внимательно разглядывающий кухлянку и торбаса на изящном фарфоровом изваянии. – Который ее лепил, – продолжает оленевод, – не иначе, как в нашем Пенжинском районе побывал: там все такие кухлянки носят.
Случайно маленькая статуэтка стала символом связи Москвы с одним из отдалённых районов Советского Севера.
Мы объяснили экскурсантам, что прибыли сюда, чтобы открыть регулярную воздушную связь между Камчаткой и Москвой на самом совершенном в мире пассажирском реактивном самолёте, что этот подарок приготовило Советское правительство трудящимся Камчатки к сорокалетию Октября.
Хороша камчатская столица, особенно когда видишь её с высоты полёта. Она расположена подковообразно над бухтой, одной из самых удобных и красивых в мире. Улицы города многоступенчатыми террасами спускаются с сопок к морю.
Нам посчастливилось увидеть здесь редкое зрелище: ночью огни города, отражаясь от зеркальной поверхности воды, образуют в кристально-чистом воздухе серебристые световые столбы, напоминающие северное сияние. Поднимаясь высоко над городом и портом, они искрятся и колеблются в воздухе, как гигантские сказочные призраки.
С аэродрома в город мы ехали по извилистому гладкому, без единой выбоины, шоссе. Вдоль пути тянулись карьеры туфа – застывшей лавы вулканического происхождения. Туф – добротный и дешёвый строительный материал, широко здесь используемый.
Как и все города нашего Союза, Петропавловск-Камчатский опоясан лесами новостроек. Петропавловцы большей частью ныне живут в добротных двухэтажных каменных домах из туфа. На бетонированных улицах множество автомашин, даже забываешь, что находишься «на краю земли». Не меньшее оживление царит и в порту, откуда то и дело раздаются гудки и сирены пароходов и теплоходов.
Петропавловск-Камчатский – наша дальневосточная рыбная столица, здесь перерабатываются ценнейшие лососевые породы. За последние годы рыбные промыслы значительно механизированы. В городе строится первая в нашей стране геотермическая электростанция; она будет работать на «водяном топливе», с использованием тепла подземных горячих источников. Это позволит во много раз увеличить энергетическую базу Камчатского полуострова и прежде всего рыбных промыслов.
Интересно сравнить настоящее и прошлое Камчатки. В своём отчёте за 1912 год тогдашний камчатский губернатор Мономахов сообщал царскому правительству, что на всю область имеется пять врачей, двенадцать фельдшеров и четыре повивальные бабки. В 1957 году на Камчатке работали семьдесят две больницы, сто девяносто пять фельдшерско-акушерских пунктов, двадцать восемь аптек.
Капитан рыболовного сейнера колхоза имени Кирова Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР Иван Игнатьевич Малякин рассказывал нам, что он плавает двадцать два года, из них девятнадцать лет в водах Тихого океана. За свою трудовую жизнь он выловил восемьдесят шесть тысяч центнеров рыбы – количество, достаточное, чтобы целый год кормить население крупного промышленного центра.
– Без авиационной разведки, – вспоминает Иван Игнатьевич, – мы добывали рыбу «по нюху» и порой возвращались без улова. Сейчас же самолёты наводят сейнеры по радио прямо на косяки. Уловы бывают такие богатые, что иной раз опасаемся за целость невода: трещит!..
Авиация в бездорожной и отдаленной Камчатке играет огромную роль не только в рыболовецком хозяйстве. Кроме регулярного воздушного сообщения по линии Петропавловск – Хабаровск, теперь есть связь и с другими районами Камчатской области.
В обратный путь из Петропавловска-Камчатского мы отправились 27 октября. Вершины сопок по-прежнему были окутаны облаками, и мы снова пробивали их. Развернувшись над Авачинской бухтой, мы попрощались с Тихим океаном и легли на свой курс. В редких просветах между клубящимися облаками виднелись бурные волны Охотского моря, омывающего побережье Сахалина.
Перелёт от Москвы до Петропавловска-Камчатского, включая посадки в Омске, Иркутске и Хабаровске, «ТУ-104» проделал за десять часов двадцать минут. Обратный путь продолжался несколько больше – двенадцать часов двадцать пять минут: давало себя знать сопротивление встречного ветра.
Расстояние в оба конца, восемнадцать тысяч километров, примерно равнялось длине пути Москва – Нью-Йорк – Москва.
Незадолго до полёта на Камчатку мы совершили полёт в Америку также на «ТУ-104», об этом расскажу позднее. Здесь же замечу, что оба раза скорость движения на отдельных участках пути достигала тысячи шестидесяти километров в час.
На Внуковском аэродроме нас встретил дождь. Прямо с аэродрома наш новый знакомый Иван Игнатьевич Малякин отправился в Большой театр; билет туда он заказал ещё утром по радио из Петропавловска-Камчатского. Время у нашего пассажира было строго распределено: на следующий день он должен быть на юбилейной сессии Верховного Совета СССР. Малякин оказался первым пассажиром на новой линии, а спустя всего три месяца началось регулярное воздушное сообщение с Камчаткой на «ТУ-104».
Зарок Нины Петровны
Мне хорошо запомнились подробности первого пассажирского рейса на Камчатку.
Хабаровск. Раннее утро 29 января 1958 года. В голубоватой дымке морозного воздуха гуляет ледяной, пронизывающий ветер, но холод не может остановить людей. В Хабаровском аэропорту полным-полно пассажиров. Одни покупают билеты на Москву, другие торопятся к самолётам, идущим на Магадан, Сахалин, во Владивосток. Но самая большая очередь у окошка, где оформляется отправка пассажиров, багажа и почты на Камчатку.
В репродукторах громко раздается голос диктора:
– Граждане пассажиры, начинается посадка на самолёт «ТУ-104» за номером 5426, следующий по маршруту Хабаровск – Петропавловск-Камчатский.
Пассажиры взволнованы.
Раньше, чтобы попасть на Камчатку, им приходилось лететь из Хабаровска в Магадан и лишь оттуда в Петропавловск-Камчатский. Путь в несколько тысяч километров продолжался не один день. А сейчас «ТУ-104» домчит их всего-навсего за два с четвертью часа.
Старт дан в 5 часов 19 минут по местному времени. Летим на высоте десять тысяч метров, со скоростью девятьсот пятьдесят километров в час. Внизу, через просветы матовых облаков, видна коса Сахалина, а дальше – безбрежное неприветливое Охотское море.
Бортпроводницы на подносах разносят завтрак пассажирам. Уступаю правое пилотское сиденье второму пилоту Демину, а сам отправляюсь проверить самочувствие пассажиров, заодно и познакомиться с ними. Может быть, встречу кого из прежних воздушных пассажиров? Вот в передних креслах сидят шофёр Серзин со своей женой Ольгой Павловной и сыном Серёжей. Семья переезжает с Сахалина на Камчатку. На «ТУ-104», разумеется, летят впервые.
– Как чувствуете себя в полёте? – спрашиваю Серзин а.
– Привольнее, чем в кабине своей автомашины, – отвечает довольный шофёр.
– А тут лучше, чем дома, – солидно замечает шестилетний Серёжа.
Рядом с семьей Серзина расположился военнослужащий Хороших. Он возвращается на Камчатку с кавказского курорта, на «ТУ-104» сел в Москве.
– Раньше, – говорит Хороших, – от Москвы до Камчатки я добирался на четвёртые, а то и пятые сутки, а сегодня меньше чем за пятнадцать часов долечу. Великое это дело для нас, окраинных жителей, товарищ пилот! Великое!..
А вот и самый маленький наш путешественник – двухмесячный Саша Фёдоров; он совсем неплохо чувствует себя на руках у матери. Этого пассажира не занимают ни скорость движения, ни время нашего прибытия. Мать малыша Римма Ракитская из села Каменское, на севере Камчатки, гостила в Хабаровске, теперь возвращается домой. Своё первое в жизни путешествие её восьминедельный Саша совершает на реактивном самолёте. Вырастет мальчуган, и станет для него этот перелёт седой историей, а сам он, может быть, поведет межпланетный корабль. Как знать!
Шестидесятидевятилетняя Мария Даниловна Лисина на самолёте летит впервые в жизни и сразу на «ТУ-104».
С доброй улыбкой Мария Даниловна говорит:
– Та на зализници больше трясло. А у нас на сели, як на тий таратайцы-чортопхайци: кудысь пойдёшь, так и зовсим все кишки повытрясае. Ни, на вашему небесному экспрессови раскатывать краще, ниж на «Москвичу» нашего предколгоспа.
– А что же вы, бабуся, на старости лет в такую даль собрались? – спрашиваю старушку.
– А до чоловика своего законного. Уж двадцать рокив, як вин покинув нашу ридну Днепропетровщину.
– Сойтись, что ли, снова решили с ним?
– Та бог з вами, командир, скажете тоже такое! Хиба ж мы расходились? Он и письма и гроши мини присылав. Раниш я не хотела покидать сына та дочку, вони остались на старому мисцю. А я решила доживаты вик со своим законным. И он просит. Чоловик мий в Петропавловске – знаменитый печник. Для своей старухи, навить, гарну печь склав. Буде де погриты стари кости. Вы, молодь, того не понимаете!..
Я повернулся, чтобы идти, но меня остановила молодая женщина. Она внимательно прислушивалась к нашему разговору, не спуская пристального взгляда с меня.
– Неужели не узнаете меня, товарищ Михайлов? – спросила женщина.
Всмотревшись в её лицо, я вспомнил:
– Нина Петровна, вы ли это? Ведь вы же зареклись не садиться в самолёт!..
Нина Петровна конфузливо заморгала ресницами и, смущённо улыбаясь, сказала:
– Во-первых, это было восемь лет назад, и я действительно все эти годы не летала, а во-вторых, это же реактивный самолёт, это же «ТУ». О нём я так много читала и слышала. Говорят, ему никакие бури не страшны?
– Да, вы правы, Нина Петровна. Раньше самолёту выше пяти тысяч метров трудно было подняться, а теперь и на двенадцать тысяч легко забираемся. Все бури-непогоды остаются далеко под нами, и нашему «ТУ-104» всегда светит солнце. Конечно, если мы летим днём. Такого переполоха, как случился с нашим старым самолётом, на «ТУ» быть не может, Нина Петровна.
С этими словами я ушёл к себе в кабину и, наблюдая за работой пилота, вспомнил о своей первой встрече с Ниной Петровной.
1 мая 1950 года мы летели на двухмоторном самолёте «ИЛ-12» из Хабаровска в Москву. Самолёт шёл на высоте две тысячи семьсот метров. В кабине было холодно.
– Подтопить бы, Тихон Тимофеевич, – обратился я к бортмеханику. – Температурка-то у нас минусовая.
– Это нам ничего не стоит, – весело ответил бортмеханик.
Электропечь заработала, и я с удовольствием расправил спину под потоком тёплого воздуха.
Штурвал держал второй пилот. Штурман внимательно вычислял курс, чтобы не отклониться к северу, в сторону Буреинского хребта. Фронт холодной погоды, о котором нас предупредили синоптики, будто бы остался позади, но плотные шапки облаков стали подниматься выше над горами, как бы выжимая нашу машину кверху. Самолёт поднимался ввысь, а тёмно-синие шапки облаков неотступно тянулись за ним.
«Ничего особенного, – уговаривал я сам себя, – над горами всегда формируется облачность».
Стрелка высотомера показала три тысячи триста метров. В горах бушевала непогода, мощные кучевые облака продолжали наседать.
– Ничего, сейчас проскочим их, и всё будет в порядке, – успокаивал я экипаж.
Но в этот момент плотная облачная стена грозно преградила нам путь. Начались воздушные толчки. В пассажирской кабине восемнадцать взрослых пассажиров и шестеро детей безмятежно дремали, растянувшись в своих креслах, ничего не подозревая о тревожной обстановке.
Я крепко сжал штурвал, чтобы при толчке он не вырвался из рук. Экипаж начал нервничать. Становилось очевидным, что мы не успели проскочить хребет, что как раз над вершинами гор нас застиг ураган.
Я вынужден был подняться ещё на пятьсот метров. Но сразу почувствовал страшную вялость в движениях, всё время хотелось вздохнуть поглубже, набрать побольше воздуха. Признаки начинающегося кислородного голодания были налицо.
Между тем облака сплошной массой облепили наш «ИЛ-12». Казалось, они просачиваются внутрь самолёта. В кабине стало темно, как в погребе. Даже фосфорическая окраска стрелок мало помогала различать деления на приборах. В глазах рябило от невероятной болтанки, беспрерывных бросков вверх и вниз.
В пассажирской кабине никто уже не спал. Кое-кого из пассажиров укачало, и они, побледнев, сжались в испуге.
Крылья самолёта обледенели. Налетающие бурными порывами мощные потоки воздуха готовы были расчленить машину на части.
В наушниках шлемофона раздавался треск электрических разрядов.
– Выключить радиостанцию, – помню, приказал я радисту и поспешил успокоить товарищей: – Это же последние судороги холодного фронта, сейчас пройдём грозу.
Высоту и курс полёта менять было нельзя. Влево уклонишься – там государственная граница, высокие горы, безлюдная тайга. Вниз – там тоже горы, и при снижении или воздушном толчке не мудрено удариться о скалу. Оставался единственный выход: перелететь быстрее через перевал, чтобы, выскочив на равнинное место, снизиться. Буря всё не утихала.
Черноту туч прошил острый зигзаг молнии, и в нос самолёта ударил резкий слепящий свет.
Этого только недоставало!
Самолёт, как шлюпку в открытом море, стало швырять в разбушевавшемся воздушном океане.
Бортмеханик перетрусил не на шутку.
– Командир, – говорит он жалобно мне, – у меня ребята малые остаются.
– А я, по-твоему, не хочу жить! – нарочито грубо ответил я, но тут же успокоил его: – Сейчас проскочим, видишь – уже спокойнее стало.
Словно издеваясь над моими словами, нас осветило такой молнией, что мы на короткий момент ослепли.
– Командир, возвращаться надо! – взмолились члены экипажа.
Я начал разворачивать самолёт влево, но тут рядом снова полоснула молния.
– Командир, держи вправо! – кричит мне механик. – Справа разрядов меньше.
Выкручиваю штурвал вправо. Молний здесь нет, но трепать продолжает с неменьшей силой.
Развернулся я на сто восемьдесят градусов, и понесся наш «ИЛ» на всех парах назад.
– Штурман, – кричу, – давай расчет! Миновали хребты или нет? Где мы находимся?
– Миновали, миновали! – отвечает штурман. – По расчёту под нами долина.
Пытаюсь перевести самолёт на снижение, уменьшаю наддув – мощные потоки воздуха по-прежнему тянут машину вверх.
Проходит минута, другая, и разбушевавшаяся, вымотавшая нас до предела гроза начинает стихать.
Опять беру курс на запад и по приборам веду самолёт на минимально допустимой высоте. Наконец в непроницаемых облаках появился просвет…
– Опасность миновала, вырвались-таки! – оповещаю я экипаж.
Все вздыхают с облегчением.
Теперь летим над равнинной тайгой. Ветра почти нет, тихо, а по земле бегут бурные, мутные потоки. Влево от нас небольшая железнодорожная станция. Читаю на карте название – Архара.
Отныне эта станция, притаившаяся в извилке гор, навсегда останется памятной для меня.
И экипаж и пассажиры были вконец измучены грозой. Многие находились в полуобморочном состоянии; но кончилась гроза, и все понемногу стали приходить в себя. Мы достигли ближайшего аэродрома и, обрадованные, приземлились.
Пассажиры выбрались на свежий воздух, расположились отдохнуть под крылом самолёта. Все успокоились. Только какая-то девушка – это и была Нина Петровна – никак не могла успокоиться: она заявила нам, что никогда в жизни больше не подойдет близко к самолёту.
– Мало ли что, – заспорил с Ниной Петровной чей-то звонкий, тоже девичий голос, – и на море аварии и штормы бывают, и на железной дороге крушения случаются, не ходим же мы из-за этого пешком! Вспомните десятидневный путь от Хабаровска до Москвы в душном вагоне, прежде чем зарекаться.
Но Нина Петровна оставалась непреклонной.
Когда пришло время лететь и все пассажиры заняли свои места, девушка с чемоданчиком в руке ушла на железнодорожную станцию…
Вот об этом-то случае я и вспомнил сейчас.
Какое счастье, что пассажиры этой совершенной машины избавлены от испытаний, какие нам с Ниной Петровной пришлось пережить несколько лет назад – в век поршневых моторов. Да, теперь Нина Петровна спокойно могла снять с себя зарок…
Самолёт приближался к Камчатке, держа курс на снеговые вершины Авачинской и Корякской сопок. Первый пассажирский рейс на Камчатку был благополучно завершён.
После кратковременной стоянки блестяще выдержавший экзамен экипаж взял обратный курс на Хабаровск.
Так было положено начало оживленному регулярному пассажирскому движению на самолётах «ТУ-104» на линии Хабаровск – Петропавловск-Камчатский. Расстояние в две тысячи километров покрывается теперь за два часа пятнадцать минут! А от Москвы до Камчатки – всего за десять – двенадцать часов. Реактивный самолёт входит в быт!
По возвращении с Камчатки я встретился с известным у нас в стране лётчиком-полярником Ильёй Павловичем Мазуруком, и разговорились мы с ним о наших авиационных новостях. Рассказал я ему про свой последний полёт на «ТУ-104».
– А знаешь, – говорит мне Мазурук, – кажется, совсем недавно – примерно с 1931 по 1936 год – и я на этой линии летал. Но как! Если погода хорошая, вылетишь из Хабаровска, пролетишь триста тридцать километров и садишься на ночёвку. На другой день пролетишь ещё километров триста двадцать, доберешься до Николаевска-на-Амуре, и снова ночёвка. На третий день проскочишь ещё километров сто шестьдесят до Охи, на Сахалине, а тут уж сидишь у моря и ждёшь погоды! Выпадет погожий день – летишь дальше через Охотское море. А оттуда ещё сколько до Камчатки лететь надо! Сотни километров. Напрямую лететь было нельзя, путь преграждали высокие скалистые горы. А чего стоило перелететь Охотское море? Лететь-то над ним приходилось десять часов. Ведь скорость тогдашних самолётов не превышала ста двадцати километров. Много дней продолжался нынешний двухчасовой путь на Камчатку…
Чтобы понять, какое значение имеют быстроходные самолёты типа «ТУ-104» в условиях огромных пространств нашей страны, стоит сравнить между собой два крупнейших перелёта. Известные лётчики Чкалов, Байдуков и Беляков совершили беспосадочный полёт по маршруту Москва – Камчатка – остров Удд. На первоклассной по тому времени машине «АНТ-25» девять тысяч триста семьдесят четыре километра они пролетели за пятьдесят шесть часов двадцать минут. Причем это был не обыденный, а рекордный перелёт. Сколько времени потребовалось бы сейчас рядовому советскому лётчику, чтобы преодолеть это же расстояние на «ТУ-104», читатель сможет подсчитать сам.