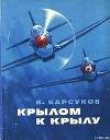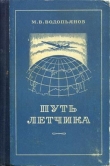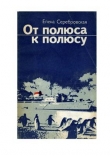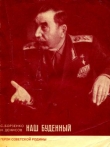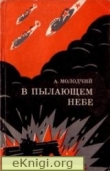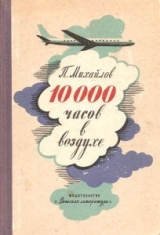
Текст книги "10000 часов в воздухе"
Автор книги: Павел Михайлов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
«ТУ-104» в Нью-Йорке
5 сентября. 2 часа по московскому времени. 19 часов по нью-йоркскому.
Дан старт. Пробежав половину полосы, наш самолёт отрывается от земли и с правым разворотом уходит в ночь. Входим в облака.
На этом этапе снова пилотирует Бугаев. На борту американские лидировщики: пилот капитан Ренеджер, штурман Дабсон, бортрадист Робинсон. Все они в штатских костюмах, хотя Ренеджер – военный лётчик. Радист хорошо знает русский язык, значит, можно будет обходиться без переводчика. Всё-таки облегчение для экипажа.
Наш курс – на юго-запад. Багровый отблеск заката озаряет всё вокруг феерическим светом – лилово-красным, оранжевым, тёмно-фиолетовым. Наши спутники дремлют. Они всё ещё живут по московскому времени.
По курсу слева на фоне тёмного неба огни северного сияния. Трепетно колеблются серебристые столбы. Потом светлые лучи расходятся веером, а правее их возникают лёгкие светлые облака. Увеличиваясь и сливаясь, они сверкают на тёмно-синем небосводе голубовато-прозрачным сиянием, образуя нечто похожее на Млечный Путь.
Увлекшись этим необычным зрелищем, многие из нас не заметили, как вдали заполыхало множество огненно-красных вспышек.
Гроза! Прогноз погоды некстати оправдывается. Мощные кучевые облака поднимаются всё выше, усеянный ярко искрящимися огоньками звёзд «ТУ-104» несется вверх, подальше от грозы.
Постепенно забираемся на высоту более десяти тысяч метров. Мы в стратосфере. Под нами пылает сплошное море огней – так сильны разряды молний.
Наши лидировщики впервые очутились на такой высоте. Они предупреждали нас о грозе, не предполагая, что советский реактивный самолёт, легко поднявшись в стратосферу, может оставить грозовые облака далеко под собой.
Когда стрелка указателя высоты дошла до цифры свыше десяти тысяч метров, капитан Ренеджер спросил у Бугаева:
– А ещё выше можете?
– Выше? Конечно, можем, пожалуйста!
– Нет, нет, не надо! – замахал руками американец, поспешно останавливая Бугаева, который уже взялся за рычаги секторов газа.
Семенков, находившийся в это время в пилотской кабине, спросил Ренеджера, как ему нравится наш самолёт.
– Очень хороший самолёт! Его нельзя сравнить ни с одним из существующих в мире… Это всё равно, что пересесть с лошади на автомобиль. Я бы за такой самолёт наших три дал…
– А я бы шесть… – говорит сидящий рядом Дабсон.
Покидая борт «ТУ-104», капитан Ренеджер сказал:
– Вполне можно было согласиться летать рейсовым пилотом на «ТУ-104». Платили бы хорошо!
Не успели мы миновать один грозовой фронт, как возник другой. Под нами разбушевавшаяся стихия, а вверху бледные мерцающие звезды и холодный свет луны. Снова взбираемся на огромную небесную высоту.
Постепенно разбушевавшаяся стихия угомонилась. Облака начали снижаться, но земли по-прежнему не было видно.
Засверкали огни Бостона. Скоро Нью-Йорк. А связи с землёй всё нет. Возмущения в верхних слоях атмосферы снова прерывают радиосвязь.
Проходит ещё немного времени, и впереди возникает огромный светящийся ковер – Нью-Йорк! Наша высота десять тысяч метров.
Только на подходе к городу удается установить связь с землёй. Начальник военной базы Макгайр полковник Форд сообщает, что метеорологическая обстановка в районе аэродрома сложная – шквальный ветер и дождь. И всё же надо снижаться. Однако командно-диспетчерский пункт даёт нам не сразу разрешение на посадку. Американский пилот объясняет, что аэродром вынужден срочно принять самолёт, у которого отказал мотор…
Наконец посадка разрешена и нашему «ТУ». Сильно болтает, боковой ветер затрудняет пилотирование, тем не менее Бугаев и Девятов мастерски приземляют машину.
5 часов 45 минут по московскому времени, 22 часа 43 минуты по нью-йоркскому. Здесь ещё не закончилось 4 сентября. Посадка произведена на аэродроме Макгайр в штате Нью– Джерси, в ста десяти милях юго-западнее Нью-Йорка.
Нелёгкий путь от Москвы до Нью-Йорка в девять тысяч километров пройден за тринадцать часов двадцать девять минут, а не за двадцать два часа, как писали некоторые зарубежные газеты.
Как и везде, прибытие нашего самолёта в США вызвало большой интерес. Несмотря на ночное время и дождь, около двухсот корреспондентов газет, телеграфных агентств, радио– и телевизионных компаний, прорвав полицейское оцепление, окружили нас.
Я выходил из самолёта последним. Слепящие лучи прожекторов и вспышки «блицев» не позволяли спуститься по трапу. Спасла догадка: вскинув свой фотоаппарат и нацелив его на густой частокол микрофонов, окруживших наш экипаж, я, в свою очередь, дал вспышки «блицем». Это вызвало короткое замешательство среди представителей печати, они прекратили «обстрел». Затем раздался дружный взрыв смеха, послышались весёлые крики:
– Вот это да! Один русский приостановил атаку…
У самолёта я встретил советских журналистов. Представители советской печати взяли первое подробное интервью о нашем перелёте.
Тут наш экипаж подвергся сумасшедшей атаке американских корреспондентов. Они засыпали Бугаева, Семенкова и каждого из членов экипажа вопросами: «Сколько летели до Нью-Йорка?», «Какую держали скорость?», «Много ли у вас таких машин?» Мы едва успевали отвечать. Рассказали, что прилетели на обычном серийном самолёте и пилотировали его линейные лётчики Гражданского воздушного флота, которые уже второй год совершают на реактивных машинах регулярные рейсы на самых различных авиалиниях.
Посмотреть советский реактивный самолёт приехали многие видные американские инженеры, конструкторы, военные специалисты, представители крупных авиационных компаний. Восторженно о самолёте отзывались и американские газеты, и многие американцы. Ясно было, что «ТУ-104» произвёл в США огромное впечатление. И своим полётом он, по словам американской печати, «побил воздушную мощь Запада». А газета «Нью-Йорк таймс» в специальной передовой статье писала, что ввод в эксплуатацию «ТУ-104» был «огромным скачком в авиационной технике».
Аэродром, на котором мы приземлились, – военный. Американские власти не разрешили посадку «ТУ-104» в Нью-Йоркском аэропорту.
Дальность расстояния помешала многим, кто хотел, осмотреть наш самолёт. Правда, и в Макгайре встречающих собралось много. Газета «Крисчен сайенс монитор» писала: «Когда этот самолёт появился в поле зрения под шум собственных моторов, на него устремили взоры сотни людей, собравшихся у заборов из колючей проволоки и несколько часов – почти до полуночи – простоявших здесь в ожидании».
За сотни километров на аэродром Макгайр прибыли двое пожилых людей, чтобы посмотреть советский «ТУ-104». Они русские, давно эмигрировавшие из России в Америку. Администрация им заявила, что «ТУ-104» не прилетит: время по графику уже вышло. А если он и появится, то ночью над Нью-Йорком обязательно зацепит крылом за небоскрёб… В США действительно был случай, когда военный самолёт – тяжёлый бомбардировщик – задел небоскрёб. В результате этой катастрофы сгорело семь этажей дома.
Однако старики остались ждать и все же дождались прилета нашей машины.
Увидев самолёт, они, радуясь и плача, говорили нам:
– По возрасту нам уже не суждено быть в России, а как бы хотелось! Смотришь на «ТУ-104», глаз радуют его красивые формы и весь его внушительный вид. Нам особенно дорого, что машина сделана руками наших соотечественников. Какая тонкая работа! Посмотрели ваш самолёт – и как будто в России побывали! – Со слезами на глазах, растроганные старики жали нам руки.
Тёмная ночь. «ТУ-104» стоит на бетонированной площадке возле служебного здания аэродрома. Экскурсанты и встречающие разъехались по домам. Вокруг самолёта установлены на крестовинах деревянные столбики, в ушки которых протянут канат, опоясывающий со всех сторон «ТУ-104». Вооружённые полицейские охраняют его.
Для наведения порядка внутри самолёта осталось несколько человек, а большая часть экипажа и пассажиры после двадцати часов пребывания в пути проходят двухчасовую процедуру таможенных формальностей. Мы сидим в душном помещении, многие засыпают от усталости.
Чего мы ждём? Что надо делать? Скоро ли отпустят? Никто из нас на эти вопросы ответить не может.
Чиновники с олимпийским спокойствием, жуя резинку, перелистывают нужные и ненужные дела, делая вид, что страшно заняты. После двух часов ничем не оправданного томительного ожидания нас отпускают. Рассевшись по машинам советского дипломатического представительства, колонной в десять автомашин мы отправляемся в Нью-Йорк. Путь нашей колонне прокладывает мощная полицейская машина с красным мигающим светом на крыше. Такая же автомашина замыкает нашу колонну. Мы едем в Нью-Йорк под конвоем полиции.
Русские шоферы-виртуозы лихо мчат нас по хорошей автостраде со скоростью более ста двадцати километров в час.
Расстояние от Макгайра до Нью-Йорка мы проезжаем за два часа. За проезд по дороге от аэродрома до Нью-Йорка с каждой автомашины взыскали по одному доллару двадцать пять центов. Перед спуском в туннель, проходящий под рекой Гудзон, снова плата – пятьдесят центов. За стоянку автомашин – особая плата. Плата за всё – таков закон капитализма!
Не успели мы войти в здание советского посольства в Нью-Йорке, как руководителю перелёта Семенкову вручили несколько депеш. На столах надрывались телефоны.
В 10 часов по нью-йоркскому времени мы были уже на ногах. На проводе Москва. Корреспонденты «Советской России» и «Вечерней Москвы» связались с Нью-Йорком, чтобы получить наши последние сообщения о перелёте.
В эту беспокойную ночь спать нам почти не пришлось. Рано утром мы вернулись в Макгайр, чтобы провести послеполётный осмотр самолёта и подготовить его для следования в обратный путь.
На аэродроме, где уже дожидались желающие посмотреть самолёт, нам предложили перерулить «ТУ-104» на другую стоянку.
По указанию администрации и сопровождающего на рулении капитана Ренеджера, одетого в военную форму, наш воздушный корабль был поставлен на бетонированной площадке возле большого ангара, в котором стоял неуклюжий двухпалубный высокий самолёт.
Мы узнали, что с этой нахохлённой, похожей на пернатого хищника, неуклюжей машины была сброшена первая атомная бомба на Хиросиму. Об этом с восторгом нам сообщил Ренеджер. Но нас такое сообщение мало радовало. Было обидно, что советский реактивный пассажирский лайнер оказался рядом с этой стальной американской «реликвией». Невольно вспомнились жертвы Хиросимы. С тяжёлым сердцем отошли мы от машины. Нет, не для перевозки атомных бомб должны строиться самолёты!
В небе над аэродромом носились реактивные истребители последней марки – «Ф-102».
– Макгайр – место базирования тяжёлых транспортных самолётов, а почему здесь летают истребители? – спросили мы у капитана Ренеджера.
– О да! Их здесь не было, они недавно, только что прилетели, – ответил капитан.
Некоторые американские газеты в те дни писали, что «ТУ-104» якобы ничем не отличается от военного бомбардировщика. А прибывшие в Макгайр истребители «Ф-102» из зоны ПВО Нью-Йорка надежно могут защищать воздушное пространство от противника, с успехом отразят любую атаку русских при налёте на аэродром Макгайр.
Эта дешёвая газетная трескотня понадобилась, чтобы исказить и уменьшить значение нашего перелёта через океан и доказать американской публике, что в Америке, дескать, имеются самолёты получше, чем у русских.
Точно так же, как в Англии, Исландии и Канаде, на аэродроме Макгайр обслуживающий персонал отнесся к нам очень внимательно и заботливо.
Когда нам, например, понадобилось буксировочное приспособление, его быстро соорудили, хотя это было не так просто. Наш экипаж от души поблагодарил американских друзей.
– Ол райт! Мы не забыли военные годы совместной борьбы с фашизмом. Мы и сейчас хорошо можем понимать друг друга и жить в мире, – сказал, уходя от самолёта, старший сержант Сомпсон. (Фамилия его, как и у всех американских военных, была написана на правом кармане форменной рубашки).
Слова Сомпсона заставили вспомнить Бари. Кто знает, может быть, этот же механик Сомпсон и тогда обслуживал наши самолёты. Но если в те грозные годы мы могли находить общий язык, то в послевоенный период надо ещё лучше знать друг друга, добиваться хороших добрососедских взаимоотношений между государствами и народами.
На следующий день экипаж отдыхал. Воспользовавшись свободным временем, мы решили побывать в Нью-Йорке – городе, о котором столько слышали.
Весь день 6 сентября посвятили его осмотру. Конечно, один день – срок очень маленький для ознакомления с таким огромным городом. Это, собственно говоря, было знакомство из окна автомобиля. Гигантский город представился мне скоплением механизмов, в которых теряется живой человек. Видели мы небоскребы, подавляющие собой город, улицы, забитые автомашинами и пестрящие множеством кричащих реклам. Всюду шум, суета и… всюду отсутствие какой бы то ни было зелени. Лишь на набережной, ведущей к зданию Организации Объединенных Наций, мы видели деревья. Немного зелени было ещё в скверике у порта, откуда и начал расти город.
Советским лётчикам довелось побывать в здании Организации Объединенных Наций и даже присутствовать на заседании Совета Безопасности, где как раз в это время выступал представитель Советского Союза.
Полицейские, стоящие у входа, узнав, что мы члены экипажа «ТУ-104», не отобрали у нас пропуска в здание ООН, разрешив оставить их нам на память, как редкие сувениры.
Возвращение
Утром следующего дня начались сборы в обратный путь. Ровно в 13 часов 30 минут по московскому времени 7 сентября сигарообразная машина с надписью «Аэрофлот СССР Л5438» взяла старт.
Итак, новый бросок через океан, на сей раз в обратном направлении. Но теперь мы уже летим на Родину. А домой всегда легче возвращаться.
Корабль сначала ведёт Орловец. На борту те же американские лидировщики, они будут сопровождать нас до Гуз-Бея. В салоне пассажиры, двое взрослых и двое ребят.
– Даже не чувствуется, что мы на такой высоте и что летим с такой скоростью, – замечает кто-то из пассажиров.
Не прошло и часа, а уже Носов объявляет:
– Покидаем берега Соединенных Штатов.
Видимость прекрасная. Под нами синева безбрежного водного пространства, которое нам предстоит преодолеть.
В 16 часов 15 минут мы совершили посадку на знакомом нам аэродроме Гуз-Бей. Обратный путь занял времени на час меньше, чем при полёте в Америку.
Старший нашей группы раздаёт собравшимся на аэродроме памятные открытки «ТУ-104» с датой вылета из Москвы и посадки в Нью-Йорке, а также сувенирные значки.
Фотолюбители фотографируют самолёт. Они просят разрешения снять экипаж вместе с экскурсантами. Одна молоденькая фотолюбительница работала усовершенствованным фотоаппаратом. Только щёлкнет затвором, как тут же раскрывает кассету, снимает тонкий слой бумаги – и снимок готов!
19 часов 15 минут. Подошла моя очередь вести самолёт.
Ни с чем нельзя сравнить те радостные чувства, которые я испытывал перед полётом на «ТУ-104» через Атлантику в условиях Севера и неустойчивой погоды. Чем труднее задача, тем интереснее она для лётчика.
Я занял левое пилотское кресло, подогнав его по своему росту. Осмотрел арматурное оборудование кабины, надел наушники, проверил готовность к полёту экипажа. Через лидировщика попросил разрешения и вырулил на старт.
Разрешение на взлёт получено, и 74-тонная машина плавно покидает землю Канады.
Левым разворотом ложусь на курс девяносто градусов. Как и многим участникам Отечественной войны, этот курс мне особенно знаком – он всегда означал: «Задание выполнено, летим домой».
– Пассажиры чувствуют себя хорошо, – докладывает бортинженер Крупа.
Всё выше в синий небосвод устремляется наша машина. Вот она, заданная высота полёта – десять с половиной тысяч метров. Идём над Атлантикой; она закрыта от нас слоисто-кучевыми облаками.
Штурман по радиолокатору уточняет местонахождение, ведёт расчёт пролёта над контрольным ориентиром. Самолётом теперь управляет автопилот. Моя задача следить за его работой и при помощи рукоятки, установленной на подлокотнике, корректировать действие прибора.
Штурман принимает позывные приводной радиостанции поворотного пункта на берегу Гренландии. На экране извилистой чертой светится береговая линия. Берега закрыты облаками. Меняем курс и проходим мимо этого негостеприимного острова. Бортрадист держит связь с аэродромом Кефлавик. Сообщают – погода там сносная. Уже точно рассчитано время нашего прибытия в Исландию. Слаженная работа штурмана и радиста радует нас, доказывает способность нашего экипажа вести далекие перелёты при полной невидимости земли, при отсутствии радиоориентиров по маршруту.
Приближается время прибытия. Уменьшаю обороты, перевожу самолёт на снижение. Штурман дает расчёт снижения на посадку с прямой. Мы на ближних подступах к аэродрому. Вдруг самолёт ныряет в пепельно-серый туман. Пилотирую по приборам, выдерживаю заданную скорость снижения, чтобы сесть с ходу.
– Заход на посадку разрешён, – переводит лидировщик.
Самолёт выскочил из облаков. Аэродром быстро надвигается на нас. Мгновенно проносимся над ним. Расчеты, переданные с земли, оказались не совсем точными. Разворот один, второй и наконец иду на посадку. «ТУ» низко несётся над землёй. Через мгновение блеснула торцовая часть бетонной полосы. Мы мчимся так быстро, что кажется, будто полоса вот– вот исчезнет и мы проскочим посадочный знак «Т». Но эти опасения напрасны: наша машина уже катится по бетону.
22 часа 01 минута по московскому времени, а здесь ещё совсем светло.
Мы в Кефлавике. Здесь, как помнит читатель, предусмат-ривалась ночевка на обратном пути. Обменявшись мнениями с членами экипажа, Семенков принимает решение продолжать полёт – трасса теперь уже нам знакома, погода в Лондоне хорошая, и нас там принимают ночью.
Во время стоянки жители Кефлавика попросили инженера Колосова показать им внутреннее оборудование самолёта. Разговорившись с ними, Колосов, между прочим, спросил, каковы их политические взгляды.
Один ответил: консерватор.
– А я либерал, – заявил другой.
– Такой молодой, а уже либерал! – засмеялся Колосов.
Этот невинный разговор прервал стоявший рядом полицейский. На древнескандинавском языке он сердито крикнул:
– А ну-ка, либерал, марш отсюда!
Видимо, с либералами полицейский живёт не в ладах.
Спустя полтора часа отдохнувший Орловец поднял наш самолёт в воздух. Взору открылся огненно-красный веер лучей заходящего солнца.
Прощай, страна гейзеров, прощай, светящийся Кефлавик, раскинувшийся у прибрежных отмелей бухты!
Ночь. Мы снова над океаном, потом над Англией. Встают сплошные светящиеся массивы: прямо по курсу Манчестер, справа Ковентри.
Ночной Лондон расцвечен в яркие огни: светло-голубые, ярко-оранжевые, но немало и тускло мерцающих огоньков.
На аэродроме английской столицы мы пробыли три часа сорок пять минут. Москва, как нам сообщили, была сплошь затянута туманной дымкой. Пришлось ждать, пока погода несколько улучшится.
Вылетели только ранним утром.
Мы шли над Берлином, едва забрезжил рассвет. Вскоре огненно-красными лучами озарился восток. «ТУ-104» вступил в воздушное пространство нашей Родины.
И вот наконец так хорошо знакомый аэровокзал родной столицы.
8 сентября 1957 года в 9 часов 10 минут «ТУ-104» приземляется в Москве.
…14 сентября 1957 года во Внукове снова стартовал «ТУ-104». На этот раз он уже шёл по проторённой воздушной дороге Москва – Нью-Йорк и в тот же день доставил на аэродром Макгайр делегацию СССР на XII сессию Генеральной Ассамблеи ООН…
Советская гражданская авиация вписала новую блистательную страницу в свою богатую историю.
7000 километров без посадки
После дальнего перелёта наш «ТУ-104» отдыхает во Внуковском аэропорту. И невольно приходит в голову мысль: подобную машину ждал, но так и не дождался Валерий Чкалов, мечтавший за двое-трое суток обогнуть «вокруг шарика», как любил он говорить о кругосветном перелёте. А в какой восторг пришел бы этот замечательный лётчик, если бы увидел новое «пополнение» славного семейства туполевских воздушных кораблей!
В честь сорокалетия Великой Октябрьской социалистической революции коллектив конструкторского бюро А. Н. Туполева построил ещё один воздушный корабль – «ТУ-114». Этот воздушный гигант можно смело назвать межконтинентальным пассажирским лайнером, способным преодолевать без посадки расстояния от Москвы до Пекина, от Москвы до Хабаровска и, наконец, от Москвы до Америки.
Для глаза бывалого лётчика любой новый самолёт воспринимается привычно, не вызывая особого восторга. Но, когда мне довелось впервые познакомиться с «ТУ-114», нельзя было не поразиться его огромным размерам, его мощным, сильным установкам. Вот гигант так гигант!
Недаром иностранные авиаспециалисты дали самую высокую оценку этому флагману советского воздушного флота.
20 мая 1959 года «ТУ-114» отправлялся в первый пробный беспосадочный перелёт Москва – Хабаровск, участником которого довелось быть и мне.
Впервые в истории отечественной гражданской авиации экипажу линейного флагмана предстоит покрыть путь в 7000 километров без посадки по самой длинной в мире сухопутной трассе на турбовинтовом самолёте с нагрузкой более 15 тонн.
Мерно работают воздушные винты, ритмично напевая свою привычную песню. Через несколько минут скошенные крылья, скользнув по верхушкам кучевых облаков, слегка вибрируя, парят в просторах поднебесья.
Мы на высоте 8000 метров, затем поднимаемся на 10 километров.
Не успели по-настоящему освоиться с окружающей обстановкой, как уже миновали Казань. Прошел ещё час – сумерки перешли в ночь. Мы движемся со скоростью 800 километров в час. Прошло ещё два часа, и мы не заметили, как вечерняя заря сменилась утренней.
Бурятская Автономная Республика. Наш самолёт пролетает её за час. Но разве можно за один час рассказать о её несметных богатствах: о золоте, редких металлах, лесе, пушном звере, об огромных стадах скота, привольно пасущегося на обширных луговых просторах. Столицу Бурятской АССР Улан-Удэ отделяют от Москвы 5000 километров. Писатели Чехов и Короленко в своё время преодолевали это расстояние за несколько месяцев, современный железнодорожный экспресс проходит в пять суток, а наш самолёт – за один бросок, немногим более 6 часов.
Наш гигантский серебристый корабль минует один рубеж за другим. Густой занавес из облаков то раскрывает землю, то прячет её. Иногда этот занавес подпирает крыло самолёта. Тогда огромное тело нашей машины начинает слегка вздрагивать. Но это ни у кого не вызывает беспокойства. Штурвал в руках опытнейших пилотов. А в этот полёт подобрались и вовсе замечательные люди.
Взять, к примеру, командира корабля Алексея Петровича Якимова. Он лётчик-испытатель, мастер своего дела, 18 лет поднимает в небо новые самолёты, как говорится, даёт им путёвку в жизнь. За 25 лет летной работы он освоил 90 типов самолётов! Для этого нужны выдающиеся способности, отличная техническая подготовка, высокое искусство. И не случайно ему выпала честь первому лететь на таком корабле, как «ТУ-114».
Второй командир корабля, Михаил Алексеевич Нюхтиков, рос и совершенствовал своё умение вместе с развитием отечественной авиации.
С 1927 года он за штурвалом. За свою многолетнюю работу летал более чем на 220 типах различных самолётов, всё время воспитывая новые молодые кадры, передавая им свой богатый опыт лётчика-испытателя. За успешное испытание и освоение реактивных самолётов ему присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Через иллюминаторы видна уже широкая лента поблёскивающего на солнце многоводного Амура. Мы приближаемся к Хабаровску.
Наш полёт совпал по времени с награждением Андрея Николаевича Туполева.
Макет самолёта «ТУ-114» среди прочих советских экспонатов на Брюссельской Международной выставке вызывал восхищение авиационных специалистов.
Международная авиационная федерация (ФАИ) присудила Генеральному конструктору Андрею Николаевичу Туполеву золотую медаль.
Надо полагать, что жюри, присудив высшую награду за лайнер, который не имеет себе равного, приняло во внимание всю многолетнюю работу Туполева и его соратников над самолётами для гражданской авиации. Первый перелёт по замкнутому кругу через Европу совершил самолёт «АНТ-9» в 1929 году. Вёл его М. М. Громов. Он же на самолёте «АНТ-25» поставил в своё время мировой рекорд длительности полёта по треугольнику без пополнения горючим – 72 часа. На самолёте «АНТ-25» Чкаловым и Громовым совершены рекордные полёты через Северный полюс в Америку. Самолёты «АНТ» первыми садились на Северном полюсе.
Наконец, первый в мире реактивный пассажирский самолёт «ТУ-104» побывал почти во всех столицах мира.
Последний отпрыск «семьи» «АНТ-4» – «ТУ-114» накануне вручения его творцу Андрею Николаевичу Туполеву золотой медали совершил дальний и в сегодняшних условиях сказочный перелёт без посадки из Москвы в Хабаровск за 8 часов 42 минуты, пройдя около 7000 километров, и в тот же день возвратился в Москву.